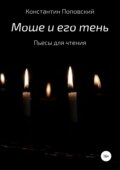Константин Маркович Поповский
Монастырек и его окрестности… Пушкиногорский патерик
– Вы бы еще их себе сами знаете, куда бы засунули, – сказал на прощание расстроенный старичок. Потом он опустил стекло и плюнул вслед уходящему Ивану, унося с собой недобрые воспоминания о деревеньке Страхино и квитанции на довольно приличную сумму, полученную инспектором совершенно, между прочим, легальным путем.
Как только старый Опель отчалил, все присутствующие разразились громкими аплодисментами и криками «Браво!», давая понять, что прекрасно осознают смысл происходящего.
С тех пор жизнь Ивана Загребухи обрела новый смысл и значение.
Поднявшись рано утром, он первым делом прислушивался, не гудит ли где, подъезжая, машина, и только потом садился завтракать. Заслышав же звук мотора, Загребуха опускал шлагбаум, поправлял фуражку, после чего встряхивал и надевал давно потерявший цвет китель и выходил на дорогу, независимо помахивая своей палочкой.
– Нарушаем, значит, – привычно говорил он, подходя к машине нарушителя. – На знаки не смотрим, думаем, наверное, что у нас все с рук сойдет. А это не так.
Нарушитель, подавленный одним только явлением посреди леса загадочной фигуры автоинспектора, терялся, лепетал что-то про больную племянницу и бензиновую дороговизну и наконец, сдавался, отмусолив шелестящие купюры, которые переходили из его рук в карман нашего Загребухи.
С годами у Вани выработался определенный ритуал, во время которого он доводил до сведения нарушителя нехитрые гаишные истины и при этом умудрялся легко выудить из клиента деньги, и притом таким образом, что, отдавая их, нарушитель думал, что он делает это совершенно добровольно и даже с пониманием.
Между тем, дни шли один за другим, похожие друг на друга, как близнецы, и скрашиваемые лишь появлением тети Розы, которая по-прежнему исправно приезжала по четвергам, хотя никакой почты уже давным-давно в окрестностях не было.
– Все стоишь? – говорила она, слезая с велосипеда. – Ох, и попадешь же ты, Ванюша, в историю, ох, и попадешься, милый друг. Узнаешь тогда, как рабочий человек себе на жизнь зарабатывает.
– Закрой форсунку, цапля, – отвечал Иван, что считалось у него верхом нежности. – Они меня за человека не считают, а я, стало быть, должен их поганые деньги охранять?.. Так, что ли?..
Насчет поганых денег был, конечно, небольшой перебор, потому что деньги-то, как раз, были самые настоящие, в чем можно легко было убедиться, заглянув в большой грязный мешок, который валялся под кроватью и был плотно набит тысячерублевыми купюрами. Купюры были припрятаны и в разных других местах, вполне серьезно и надежно, а не так, как тогда, когда по неопытности он спрятал их в печку и сам же эту печку позже развел.
– Ты вот наворовал столько, сколько мог унести, – продолжала тетя Роза свою любимую тему, – а того не знаешь, как трудно людям нынче живется, хоть в петлю полезай. Вот уж Освободитель придет, сразу, небось, небо с копеечку покажется!
Но сбить с толку Ивана Загребуху было не так-то просто.
– Если такая хорошая, – говорил он, снисходительно улыбаясь, – то зачем ты тогда мои деньги берешь, раз они такие грязные?
– А затем, – язвительно отвечала тетя Роза, – что мы эти деньги бедным пролетариям раздаем, а не пускаем их на пьянство и другие глупости, как некоторые.
– Вот пусть ваши пролетарии делом-то и займутся, – говорил Иван, начиная раздражаться. – Вон грибов полный лес, ходи, да собирай, да суши. Вот тебе и закуска.
– Вот делать им больше нечего, как грибы собирать, – тетя Роза даже плевала с досады.
– Ну, будет тебе, – говорил Ваня, не любивший душеспасительных бесед и всячески их избегавший. – Лучше давай-ка погрешим напоследок, все хоть польза будет, – и он для наглядности делал вид, что расстегивает ширинку. – Смотри, потом пожалеешь.
– Типун тебе на язык, алкаш несчастный, – говорила Роза, но при этом почему-то смущенно хихикала, а, отъезжая, получала традиционный шлепок слегка ниже талии…
Так прошел еще один високосный год, а потом и другой, а после него и еще один, тоже високосный, и третий, и много таких же годов, которых никто не считал, но власть их на себе чувствовал с каждым годом все сильнее.
За время, прошедшее с начала поселения в деревеньке Страхино, Иван окончательно огрубел, охамел и особо с проезжими держателями шелестящих купюр не церемонился.
Постепенно и прежняя жизнь ветшала, портилась, ломалась и зарастала грязью. От прежней роскоши остался телефон, который никогда не звонил, и черно-белая палочка регулировщика, которую Иван слегка усовершенствовал, так что она могла теперь светиться в темноте и играть гимн, так что Ване не надо было больше тратиться на фонарики и батарейки.
Вот так они и жили месяц за месяцем, год за годом, пока, наконец, им не стало казаться, что никакого мира просто нет, а есть только эти леса да болота, так что если пойти дорогой на восток, то довольно скоро упрешься в соседнюю деревеньку по имени Шпыри, а если пойдешь на юг, то попадешь в Чертовы Болота, а после Шпырей и Чертовых Болот уже ничего нет и быть не может.
Время, между тем, все шло и шло, добавляя морщины и болезни, и вот однажды, заглянув в большой осколок зеркала, Ваня вдруг увидел там совершенного незнакомого человека – неопрятного, одутловатого, одетого в давно засаленный китель, который никогда не застегивался по причине абсолютного отсутствия пуговиц.
В эту ночь Ваня Загребуха вышел из дома и, опустившись на четвереньки, страшно завыл на поднимающуюся над лесом полную луну. Он выл и выл, и, похоже, Небеса наконец услышали его голос. Во всяком случае, совсем скоро в деревеньке Страхино произошло событие, которое изменило всю его прежнюю привычную и понятную жизнь, а заодно уже и жизнь тети Розы.
Случилось, что много лет молчавший телефон вдруг ожил и громко дал о себе знать раскатистой трелью, как будто радуясь, что наконец-то пришло и его время.
В трубке гудело и свистело, а затем шум стих и чей-то мужской голос сказал:
«Если не сегодня, то когда?.. И если не ты, то кто же?»
Потом трубка замолчала и, помедлив немного, сказала:
«А чтобы не было никаких недоразумений, посылаю тебе верного Ангела Своего, который не даст тебя в обиду и проведет через врата Адовы, и да не убоишься ты ни стрелы летящей, ни меча обоюдоострого».
Тут в трубке что-то запищало, и она смолкла.
А Иван Загребуха почему-то подумал, что если бы у Господа Бога и в самом деле был бы небольшой божественный театрик, то следующая мизансцена должна была бы называться «Чудо у деревни Страхино» и иметь своим содержанием полную историю Вани Загребухи, рассказанную каким-нибудь второстепенным ангелом в перерывах между делами.
И верно.
Не успел мужской голос в трубке умолкнуть, как прямо из близрастущих кустов показался мужчина в грязной военной куртке и клетчатых штанах. В руках он держал увесистую палку, но при этом имел вид самый жалкий и даже растерянный. Он посмотрел сначала на Ивана, потом на тетю Розу, после чего сказал срывающимся, тонким голосом:
– Поторопиться бы надо, господа хорошие!
Внезапно он несколько раз подпрыгнул, а потом наставил на присутствующих свою палку так, словно она, действительно, могла стрелять.
– Ты кто? – спросил Иван, думая, что где– то уже видел это нелепое лицо.
– А то ты будто не знаешь, – с горькой усмешкой ответил новоприбывший.
– Всех не упомнишь, – начал было наш инспектор, но собеседник опередил его. Он взмахнул рукой, быстро откашлялся и сказал:
– Я Ангел тысячи дорог, не знающий, в какую сторону ему идти. Ангел, светящийся ночью, забывший свое имя, Ангел, приходящий в твоих снах, чтобы обмануть тебя и завести туда, откуда возвращаются лишь раз в тысячу лет.
Отбарабанив эту ахинею, назвавшийся Ангелом вдруг раскрыл руки крестом и медленно взмыл над землей, где и застыл в этой совершенно нелепой позе, погрузив стоящих внизу в глубокое молчание.
Молчание длилось, впрочем, недолго.
Набрав полные легкие воздуха, тетя Роза вдруг присела, а затем разродилась страшным криком, подпрыгивая и помогая себе сжатыми кулаками.
– Совсем баба рехнулась, – сказал Иван, толкая Розу в бок и одновременно глядя на висящего в небесах Ангела. – Или ты никогда ангелов, что ли, не видела?.. Так смотри, а вопить вовсе не обязательно.
– Да это же он, он, – услышал Иван справа громкий шепот тети Розы. – Освободитель… Да что же ты, Ваня!
– Освободитель, значит, – сказал, наконец, Иван, и голос его стал подобен умершему зимой камышу. – Вот если бы он нас от подполковника Савушкина освободил – тогда я понимаю. А так ведь и самолеты летают. Эй!…Как ты висишь-то там, невесть за что цепляясь?
– Все вопросы – не ко мне, – сказал Ангел, болезненно морщась, словно само присутствие человека было ему неприятно. – Мое дело поставить вас в известность о вашей дальнейшей судьбе, а все остальное меня, слава Богу, не касается.
На какое-то время над поляной вновь повисло молчание. Потом Иван открыл рот и спросил по-прежнему мертвым голосом:
– Ну и где же она, судьба эта наша?
А Ангел ответил:
– Да вот же она, Господи… Или ослепли?
И сразу темнее стал небосвод, и ветер, до того дремавший, закружил, задул, поднимая в воздух сухие прошлогодние листья и гуляя в деревьях и высокой траве. Но хуже всего был не ветер, а слабое далекое мерцание, которое Иван сразу заметил и сразу догадался, что это такое.
– Знаешь, что это? – спросил он у тети Розы, и тогда тревога и страх впервые послышались в его словах.
– Да откуда мне знать-то? – сказала та, все еще находившаяся под впечатлением от явления Ангела. – Ты же у нас самый умный, не я.
– Я так и думал, что ты ничего не знаешь, – огрызнулся Иван, и тете Розе вдруг показалось, что в его словах помимо понятного смысла прячется еще и что-то другое – то, чего она никогда прежде не слышала и чего почему-то немного побаивалась.
– Хотите ругаться – ругайтесь, – сказал между тем Ангел, – только помните, что на все про все у вас есть в запасе десять минут и ни одной секундой больше.
– Десять минут на что? – спросил Иван, хотя уже догадывался, какой ответ получит.
– Десять минут на все, – сказал Ангел, демонстрируя, что даже Ангелам свойственно бывает иногда обнаружить легкую, едва заметную человечность.
– Десять минут, – повторил Ангел, опускаясь на землю. Потом он лег в высокую траву и, глядя в небо, запел вполголоса какую-то невразумительную песенку, подтверждая лишний раз мнение господина Сведенборга относительно музыкальности ангелов. И пока он пел, тетя Роза подошла к лежащему Ангелу и, протянув к нему руки, сказала:
– Благослови, батюшка!
– Какой там еще «благослови», – сердито сказал Ангел. – Вам разве телефон не звонил?
– Телефон нам звонил, – сказал Иван.
– Так и делайте, как вам сказано, – сказал Ангел, не переставая петь и вновь опускаясь в высокую траву.
Но сбить с толку Ивана было не так-то просто.
– Там, между прочим, сказано, что вы должны провести нас через врата Адовы, – да не убоимся чего не надо, – сказал он, радуясь, что ему удалось так легко совладать с этим сложным поворотом речи.
– А я что делаю, по-вашему? – сердито сказал Ангел и показал рукой на все ярче разгорающийся над лесом огонь. – Или, может, вы никогда адского огня не видели?.. Так вот он. Сейчас будет тут, если не уберетесь сию минуту прочь!
– Как же мы отсюда уберемся-то, родимый? – спросила тетя Роза и даже руками развела, пасуя перед такой трудностью. – Мы ведь по облакам ходить не приучены.
– А велосипед-то на что? – и Ангел ударил ногой по хорошо надутой шине. – На этой машине вас ни один огонь не достанет. К тому же и времени больше не осталось, чтобы выбирать. Пора.
И верно.
Огонь – прозрачный, безмолвный, холодный и таинственный – уже пробегал по высокой траве, по кустам и кронам деревьев, уже вспыхивал то там, то тут, уже поднимал к небу ледяные языки адского пламени.
– А куда же, миленький, нам бежать-то, – вновь заголосила тетя Роза. – Нас разве ждут где?
– А то, – сказал Ангел, делаясь почему-то мягче, так что даже голос его немного изменился. – Поедете и все узнаете. Главное – никуда не сворачивайте.
– И как оно там-то? Боязно? – не удержавшись, спросил Иван.
– Отчего же боязно. Вовсе даже не боязно, – отвечал Ангел. – Сначала вас, конечно, пересчитают, потому что учет должен соблюдаться, будь хоть ты в Раю, хоть в Преисподней. А потом, как полагается, в баню сведут, вымоют, вычистят и при этом так потом одеколоном набрызгают, что хоть святых выноси.
– Врешь! – сказал Иван, – Не может того быть, чтобы все вокруг одеколоном забрызгались. Это ведь не парикмахерская какая.
– А вот поедешь туда, сам и увидишь, – отвечал Ангел. – А теперь садитесь и отправляйтесь, пока огонь не разошелся.
– Ой, миленький, – запричитала вновь тетя Роза. – Как же это мы с тобой вдвоем поместимся-то?
– Вот так и поместимся, – сказал Иван, усаживая тетю Розу и усевшись сам. – Или, может, ты хочешь на дьявольском огне погреться?.. Так мы это тебе быстро устроим, только скажи.
– Да поедете вы, наконец, или нет! – закричал выведенный из терпения Ангел и даже крыльями сердито затрепетал, раскрыв их на мгновение – два белоснежных.
– А деньги? – растерянно заторопился Иван. – Как хотите, но только без денег мы не поедем.
– Вот твои деньги, – Ангел достал откуда-то из-за спины знакомый грязный мешок. – На первое время хватит.
– Другое дело, – сказал Иван и тронул педали, чтобы через мгновение исчезнуть в быстро наступающих ранних сумерках.
62. Мелочи из жизни монастырского духовника: ради пользы дела
Совсем другие мелочи наполняли жизнь монастырского духовника, отца Иова. Самой неприятной из них была, пожалуй, та самая мелочь, что отец наместник всеми правдами и неправдами пытался выудить у отца Иова хоть какую-то полезную информацию, которую тот мог услышать на исповеди в качестве монастырского духовника.
– Ну, что народ говорит? – спрашивал обыкновенно наместник, вынырнув внезапно перед отцом Иовом и делая вид, что на самом деле его совершенно не интересует, что говорит народ, а вопрос свой он задает исключительно из одной только вежливости.
– Да как всегда, – отвечал отец духовник, нервно потирая руки. – Ничего такого.
– Небось все наместника ругают, – говорил наместник, внимательно глядя на отца Иова и не решаясь спросить у того в открытую.
– Да где ругают, ничего не ругают, – отвечал Иов, не зная, как увести наместника от этой неприятной темы к какой-нибудь теме приятной и неопасной. – Тут все больше про душевные переживания, про грехи да про раскаянье, а чтобы кого ругать – так ведь это все-таки исповедь.
– А то я без тебя не знаю, что такое исповедь, – говорил отец наместник, но от намерения узнать, что там было, на исповеди, отказываться не собирался.
– Ну вот, допустим, Цветков, – спрашивал он, не отрывая взгляда от тоскующего духовника и слегка прищурив правый взгляд, что было верным признаком, что беседа могла затянуться, и затянуться надолго. – Разве такой удержится, чтобы не потрясти основы?
– Ну, уж и основы, – говорил отец Иов, внутреннему зрению которого вдруг представилось, что, говоря об основах, отец наместник имел в виду, возможно, самого себя, что при весе в сто с чем-то килограмм могло, конечно, сойти и за основы. – Да уж какие там основы, отец наместник? Глупость одна.
– Вот и я тебя спрашиваю, какие? – не слушая его, сердито говорил наместник. – Или, может, ты думаешь, я тебя просто так спрашиваю, оттого что мне больше делать нечего?.. А ты представь, что на моих плечах весь этот дурдом, и какая ответственность лежит на мне, вот тогда, может, и поймешь.
– Так ведь тайна исповеди, – неуверенно говорил отец духовник, прекрасно сознавая, какую глупость он только что сморозил.
– И что, что тайна, – говорил наместник, радуясь, что можно, наконец, говорить открыто и без намеков. – А если кто-то тебе расскажет, допустим, про отца наместника или вон про отца благочинного какую-нибудь ложь, да потом это пойдет гулять по монастырю, думаешь, на пользу будет, если ты это скроешь от меня или, допустим, вон от благочинного?
Лицо отца духовника выражало сразу несколько разноречивых чувств.
– Ну, тогда, конечно, – неуверенно говорил он, думая, какую такую неизвестную ложь мог бы рассказать братии этот самый таинственный «кто-то».
– Вот и я говорю, – продолжал отец наместник, радуясь, что дело, наконец, тронулось с места. – Сам подумай, полезно ли это для Церкви, когда распускают о предстоятеле поганые слухи, а он ничего про это не знает и сделать ничего не может?
– Да какие слухи-то? – спрашивал отец Иов, пожимая плечами и озираясь, словно ожидал вдруг увидеть эти самые слухи, которые прятались по соседским кустам и не обещали ничего хорошего.
– А вот такие, – уклончиво отвечал наместник, глядя куда-то вдаль. – Ты за это не волнуйся, какие. На то я и наместник, чтобы знать такие вещи наперед и вас, дураков, учить.
– И все-таки непонятно, – говорил отец Иов, собираясь, видимо, сообщить еще кой-какие дополнительные соображения, но отец наместник соображения эти ждать не стал, а вместо этого добавил, с сожалением глядя на непутевого духовника:
– Да разве это мы для себя стараемся?.. Не для себя ведь, для Церкви. Сам подумай… А если мы не для себя, а для Церкви, то и спрашивать нас будут по всей строгости божественных законов, так что если мы здесь оплошаем, то на том свете нам уже снисхождения не будет, а будут одни только неприятности и огорчения.
Произнеся эту речь, отец наместник немного медлил, собираясь с мыслями, потом глубоко вздыхал, словно нехотя принимая на свои плечи тяжелый и ответственный груз, от которого зависела если не судьба всей Церкви, то, по крайней мере, судьба вверенного ему монастырька, – и говорил:
– Поэтому давай-ка сделаем так, чтобы не я за тобой всякий раз бегал, а ты ко мне приходил и докладывал – что и как… И без всяких там при этом фокусов, пожалуйста… Для Бога работаем, не для дяди.
63. Седина
1
Часто удивлял своих прихожан отец наместник, часто ставил в тупик и их, и подведомственных ему монахов, но так, как удивил их в это воскресение, не удивлял, пожалуй, никогда.
Первым, кто обратил на это внимание, был отец Иов, который, конечно, сделал вид, что ничего не заметил, хотя выражение его лица свидетельствовало о прямо противоположном.
Чуть позже Иов постучал в келию отца Александра и, не дожидаясь, пока тот подаст голос, толкнул дверь и спросил:
– Видал?.. Ты видал?
– Чего видал? – спросил отец Александр.
– Наместника, – сказал Иов, понижая голос и оглядываясь. – Неужели не видел?
– Да что не видел-то? – спросил отец Александр, теряя терпение. – Я много чего не видел, если вспомнить.
– Седина, – сказал Иов, заходя в келью, хотя его никто и не звал. – Помнишь, у наместника вот тут, сзади была седина?.. И еще тут?
– И что? – спросил отец Александр, не понимая.
– А то, что ее больше нет. А нет ее, потому что он ее покрасил… Теперь понял?
– Да ладно, – сказал отец Александр, проявляя, наконец, интерес к словам отца Иова. – Как он может краситься, если он монах?.. Подумай сам.
– Говорю тебе, что он покрасился… Пойди сам посмотри, если не веришь.
– И пойду, – сказал отец Александр. – Вот будет обед, тогда и посмотрим.
Но до обеда отец Иов успел обойти несколько келий, так что многие из монахов оказались в курсе неприятного события еще до всякого обеда.
Как и водится, мнения немедленно разделились.
Одни из монахов, самые бесстрашные, считали, что если известие подтвердится, то следует объявить отцу наместнику войну, тогда как другие считали, что ничего особо страшного не произошло, и поэтому следует отнестись к наместнику снисходительно и с пониманием.
– В конце концов, он ведь мужик, – сказал отец Фалафель, приводя в смущение некоторых насельников, – а если он мужик, то должен подать себя своей самке во всей красе. Там подмазать, там почирикать, а там и задницей повертеть.
– Так то – птички, – сказал отец Маркелл, глядя куда-то в сторону. – А мы говорим про монаха, да еще про наместника.
– А мы чем хуже? – весело сказал отец Фалафель, чем рассмешил многих присутствующих. – Природа везде живет по одним и тем же законам. Хоть ты птичка, хоть ты игумен, хоть крокодил.
– Ну и что же это, по-твоему, за птичка, перед которой наш наместник себя подает? – спросил Маркелл, заметно краснея.
– Ну, а я откуда знаю, – пожал плечами отец Фалафель и снова засмеялся. – Птичка, она ведь и есть птичка. Чирк – и нету!
– А может, это чудо? – сказал послушник Цветков, который как раз находился в монастыре между своим пятым и шестым изгнанием, и в это время обычно отличался повышенной религиозностью. – Господь ведь нас не ставит в известность относительно своих чудес, а лепит их, когда и где захочет.
– Если ты про себя, – сказал отец Александр, – то лучше не скажешь.
В ответ Цветков хотел что-то возразить, но потом раздумал и промолчал.
Впрочем, всем было не до Цветкова.
К двум часам пополудни весь монастырь напоминал кипящую кастрюльку. Всем хотелось убедиться, что отец Иов не ошибся и отец наместник действительно дал маху, что было непростительно с его умением и опытом.
Обед начался с подозрительного хождения монахов и трудников по трапезной.
Некоторые подходили просто так, без видимой причины, делая вид, что помогают отнести на кухню грязную посуду, тогда как другие подходили, делая вид, что поправляют свечи, а треть монахов просто ходила туда-обратно, раздражая отца наместника, который в делах кухонных в первую очередь ценил порядок.
– Что? Что? – говорил он, чувствуя, что что-то в монастырьке происходит не так, как следовало бы, но что именно, оставалось не вполне понятным.
– Да что это с вами сегодня! – кричал он на очередную попытку поправить свечи или забрать грязную посуду. – Сами не едите, так дайте хоть другим поесть!
Монахи просили прощения, кланялись и продолжали искоса наблюдать за игуменом, надеясь сообща разобраться в этой тревожащей их загадке, ответ на которую, впрочем, был в конце обеда уже для многих совершенно ясен.
Возможно, на следующий день все это нелепое происшествие было бы напрочь забыто, если бы на сцене не появился новый актерский состав, играющий совершенно новую пьесу, чье название было Пушкиногорские прихожанки, а сама история рассказывала о том, что любовь побеждает смерть, что вызывало неподдельный восторг у этих самых прихожанок, достаточно быстро сообразивших, что это явление может иметь далеко идущие последствия, о чем, впрочем, вскоре стало известно всем без исключения.
История этой новой пьесы вкратце была такова.
Первой, чуть ли не на следующий день после события, покрасилась до того мало заметная прихожанка по имени Фатинья, которая когда-то давно приехала в Пушгоры вслед за отцом Нектарием да тут и осталась, с кротостью и пониманием терпя характер своей путеводной звезды.
За Фатиньей последовала еще одна прихожанка, которую звали Маргарита и которая была из цыганок. Покрасившись, она как-то подстерегла Фатинью в темном переулке и с криком: «Не видать тебе нашего игумушку!» выдрала у нее клок крашеных волос.
(Следует заметить, что в дальнейшем такие уличные разборки стали делом вполне привычным, давая время от времени богатый материал для исследования темы «Психология религиозного женского сознания» или «Женщина перед лицом небесного идеала», а то и просто «Синдром спасителя
Между тем поток крашеных и перекрашенных прихожанок как-то сразу стал стремительно нарастать. Каждая пейзанка хотела явить себя во всем великолепии и прикладывала к этому множество усилий, не жалея для этого ни средств, ни времени. Так или иначе, за текущий месяц пятнадцать прихожанок пожелали изменить свою внешность, превратив монастырскую церковь в некое подобие осенней клумбы.
Жалкие попытки остановить манию украшательства, естественно, ни к чему хорошему не привели. Отец Ферапонт было попытался привести подведомственный ему народ в чувство, однако был остановлен недовольным пшиканьем, ненужными вопросами и демонстративным оставлением храма, так что вместо проповеди «Иоанн Златоуст и его борьба с украшательством» ему пришлось прочесть проповедь «Отчего красота угодна Богу», которую он произнес по личному распоряжению наместника, который, в свою очередь, внимательно ее слушал и согласно кивал головой.
Проповедь имела большой успех.
В ней говорилось о том, что нам следует ежедневно благодарить Господа за то, что он создал такие прекрасные вещи, как Солнце и Луну, а также рассказывалась малоизвестная история про святого Варфоломея, который с помощью красоты обуздал врага рода человеческого и даже сумел привести его к покаянию.
Прихожанки доставали платки и рыдали.
Бумажные иконки с изображением св. Варфоломея разошлись в один день, так что пришлось заказывать новую партию, что, конечно, не входило в планы отца игумена.
Дальше – больше.
Чтобы труд перекрашиваний не оставался незаметным, прихожанки произвели некоторые изменения в своем туалете. Например, они стали носить платки с некоторой вольностью, то в виде косынок, целомудренно открывающих грудь, то в виде шляпок, открывающих шею, а то и в виде Бог знает чего, открывающего нечто, к чему, похоже, нельзя было придраться, но что, тем не менее, выглядело крайне непристойно и, мягко выражаясь, нецеломудренно.
Про летучие запахи фальшивой «Шанели» и не менее фальшивого одеколона «Путин» говорить не приходилось.
Монахи роптали и изобретали разные отговорки, чтобы не идти на исповедь и не встречаться с прихожанками.
Впрочем, все было бы, наверное, не так уж и страшно, если бы не одно серьезное явление, о котором все мы как-то позабыли, но которое рано или поздно все равно должно было появиться на горизонте религиозной жизни Пушкинских гор. Называлось это явление «Митрич» и было знакомо каждому православному пушкиногорцу.
2
Митрич был большим папой римским, чем сам папа, и поэтому от него можно было ожидать всего, чего угодно. Был он из коммунистов, но при Горбачеве успел поменять ориентацию и решительно сделался православным, уверяя всех, что Господь сам призвал его к служению, наградив даром провидца, получившего от Небес разрешение собирать деньги на построение нового храма, с чем архимандрит Нектарий, кстати сказать, был решительно не согласен.
Службу Митрич знал плохо, петь на клиросе – не пел за отсутствием слуха и голоса и по всем статьям оставался девственно чист в отношении того, во что он верил, считая, что Троица – это Богородица, Христос и святой Николай, а русские основали город Иерусалим в честь княгини Ольги, а еще для того, чтобы не пускать арабов в святые места. Но больше всего любил он побороться за чистоту православия, положив в основание своей борьбы Краткий Катехизис, с которым всегда сверял те или иные сложности, которые время от времени, конечно, возникали.
Подвигов, которые Митрич совершил, защищая православную веру, было не счесть.
Во-первых, он разгромил и сжег до основания католическую библиотеку.
Затем разрушил временный католический молельный дом.
Добился, чтобы семья баптистов, где было десять детей, навсегда уехала из Пушкинских гор, не вынеся различных выходок Митрича и его клевретов.
Объявил войну господину Шломо Шнеерсону, публично обвинив его в том, что он лично распял Христа, потому что читал, что всякий еврей уже в силу своего еврейства несет личную ответственность, распиная в своем сердце Спасителя, о чем можно было прочитать во всех заслуживающих доверия средствах массовой и не массовой информации.
И так далее, и тому подобное.
3
Между тем, дошла до ушей Митрича и история с сединой.
Будучи не совсем в ладах с пушкиногорским игуменом, Митрич посчитал случившееся добрым знаком и воспарил, надеясь с Божьей помощью одолеть супостата, под которым он понимал не то врага рода человеческого, не то самого наместника – сказать что-нибудь определенное по этому поводу было трудно.
Первое, что сделал Митрич, вступая на тропу войны, была экскурсия его сторонников к зданию местной Администрации, где был установлен стенд с фотографиями местных знаменитостей под общим названием «Лучшие работники Пушкинских гор». На одной из цветных фотографий был изображен сам наместник, который со снисходительной усмешкой смотрел с высоты на все, что творилось внизу.
– Глядите, – сказал Митрич, показывая одним пальцем на фотографию, а другим на здание Администрации. – Или вы не узнаете того, кто перед вами?..
– Узнаем, узнаем, – слегка гудела толпа, предвкушая веселые развлечения.
– Или мы не знаем, что наша святая Церковь отделена от этого нечистого государства? – продолжал Митрич, забираясь все выше и выше.
– Знаем, знаем, – шумела толпа и негромко аплодировала.
– Тогда почему здесь висит эта фотография? – кричал Митрич, размахивая руками. – Или ему законы не писаны?
Толпа гудела.
– А может, нам не нужен такой игумен, который нарушает законы и не отходит от зеркала, обмазавшись разными иностранными кремами?
Толпа, уже знающая про игуменскую седину, хохотала и свистела.
Чей-то камень пролетел над головами и попал точнехонько в лоб архимандрита, изображенного на фотографии. Посыпались стекла. Толпа отхлынула, а Митричу пришлось спасаться бегством, что основательно добавило ему популярности.
Следующий митинг тоже случился совершенно стихийно. Толпа вновь собралась у здания Администрации, и сборище это было вновь ознаменовано битьем стекол и угрозами в адрес единственного еврея в поселке, Шломо Марковича Шнеерсона.
– Затем ли мы проливали свою кровь, чтобы прихорашиваться у зеркала? – спрашивал между тем Митрич у толпы и сам же себе отвечал:
– Да не за каким хреном!
И тряс над головой красным флажком.
Толпа, в свою очередь, скандировала: «Митрича в президенты», а сам он скромно стоял у стены, раскланиваясь и улыбаясь.
По прибытии ментовской машины Митрич вновь бежал, что вновь существенно прибавило ему популярности, так что его рейтинг достиг (по подсчетам местной независимой рейтинговой компании) почти восьмидесяти шести процентов.
Далее события развивались стремительно и неудержимо.
21-го октября отец Нектарий получил подметное письмо, в котором, в частности, говорилось:
«Яко змей и василиск, ходишь ты среди доверчивого народа, который уже устал от твоих безобразий и готов пролить свою праведную кровь, только бы очистить нашу святую землю от таких недоразумений, как ты. Плачь и вой, ибо час возмездия Божия близок».
– Испугал, – сказал отец игумен и бросил письмо в мусорную корзину.
27-го октября раздался телефонный звонок, и неизвестный голос сообщил наместнику, что у него еще есть время, чтобы собрать свои вещички.
– Тьфу на вас, – сказал наместник и негромко выругался.
Однако утром 29-го октября, приведя себя в порядок и откушавши завтрака, поданного прямо в покои, отец игумен почувствовал вдруг в воздухе что-то подозрительное.