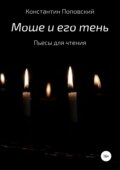Константин Маркович Поповский
Монастырек и его окрестности… Пушкиногорский патерик
58. Пожар 19 февраля 2011 года
1
Никто, конечно, не сомневался, что это Бог посетил обитель 19-го февраля 2011 года и забрал с собой послушника Виктора, который задохнулся в дыму и не смог выбраться из горящего помещения.
Стоящий на отшибе двухэтажный монастырский домишко вспыхнул так, словно его перед этим три дня поливали бензином. Загорелось ночью, сразу на всех этажах, и – как сообщили приехавшие полчаса спустя пожарные – случилось это от плохой электропроводки, которую давно уже было пора поменять на хорошую. Не обошлось, впрочем, и без героев. Послушник Андрей получил несколько ожогов, вытаскивая из горящего дома два газовых баллона, а отец Зосима сломал себе ногу, геройски выпрыгнув со второго этажа, чтобы спасти монастырский архив. Даже благочинный Павел таскал из трапезной ведра с водой, пока в изнеможении не опустился прямо на землю, тяжело дыша и размазывая по лицу черный от пепла пот. Что же касается отца наместника, то про него рассказывали, что в это трагическое время он, словно новый Наполеон, смотрел на пожар со второго этажа административного корпуса, откуда время от времени подавал советы и торопил суетящихся внизу трудников и монахов, тем самым, несомненно, поддерживая в них боевой дух и крепость веры.
Впрочем, ни боевой дух, ни крепость веры не сумели уберечь на сей раз ни послушника Виктора, ни самого двухэтажного уютного дома.
Прошло совсем немного времени, и какие-то нехорошие люди стали собирать по избам и квартирам деньги на восстановление сгоревшего дома, хотя никто их на это не уполномочивал. А какие-то другие, но тоже нехорошие люди, прикинувшись отцом Нектарием, собирали деньги для семьи покойного послушника Виктора и делали это не только в Пскове, но и в Москве, и даже в далеком Череповце, а это был, конечно, форменный непорядок.
Дошло, конечно, и до Нектария.
– И как это прикажите понимать? – говорил он, выходя после обеда из трапезной и жмурясь на еще холодное мартовское солнышко. – Чужие люди собирают, да еще большие деньги, а вы и того не можете собрать!.. А еще православные, прости Господи. Какие же это православные, если не можете денег собрать в память о сгоревшем товарище.
– Да уж, – говорил стоящий рядом Павел и негромко смеялся, показывая свои желтые лошадиные зубы. – Другие бы, небось, давно бы уже насобирали сколько надо.
– Так ведь это мошенники же, – говорил кто-то из стоящих рядом. – Их милиция ищет.
– Что милиция, какая такая еще милиция, – сердился наместник, который не любил, чтобы его сбивали с мысли. – Вас хоть милицией, хоть чем стращай, а денег от вас все равно не дождешься, хоть осиновый кол у вас на голове теши.
– Мы собирали, – робко возражал кто-то из монахов.
– Собирали, – с отвращением говорил Нектарий, разглядывая подавшего реплику монаха. – И где оно, собранное-то это?.. Разве же так собирают?.. Да так вы и ста рублей не соберете.
– И пятидесяти не соберут, – вновь подал голос Павел.
– Да как же собирать-то, батюшка? – спрашивал кто-то из толпы. – Научи.
– Как собирать, как собирать, – ворчливо говорил отец наместник, по-прежнему с отвращением оглядывая стоящих. – Доверие должно быть сначала, вот что. Чтобы человек видел, что ты такой, каким ему кажешься, а не такой, как какая-нибудь змея подколодная, которая тебя же укусит да еще и обманет… А ты не так. Ты с человеком постой, поговори, пожалуйся сначала, посетуй, введи его в курс дела, чтобы он проникся нашим положением, а уж потом только говори про деньги, а не так, как некоторые, которые еще ничего не сказали, а руки уже протянули и норовят последнее отнять, ну в точь, как разбойник лесной.
– Да как же тогда? – спрашивал вновь кто-то неугомонный.
– Ласково, ласково, вот как надо, – объяснял наместник, помогая себе жестикуляцией. Ласково, а не так, чтобы от тебя во все стороны народ разбегался.
– Сколько же это времени-то уйдет, – с сомнением говорил кто-то из монахов
– А ты думал, это тебе раз-два и собрал, так, что ли?
– Он, наверное, думал, что денежки сами ему в подол посыплются, – сказал Павел и снова показал свои зубы. – Нет, милый, шалишь. Тут тоже потрудиться надо и к тому же изо всех сил. Потому что какой же ты монах, если не заботишься о своей обители?
– А как же Христос-то, батюшка? – спрашивал с другого конца какой-то непонятливый монах. – Христос-то ведь говорил «не стяжай», да «раздай».
– И правильно говорил, – изрекал отец наместник, который давно уже твердо знал, что надо отвечать на всякого рода сомнительные вопросы вроде этого. – Так ведь ты же не в свой карман собираешь, а для матери православной церкви. Чувствуешь, какая разница? – добавлял он, презрительно улыбаясь, словно удивлялся, что должен объяснять кому-то такие простые вещи.
– И все-таки не монашеское это дело,– негромко сказал отец Мануил.
– А ты смиряйся, – сердито сказал отец наместник. – Ишь, не монашеское… А может, как раз монашеское, тебе-то откуда знать?
Впрочем, и без того приведенный аргумент возымел свое благотворное действие.
Морща лбы, монахи расходились по своим богоспасаемым келиям.
– И все-таки вы пособирайте, – сказал наместник, поворачиваясь, чтобы отправиться к себе. – Стыдно ведь. Чужие люди собирают, а свои не могут и какую-то ерунду собрать… Стыдно.
2
Иногда мне начинает казаться, что в один прекрасный день вся эта старая, изношенная временем проводка, проложенная в наших домах, вдруг заискрится «от тайги до британских морей», вспыхнет и запылает вместе со всей этой нелепой, несчастной, страдающей страной, которой, по словам одного русского философа, было суждено, когда придет время, родить Антихриста.
59. Подметные письма
В году этом обрушились на монастырь несчастья одно хуже другого. Сначала уехал на лечение отец Нектарий и по забывчивости не оставил братии ни копейки, посчитав, должно быть, что Дух Святой не даст ей погибнуть, а там, глядишь, и он подъедет.
Потом задохнулся в раскаленной бане один из трудников, и отец Нектарий поручил отцу Тимофею вытащить тело, позвонить в милицию и вызвать врача. Тело отец Тимофей вытащил и позвонил в милицию, но при этом ругался так, что проходивший мимо благочинный испугался и чуть было не подавился куском пирога, который нес в корпус.
А в начале мая свалилась нежданно-негаданно комиссия из Москвы, прибывшая по чьей-то кляузе, в которой описывались строительные подвиги отца Нектария.
И еще многим печалям попустил Господь пролиться над нашим монастырем, а сразу после Пасхи стала ходить по монастырю подметная листовка, искажающая истинный образ отца наместника, а потом и еще несколько, и еще, так что скоро, куда ни пойдешь, везде наткнешься на эти бумажки, которые иногда приносили и вешали на воротах и стенах, а иногда они приходили по почте на имя отца Нектария или отца благочинного, о чем можно было догадаться по страшным крикам, которые, по получении Нектарием письма, раздавались из его окон.
Что же до содержания этих подметных писем, то тут сомневаться не приходилось, ибо все это содержание исчерпывалось глупостями, клеветой и угрозами, а также пошлыми шутками, которые унижали честь и достоинство всех обитающих в монастыре насельников.
Так, одно из писем, найденное в притворе, обещало натопить из благочинного отца Павла столько жира, что хватит прокормить всех монахов в течение года, что было, конечно, и глупо, и оскорбительно.
Еще одно похожее письмо говорило о том же, но только обещало натопить жир не из благочинного, а из отца наместника, которого давно уже следовало приготовить в духовке с восточной приправкой и сельдереем.
Многие подметные письма обличали и отца Нектария, и благочинного отца Павла в том, что они живут в роскоши, в то время как большинство людей вокруг едва сводят концы с концами, уподобившись Спасителю, которому негде было приклонить головы.
Слыша это, отец Нектарий немедленно приходил в ярость и кричал что-нибудь вроде того, что не позже конца весны он искоренит это крапивное семя и заставит его с уважением относиться к отцу игумену, которого определил на это место Сам Господь!
Время между тем шло, а количество подметных писем нисколько не убавлялось, то принося с собой известия о том, что отец Нектарий и отец благочинный открыли в сбербанке счета, то уличая отца благочинного в том, что он проиграл в карты старинный образ в серебряном окладе, а то и сообщая о прямом шантаже с требованием положить под камень сто тысяч рублей в ответ на молчание относительно того, что случилось когда-то в Сочи. Со временем, правда, подметные письма стали в жизни монастыря чем-то естественным и понятным, так что никто, кажется, уже не обращал на них никакого внимания. Кроме, разумеется, самого отца Нектария, который по-прежнему воспринимал любое подметное письмо как личное оскорбление с вытекающими отсюда последствиями в виде криков, ругани, гнева, плохого настроения и обещаний добраться до мерзавцев, которые рано или поздно получат по заслугам.
Ненависть отца Нектария к подметным письмам была столь велика, что он пообещал за каждое письмо, найденное и уничтоженное, десять рублей, после чего ушлые трудники придумали незамысловатый фокус, который заключался в том, что они сами писали письма отцу Нектарию и отцу Павлу, а после приносили эти письма наместнику и требовали от него обещанного. Впрочем, обещанного они так и не дождались и, оскорбленные в своих лучших чувствах, стали писать, но уже не на бумаге, а на монастырских стенах, и из этих надписей отец Нектарий узнал о себе много интересного.
60. Еще кой-какие мелочи из жизни наместника
1
Ничего из ряда вон выходящего при правлении отца Нектария, конечно, не происходило. Текла обычная, скучная, ординарная жизнь, которая так же мало имела отношения к евангельским словам, как «пес – лающее животное к Псу – звездному созвездию», – если воспользоваться для примера словами Спинозы.
Интересным в этой жизни был, пожалуй, только вопрос, который невольно задавал себе каждый, кто не совсем еще утратил чувство живой реальности, и который звучал так: как и почему могло случиться такое, что удивительные, глубокие и ни на что не похожие чувства и слова послужили причиной этой самодовольной многовековой мешанины, которая осмеливается называть себя христианством, хотя ничего общего с христианством никогда не имела и иметь не будет?
2
В обязанность отца Фалафеля входило, среди прочего, и проведение экскурсий по монастырю. За каждую посетители расплачивались всегда в конце рассказа экскурсовода.
Как-то подловив отца Фалафеля после очередной экскурсии, отец Нектарий спросил его:
– Интересно, а куда ты деньги деваешь?
– В кассу, – ответил отец Фалафель.
– Приноси мне,– сказал отец Нектарий.
И оставив отца Фалафеля в некотором недоумении, удалился.
3
Другой раз, подходя как-то к трапезной, я услышал истошные вопли отца наместника:
– Нету у меня денег!.. Нету!.. Нету!.. Одному на отпуск, другому еще на что-то, вон идите к Павлу, у него просите!
– Так ведь не дает Павел-то, – говорил печальный голос собравшегося в отпуск монаха. – К вам послал.
– Я же тебе сказал – нету у меня денег!.. Нету!.. Нету!.. Одному, вон, на ферму подай, другому – на лекарства, лучше бы вы больше о душе думали, чем по отпускам-то шляться!
– Как же я без денег поеду? – спрашивал монах, впрочем, уже догадываясь о том, что он сейчас услышит.
– А это уж не моя забота, – говорил отец Нектарий, злобно глядя на монаха. – Сюда попал, значит, и отсюда выберешься.
И не давая монаху времени опомниться, закричал:
– А ты смиряйся!.. Потому что нечего тут лясы точить!.. Лучше о душе подумай!
И розовея от праведного гнева, повернулся, чтобы уйти.
4
С изгнанием Евтихия и с назначение келарем Корнилия питание монахов заметно ухудшилось.
Назначение Корнилия келарем было четким и продуманным планом, а вовсе не ошибкой, как думали многие. Молитвенник и аскет Корнилий, еще совсем молодой, но в монастыре уже почти десять лет, был беззаветно предан Нектарию именно как игумену, искренне разделяя известную православную точку зрения о том, что с ростом чина иерарха растет у него и количество благодати, которую даруют ему Небеса. При этом особо отмечался чин игумена, о котором говорили, что он гораздо тяжелее, чем прочие чины, потому что, кроме смирения самого игумена, ему приходится усмирять еще и монастырских насельников, а среди них попадались иногда такие, что хоть святых выноси.
Что же касается Корнилия, то он, во-первых, не воровал, во-вторых, как я уже говорил, был предан Нектарию, в-третьих, считал аскезу чем-то само собой разумеющимся для братии и поэтому кормил братьев из рук вон плохо, так что среди монахов стоял постоянный ропот, который не могли заглушить ни выбивающиеся из сил повара, ни строгие увещевания игумена, который, впрочем, ел вместе с братией только для виду, а настоящий обед вкушал у себя, в своих апартаментах на втором этаже…
Назначение Корнилия означало также конец многим поблажкам, которые позволяли себе монахи в отношении еды.
Во-первых, сама кухня была теперь совершенно недосягаема, ибо Корнилий приказал не открывать ее никому, кроме тех, кто получил на это благословение наместника.
Во-вторых, некоторые совсем безобидные прежде вещи, как, например, яичница или сладкий чай и жареная картошка, поддерживающие бренное существование вечно голодного монаха, были теперь запрещены дотошным Корнилием, а настаивающие на них отсылались, опять-таки, к игумену.
– Отец наместник не благословил, – говорил Корнилий, выставив перед собой руку и героически защищая вход на кухню.
– Совсем сдурел? – спрашивал отец Тимофей, наезжая всеми своими ста килограммами на щупленького, но бесстрашного Корнилия. – Хочешь, чтобы мы тут с голоду померли?.. А ну, пусти!
– Отец наместник… – вновь начинал Корнилий, в то время как отец Тимофей, отодвинув его от плиты, приступал к приготовлению яичницы. – Придется мне сказать отцу наместнику…
– Да хоть Господу Богу, – говорил отец Тимофей, колдуя над сковородкой. – А лишать монаха последней радости – это каким изувером надо быть, а?
– Уж, наверное, отец игумен лучше знает, – говорил Корнилий, но его уже никто не слушал.
5
Не раз и не два ездили Нектарий и Павел в Киев, где учились они в киевской духовной академии. Чему они там выучились, сказать не могу, но вот рассказы о том, что они ели в тамошних ресторанах, слышал я не от одного монаха и поэтому вполне этим рассказам доверяю.
Иногда брали с собой кого-нибудь из молодежи, Кирилла или недавно только рукоположенного отца Николая. Николеньку. С Николенькой обошлись по-свински – напоили его так, что он потерял сознание.
– Сволочью будешь, если не выпьешь за отца настоятеля, – сказал Павел. И добавил:
– И за митрополита.
Вернувшись, после каждой поездки Кирилл с упоением рассказывал, что ели и что пили святые отцы в богоспасаемом граде Киеве.
Его рассказы подтверждают и рассказы Николеньки о том, как ел Нектарий в ресторане.
Заказывал он – рассказывал отец Николай – сразу два первых, два вторых и целую кучу закусок.
«Что у вас там? Телятина, давайте. Две. А тебе чего? Ну, давайте три».
Затем все поедалось с огромным количеством водки.
Не эти ли печальные воспоминания послужили причиной героического поступка Николеньки, который в один прекрасный день, не получив на это никакого благословения, отправился в Псков, где и предстал перед светлыми очами владыки Евсевия? Представ же, он упросил владыку выслушать его и затем битых два часа рассказывал ему о том, что творится в монастырьке при отце Нектарии. Владыка слушал его внимательно, делал заметки в блокнотике и даже в каком-то месте прослезился и дружески потрепал Николеньку по плечу, а потом поступил, как всегда, мудро и дальновидно, а именно, не дал никакого хода этому сомнительному делу, Николеньку же за его заслуги и героизм сделал игуменом небольшого монастырька под Псковом и, видя это, ангелы небесные восславили мудрость и прозорливость Творца.
6
Жаркий летний день.
Апартаменты отца Нектария.
У окна сидит Нектарий, за столом – келейник Маркелл.
Скучно.
Внезапно звонит телефон. Маркелл берет трубку и говорит: «Алло». Потом смотрит на Нектария, который отрицательно качает головой: «А его сейчас нет. Позвоните позже». И вешает трубку.
Нектарий: Я тебя благословил?
Маркелл: Что?
Нектарий: Я тебя благословил трубку взять?
Маркелл: Нет.
Нектарий: Так чего ты ее тогда берешь?.. Сколько тебе еще раз повторять – все делается по благословению, а не тогда, когда тебе приспичит… Понял?
Маркелл: Понял.
Нектарий: Вот и посмотрим, как ты понял.
Вновь звонит телефон.
Никто не подходит.
Маркелл смотрит за окно.
Телефон звонит.
Скучно.
Нектарий (сердито): Ты что, сдурел? Телефон звонит, оглох ты, что ли?
Маркелл: Вы сами сказали – по благословению.
Нектарий: Так ты его попроси сначала, благословение-то!.. Вот ведь урод!
Маркелл: Благословите трубку взять.
Нектарий: Чего ее брать-то, если уже никто не звонит?
Лето.
Солнце.
Жарко.
Скучно.
В голову приходят всякие мысли.
Большей частью – непристойные.
7
Было у игумена любимое время, когда, откушав вечернего чаю, садился он, прозвенев ключами, в свое бездонное кресло у окна и, достав из сейфа пачку дел, погружался в чтение, раскладывая все эти досье на монахов одному ему известным образом.
Что уж и говорить, любил отец игумен эту работу, любовно подшивал справки, отчеты, билеты, тем более что из этих бумажных папочек можно было узнать много интересного, например, что отец Мануил сидел в тюрьме за уклонение от воинской обязанности, а отец Тимофей, напротив, в тюрьме не сидел, но был сослан в Новоржев вместе с будущим отцом благочинным за то, что распространяли среди братии ложные слухи об отце игумене.
Еще можно было узнать из этого источника, что отец Иов имел в Новороссийске брата, который работал чуть ли не на коньячном заводе, а послушник Тихон, хоть никаких братьев не имел, зато не раз леживал в психиатрической больнице с непонятными и пугающими диагнозами.
И так далее, и так далее, и так далее.
Похоже было, что отцом Нектарием владела какая-то странная страсть к увеличению этого бумажного архива, так что подловив кого-нибудь на какой-нибудь ерунде, он немедленно говорил: «Пиши объяснение. Да поподробнее».
Своя история была, конечно, и у отца Тимофея, которому принадлежало огромное досье с кучей бумажек разного вида и происхождения.
Когда это личное дело отца Тимофея прибыло в епархию, все хохотали, читая его.
Из него, в частности, можно было узнать следующее:
«Опоздал на одну минуту, поскольку хотел донести чемодан пожилому человеку».
Или:
«Опоздал на три минуты на службу из-за интимных обстоятельств».
Или:
«Ушел без благословения за монастырь, потому что заблудился и искал дорогу».
Или:
«Случайно назвал игумена (отца Нектария) неприличным словом, от которого тот слегка огорчился. Считаю свое поведение неправильным».
И все такое прочее.
8
Между тем, не всегда все сходило с рук отцу Нектарию. Однажды, проходя мимо одного из послушников, тишайшего и вежливейшего П. который даже младшим по возрасту говорил «вы», хоть ему самому было уже за пятьдесят, Нектарий сказал, глядя на испачканный подол его подрясника: «У тебя что, менструация, что ли?», на что вежливейший и деликатнейший П. с ходу, не раздумывая, а по одному только наитию Духа Святого, въехал кулаком в физиономию отца Нектария, да еще, кажется, добавил после ногой и, кажется, даже что-то сказал, отвечающее моменту.
Конечно, потом с него содрали подрясник и выгнали из монастыря вон, но зато вся братия после этого ходила неделю с мечтательным выражением на лицах.
61. Незаконченная история одного автоинспектора
Между городом Остров и городом Новоржевом лежат дремучие леса и бескрайние просторы необработанных полей, то разворачивающихся до самого горизонта, то вновь пропадающих в высоких лесах, чтобы через несколько минут вновь вынырнуть у ближайшего поворота.
Дорога, ведущая из Острова в Новоржев и из Новоржева в Остров, как правило, бывает пуста, если не считать, конечно, брошенные дома и редкие, невзрачные деревеньки, время от времени встречающиеся на пути у дороги.
Впрочем, одно местечко могло, пожалуй, привлечь к себе внимание.
Называлось оно Страхино и при этом вполне отвечало своему имени, оставаясь чем-то страшным, безнадежным и унылым настолько, что даже птицы небесные – и те не гнездились где-нибудь поблизости от этой деревеньки, а предпочитали селиться в соседней, благо та была не слишком далека.
Главной достопримечательностью Страхино были, без сомнения, три двухэтажных дома, когда-то построенные колхозом для счастливых колхозников и их детей, а теперь заброшенные, зияющие провалами окон и, по всему, готовые развалиться, как только представится для этого подходящий случай.
Дома эти и вправду поражали своим зловещим видом, который мог бы быть еще более зловещ, если бы в левом углу крайнего дома, на первом этаже, не мерцал легкий электрический огонек, свидетельствующий о том, что, несмотря ни на что, где-то совсем близко все равно есть счастливая жизнь, которую никто и никогда не сумеет отобрать.
Огонек горел в комнате, которую занимал Иван Васильевич Загребуха, когда-то младший ефрейтор автоинспекции, а теперь Бог знает кто такой и, уж во всяком случае, – не верный сын советского народа.
Все на свете имеет свою историю, имел ее и выпускник облегченных милицейских курсов Ваня Загребуха, судьбы которого мы сейчас и коснемся.
Поступив после восьмилетки в младшую школу милиции, сирота Ваня на собственной шкуре узнал, что такое гранит науки и с чем его едят. Учиться в школе было нелегко, но зато по окончании ее Иван твердо усвоил, что такое гидрант и отчего начальство следует приветствовать прежде, чем оно тебя заметит.
Отметив вместе с друзьями окончание милицейской школы, Ваня Загребуха явился в богоспасаемый город Псков, в котором ему предстояли аттестация и распределение.
– С такой фамилией только в Автоинспекции и работать, – пошутил псковский подполковник Савушкин, о котором говорили, что он видит человека насквозь, так что тот еще не вошел в кабинет, а полковник уже знает, куда и зачем следовало его отправить.
Полистав для проформы дело юного инспектора и оглядев его с ног до головы, подполковник сказал:
– В конце концов, ведь кто-то должен быть на этом посту, верно? Вот я, например… Могу работать где угодно, но Родина послала меня именно сюда, а значит, я помогаю своей Родине, не думая о себе и всегда готовый взять из рук соседа выпавшее знамя… Или у вас, молодой человек, другое мнение?
Перспектива поднять выпавшее из чьих-то слабых рук знамя была, конечно, малоприятна, но еще менее приятными были мягкий взгляд и доверчивая улыбка подполковника Савушкина, обещающего в случае чего отправить слишком уж разборчивого и строптивого инспектора куда-нибудь в Якутскую область, возвращение из которой было крайне и крайне проблематично.
Возможно, приняв все это к сведению, новоиспеченный инспектор не стал делать опрометчивых заявлений, но ограничился одной сакраментальной фразой, которую помнил еще со времен своих коротких штанишек и фильма про Константина Заслонова.
– Служу Советскому Союзу, – сказал он, щелкая каблуками и отдавая честь, да так лихо, что произвел впечатление даже на подполковника, так что тот быстро оформил направление, поздравил Ваню с вхождением в братский союз автоинспекторов – и больше его никогда Иван Загребуха не видел.
А Родина повернулась к нему деревенькой с сомнительном названием Страхино, откуда уже уехал к тому времени последний колхозник, а число жителей перевалило за семь.
Следует сказать, что в те далекие времена высокое начальство ставило любопытный эксперимент, суть которого сводилась к тому, что одиноких курсантов и выпускников облегченных милицейских школ селили прямо на местах сельскохозяйственных работ, чтобы они не тратили попусту бензин и время на переезды, а, выспавшись и быстренько позавтракав, приступали бы незамедлительно к работе, на которую никогда не опоздаешь и которая всегда под рукой. Говоря несколько отвлеченно, новые фантазии начальства были похожи больше на военные поселения времен светлой памяти Аракчеева и Николая, с той только разницей, что военные поселения показали себя в жестокий и немилосердный век, тогда как начальственная фантазия демонстрировала себя в эпоху развитой демократии и всепобеждающего плюрализма.
Впрочем, как и все прочие эксперименты, и этот был вскоре забыт, однако для самого Вани Загребухи событие это имело решающее значение. Осев по распределению в деревеньке Страхино, на первом этаже разваливающегося двухэтажного дома, Ваня уже был готов приступить к своим прямым обязанностям, как вдруг однажды утром получил уведомление на гербовой бумаге, из которого следовало, что Иван Загребуха отчислен из личного состава Автоинспекции в связи со смертью этого последнего.
– Ошибки, конечно, случаются, – говорила привозящая два раз в неделю почту тетя Роза, которая как раз и доставила эту гербовую бумажку. – Вон на прошлой неделе тоже пришел один клиент деньги получать, да так и помер у кассы, только успел сказать хря-хря и готово.
– А при чем здесь хря-хря? – спрашивал Иван, нервно потирая руки и стараясь понять смысл нелепой бумажки. – Тут написано: «В связи со смертью последнего», а я не последний. Я вообще-то автоинспектор. Между прочим, это понимать надо.
– Вот мы и понимаем, – тетя Роза, как могла, старалась помочь попавшему в переплет инспектору. – Мы это так понимаем, что они тебя, бедолагу, опять обнесли, так что справедливости у них не дождешься. Хоть хря-хря кричи.
– Да что это за хря-то такое?
– А я откуда знаю? – сказала тетя Роза, не отличавшаяся в речах большой изысканностью. – Говорят так.
– Поеду тогда в Псков, – фыркнул Ваня.
– Ой, в Псков! – и Роза залилась молодым, рассыпчатым и веселым смехом, на который оборачивались, как правило, все окрестные мужики. – Ждали тебя там, в Пскове, как же, дожидались, родимого… Ведь ты теперь кто?
– Кто? – спросил Ваня, а в ответ получил заразительный, веселый смех тети Розы.
Такой же смех раздавался и в разного рода псковских канцеляриях и учреждениях, куда Ваня Загребуха заходил, чтобы, наконец, уяснить себе происходящее. Стоило ему только открыть рот и завести свой печальный рассказ, как присутствующие начинали улыбаться, потом усмехаться, затем неприлично хихикать, а потом принимались хохотать, хотя никаких причин для смеха, вообще-то говоря, не было. Отдышавшись, они махали Ване рукой и отсылали его в соседнюю дверь, или на соседний этаж, или в соседнее учреждение, или даже прямо в нашу белокаменную столицу, уверенно объясняя, что «там все решат».
Русского человека легко разобидеть по самому пустяшному поводу. А вот вернуть его в первозданное состояние всегда значительно труднее.
В тот знаменательный, клонящийся к закату день дверь, ведущая в занимаемое Иваном Загребухой помещение, распахнулась, и на пороге ее возникла фигура, которая даже на расстоянии излучала обиду и желание поскорее отомстить своим обидчикам, кем бы они ни были.
Одета фигура была в старые джинсы, китель и фуражку – все, что осталось от его предшественника, погибшего в неравной борьбе с беглым цирковым медведем, о чем писали газеты. Китель, правда, перекосило, потому что он был на два размера меньше, но зато кокарда у фуражки была так начищена, что в солнечную погоду ее сияние можно было увидеть с другого берега озера. Фигура несла какое-то непонятное сооружение, которое при ближайшем рассмотрении оказалось простым шлагбаумом, который Иван и установил возле заброшенного киоска Союзпечати, злобно бормоча проклятия и даже как будто танцуя какой-то дикий, но животрепещущий танец, в котором кратко излагалась вся печальная история Ивана Загребухи.
– Ты что это учудил? – спросила тетя Роза на следующий день, когда увидела это самое творение злобы человеческой и человеческого же отчаянья.
– А что? Не нравится?
– Ты государственную дорогу начисто перегородил, касатик, – сказала тетя Роза, подъезжая ближе. – А если война?
– Какая еще война? – Иван лениво рассматривал тетю Розу. – Совсем ты со своим велосипедом сбрендила с горя!.. Пойдем лучше, я тебе покажу, от чего дети бывают.
– Дурак ты, Ваня, – сказала тетя Роза, разворачивая свой велосипед. – Тебе лечиться надо, а ты вон на свободе гуляешь, того и гляди – кого-нибудь по ошибке зашибешь.
– Хорошо бы подполковника Савушкина, – мечтательно произнес Иван, который все еще не простил свою автоинспекцию, а вместе с ней и всю поднебесную полицию.
– С Савушкиным или без Савушкина, а только помяни мое слово, Ваня, придет Освободитель и всех освободит. Тогда бедные станут богатыми, а богатые – бедными. Скоро уже.
– Да будет тебе ерунду-то молоть, – Иван не терпел разговоров с мистическим уклоном. – Кому он нужен, этот ваш Освободитель.
– А тебя и спрашивать не будут, – и тетя Роза, радуясь удачному ответу, отбыла на своем велосипеде прочь.
Впрочем, на следующий день жители деревни Страхино, числом около пяти, собрались возле воздвигнутого шлагбаума посмотреть, как будет исполнять свои прямые обязанности Ваня Загребуха.
А надо сказать, что исполнял он их с великим старанием и даже страстью, пользуясь великой заповедью рыцарей дорог: «Не позаботишься о себе сам – не позаботится никто».
Первая машина, которая остановилась у шлагбаума, была, судя по всему, древним Опелем, перекрашенным когда-то в совершенно немыслимый цвет. Из машины вылез тех же лет старичок, при взгляде на которого почему-то вспоминался Платон Каратаев. Впрочем, старичок был бодр, весел и улыбчив. Поздоровавшись с подошедшим Ваней, он сказал:
– Гляжу и удивляюсь. Тут сроду никаких шлагбаумов не было.
– А теперь, значит, будут, – отвечал Ваня, протягивая руку, чтобы взять у старичка документы. – А вы бы лучше, чем шлагбаумы считать, на свою езду бы оборотились. Или вы думаете, что эти знаки не для вас повешены?.. Думаете, наверное, что если тут глухомань, так все можно. А это не так.
– Какие же это знаки, интересно, – сказал старичок, озираясь. – Я знаков не нарушал.
– А кто же их нарушал тогда? Может, я?.. Это что, по-вашему, тут висит?
И действительно. Два или три знака, оповещавшие водителей о том, что им следует снизить скорость до тридцати километров в час, висели у дороги, но висели так хитро, что увидеть их можно было, только подъехав к ним почти вплотную, так что ни о какой пользе от них автолюбителям не могло быть и речи.
Состоявшийся затем обмен любезностями вывел Ваню Загребуху победителем и принудил старого автолюбителя признать этот очевидный факт путем перевода его из обыденного случая в надежный денежный эквивалент.