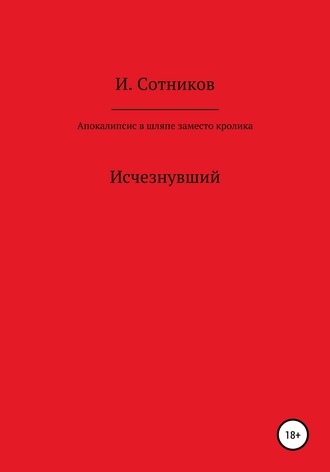
Игорь Сотников
Апокалипсис в шляпе, заместо кролика
Глава 12
Новые открытия и прозрения.
– Есть кто? – и вот спрашивается, для чего и какие цели преследовала Клава, задаваясь этим вопросом по заходу к себе домой так тихо, что, пожалуй, кроме неё этого вопроса никто и не смог бы услышать.
Хотя не будем столь пристрастны к Клаве, на которую в последнее время столько всего сложного и необъяснимого навалилось, а сейчас ей очень страшно, хоть она и оказалась у себя дома, который на неё сейчас смотрит не прежней приветливостью домашней обстановки и комфортом, а он поглядывает из каждого мало освещённого угла чужими глазами, и так и ждёт, когда она оступится, даже несмотря на то, что она здесь всё знает. Правда, она уже это своё знание не будет категорично отстаивать, интуитивно чувствуя, что в доме произошли пока для неё незримые изменения. А вот какие, то это она сейчас, вот таким интересным способом (с помощью подсказчика со стороны) и пытается выяснить.
Ну а то, что в доме кто-то побывал, то это не плод её воспалённого страхом сознания, а для этого есть и буквальные основания – Иван Павлович ведь обещался к ней заглянуть через окно в ванной. Так что вполне вероятно, что он уже заглянул, и ещё не ушёл. Вот она и рассчитывает, что на её вопрос откликнется именно он, а не кто-то ещё другой. А вероятность того, что ей в ответ будет отклик кого-то другого, – ожидаемо крайне неприятного и пугающего Клаву до нервной тряски в теле человека, – не только не меньшая, а даже большая, чем обнаружить в доме Ивана Павловича. Который хоть и обещал ей злым и ледяным голосом (а это что-то, да значит; как минимум, Иван Павлович самоуверенно на себя смотрит), что присмотрит за теми невыносимыми людьми, кто решил не давать ей покоя, но кто знает этих людей. И не окажутся они более самоуверенными и проворными людьми по сравнению с Иваном Павловичем.
И только он соберётся за этими людьми присмотреть (что это на самом деле означает, Клаве доподлинно неизвестно), как они, раз, и опередили его в этом деле, хорошенько приложив биту к его голове. После чего Ивану Павловичу и нет никакого дела до окна на втором этаже Клавиного дома, через который он собирался незаметно для этих, как оказывается, дальновидных и предусмотрительных парней-костоломов, пробраться в дом. И теперь какой ему интерес о Клаве думать, ему бы сейчас о себе подумать, что тоже уже запоздалое решение – нечем, весь мозг вытек.
И Клава, что-то подобное предполагая и, подозревая за этими людьми, – а встреченный ею в автобусе жуткого вида тип, а затем те двое в кафе, чем не подтверждение самых страшных её опасений и догадок насчёт тёмной сущности тех людей, кто так взял в осаду её дом и теперь не даёт ей и шага вступить без своего присмотра, а позволь она оступиться и не в ту сторону свернуть, – в сторону правоохранительных органов, – то они ни перед чем не остановятся, чтобы убедить её в ошибочности своих действий, – палец Тёзки отдельно от него ей пришлют, – стараясь не дышать и быть невидимо потише, на ватных ногах шла к дому. Где у неё была ещё мизерная надежда на свет в окне дома, указывающей ей на её не одинокость в этом мире, в противостоянии со всей этой тёмной силой, которая затаилась в чаще лесополосы и со зверином оскалом мрачной чащи ведёт за ней наблюдение.
Но света в окне нет, и Клаве, сглотнувшей холодного вечернего воздуха, только и остаётся, как во всём положиться на собственные силы. – А если бы свет горел, то я бы и не знала, как на него реагировать. – Подумала Клава вполне для себя резонно. Что говорило о том, что она уже устала отчаиваться, видя, как на все её не пожелания сбываются самые грустные и жестокие ожидания и не пойми кого (ясно, что проведения, а никак не человека, которого в итоге всегда выставляют за человека, кто всё это и ожидал).
И хотя в Клаве наметилась рецессия мысли, всё-таки она не самый отважный человек, и она просто боится всей этой стоящей перед ней и вокруг неизвестности. И она, чтобы сильно её не распугивать, и не давать повод ей оформиться в такую для Клавы известность, с которой она не желает иметь никакого дела (и убежать от неё не сможет), подойдя к входной двери, вначале прислушивается к происходящему в доме, а уж только затем, ничего там шумного и сбивающего на нервные мысли не услышав, плавно вставляет ключ в пазы замка. Затем выдерживает небольшую паузу, и так задумано: в момент делает пару оборотов ключа, открывает дверь, в неё заныривает, затем опять ключ в замок и, прижавши её плечом, в свой оборот на замок дверь.
Ну а как только с этой стороны опасность дверью ограждена, можно и повернуться лицом к новой опасности, которая со своей вероятностью затаилась в темноте дома. Куда с вызовом посмотрела Клава и начала вглядываться в эту темноту. Что мало что ей дало, и вот тогда-то и прозвучал этот её призыв, – лучше к Ивану Павловичу, – откликнуться, и хватит уже ей раздирать в страхе душу.
Но видимо не хватит. И тогда Клаве опять приходится идти по выбранному кем-то для неё пути. – Но со включенным светом. – Поставила своё твёрдое условие незримому переговорщику Клава. И, не давая незримому противнику и переговорщику в одном лице времени на обмозгования этого своего условия, начинает с помощью выключателей и подаваемого с помощью него света в лампы, отвоёвывать у темноты пространство в своём ещё пока доме.
И все эти её действия по освещению внутренних пространств дома приобадривают её, и она, вдохновлённая успехом в противостоянии с темнотой, а по ней так, с тёмными силами во главе с тёмным королём, начинает чувствовать, что её противник не столь всемогущ (да трус и всё тут), и при должном к нему подходе, он вполне побеждаем.
И на этом подъёме душевных сил, Клава, отвоевав не просто большую часть своего дома, а заняв стратегически важные точки, высоты и пути сообщения, – она светом отрезала противнику все выходы к входным дверям, плюс все пути коммуникации в виде лестницы на второй этаж и коридоров, этой транспортной артерии дома, тоже остались за ней, – приблизилась к главной стратегической точке её дома – гостиной. И за кем останется гостиная (пока что она находится в руках тёмных сил), за тем и останется в итоге это поле противостояния.
И Клава, понимая всю важность этого момента, прежде чем предпринять последнюю решительную атаку и, потянувшись рукой, нажать выключатель, решает сделать рекогносцировку лежащей перед ней в темноте гостиной. Где в любом месте может затаиться её предполагаемый противник, так же как и она понимающий важность этого стратегического места. Так что от него можно ожидать любой каверзы и провокации. Например… Да с тем же выключателем. Где проводки в нём будут перерезаны, и как Клава на него не нажимай, он не подаст тока до светильника, в котором для подстраховки запросто могут быть выкручены лампочки. Так что у Клавы и шансов никаких не будет зажечь здесь свет.
Но Клаву отчего-то всё это нисколько не страшило, а её больше всего и так просто пугала встреча с кем-то тем, кого она и встретить никогда бы себе в самом страшном сне не пожелала, а он вот он, в любимом кресле её Тезки сидит, и нисколько в своём жутком хладнокровии не волнуется о том, что его немедленно тут попросят не скалиться зубами, и кто вам ещё тут позволил передвигать не ваше замечу кресло, в центр гостиной.
А эта, неизвестной субстанции оформленность в виде тёмного человека с хищных оскалом, никак не реагирует на эти полновесные замечания Клавы. А он перекидывает ногу на ногу (он по-другому не может сидеть в незваных гостях за полночь), ещё шире ухмыляется, и так, как будто и должно быть, заявляет: «Тёзка», и пристально начинает наблюдать за ответной реакцией Клавы. Кто в своём праве, верить или не верить ему на слово.
А Клава, вот нисколько такого ответа от него не ожидавшая, – она что угодно от него ожидала услышать (а мне не нужно для этого разрешения от кого бы то ни было, я сам за себя решаю, где мне удобнее быть и сидеть), но только не этого, – от такой невероятной, честно неожиданности, выпадает в осадок и чуть-чуть в истерику сердца, нервно дёрнувшегося, когда оно услышало столь для себя родное и близкое имя. И, конечно, она и сказать в ответ ничего не может, потеряв дар речи.
А этот, состоящий из одной наглости и самонадеянности тип, на всё это в Клаве и рассчитывал. И он, как очень расчётливый человек, примерно знает, через какое время в себя придёт Клава и сможет рассудительно размыслить над всем сейчас происходящим. И этого времени ему достаточно, чтобы уложиться в свою программу действий по отношению к этой, как она себя неблагоразумно ведёт, до чего же строптивой Клаве.
И тёмный незнакомец, в ком Клава подозревает того самого тёмного короля, кто по предсказанию должен был ею встретиться, а он значит, её сам навестил, в одно мгновение, как отрезало, меняется в лице, – оно теперь сконцентрировано на некой мысли, – и поднявшись с кресла, подходит к Клаве. Здесь он в неё вглядывается и вновь расплывается в своей отвратительной ухмылке. – Вы всё-таки иногда проявляете благоразумие. – Говорит тёмный король. – И вы мне поверили. – Добавляет тёмный король и в задумчивости замирает на месте. Но только совсем на чуть-чуть. Которое сменяется поворотом его головы в сторону кресла Тёзки, глядя на которое он говорит. – Знаете, глаза никогда не врут. – Здесь он поворачивается к Клаве, и, посмотрев на неё в упор, спрашивает. – И знаете, что я по вашим глазам увидел?
– Знаю! – вдруг вскричала Клава, осветив гостиную и себя включённым светом. Когда же Клава открыла свои глаза, зажмурившиеся от такой яркой вспышки света, и с дрожью в сердце посмотрела перед собой, в гостиную, то там она никого не обнаружила. И кресло Тёзки было пусто. На чём можно было успокоиться, и Клава было собралась это сделать, начав отворачивать в сторону от кресла Тёзки голову, как в этот момент её прямо в землю вбило осознание того, что кресло-то стоит не там, где оно обычно стоит, а как раз в центре гостиной, где оно ей и представилось в … «А может и не представилось. – Клава чуть назад одёрнулась в испуге, и давай смотреть по сторонам, в поиске затаившегося тёмного короля». Но ни там, за занавесками, ни там, за другим креслом, вроде как никого не видно, а вот подойти туда и проверить, Клава осторожничает так спешить.
К тому же она наталкивается на мысль о том, что за этой перестановкой мебели, быть может, Иван Павлович стоял, а затем в своё удобство переставив кресло (да и надо как-то дать знать Клаве, что я здесь был), присел в него (он с его позиции посмотрит на себя и окружающий мир, ну и то, что в себя втянет Иван Павлович из остатков былой славы Тёзка на этом кресле, какая-никакая, а информационная единица), и как Шерлок Холмс в своё телевизионное время, не спеша, в полном расслаблении, попытался понять, что же за человек такой этот Тёзка. Кто без всякого сожаления и жалости к своей молодой супруге, берёт и оставляет её в полном одиночестве и неведении на свой разумный счёт (версию с его помешательством оставляем на последок, когда уже и объяснить его эти чрезмерные для воспитанного человека поступки уже никак с разумной подоплёкой нельзя будет; даём последний шанс ему себя оправдать).
И вот как только Иван Павлович, не без своих сложностей (как-никак открытое окно находилось на втором этаже и чтобы в него забраться, даже при наличии высокого роста, как у Ивана Павловича, нужно было проявить определённую сноровку и цепкость в руках) и некоторых отступлений во всякую чертовщину на словах, когда он пару раз сорвался с подоконника и прямиком задом на подмятую собой же траву, забрался в дом, а затем натыкаясь в темноте головой на дверные косяки и сами двери (он плохо ориентировался в незнакомой обстановке дома, а схемы расположения комнат у него не было), сумел-таки отыскать гостиную, то здесь-то он и решил остановиться и начать то своё дедуктивное дело, ради которого он и забрался сюда.
Так для начала он для себя сразу намечает, с чего он начнёт свою логическую цепочку по формированию образа Тёзки – с кресла твою мать. Где он демонстрирует своё отменное умение всё подмечать и на анализе данностей, по разрозненным фактам собирать в единую картину событие или поведенческий образ человека, а в данном случае бытовую предпочтительность Тёзки – определённо, вот на этом кресле Тёзка любил просиживать свой зад и жизнь вечерами. С чем он берётся за его кресло и выдвигает его в центр гостиной, чтобы прощупать свой объект изучения.
– Что ж, путём осязания послушаем, что там себе надумывал и надумал этот Тёзка. – Осмотрев кресло со стороны, подвёл итог своему поверхностному осмотру кресла Иван Павлович, принявшись снимать с рук перчатки, которые есть обязательный элемент рук людей вот такого хобби, как у Ивана Павловича. И он без них как без рук. Не может же он в самом деле прикасаться к чему бы то ни было открытыми руками. Он ведь не новичок и не какой-нибудь дилетант, чтобы оставлять за собой следы своего присутствия, по которым его можно будет запросто отыскать.
Ну а сейчас дело другое. Кресло, во-первых, если оно выполнено из матерчатых материалов, а оно здесь такое, не столь податливо для отражения на себе отпечатков пальцев, а во-вторых, Иван Павлович не любит для себя никаких ограничений во время своего обмозгования взятого им на своё усмотрение дела.
И вот как только все дела предварительного характера выполнены и перчатки положены в карман пиджака Ивана Павловича так, что они выглядывают из кармана на половину, как бы находясь в немедленной готовности быть надеты, он направляет свой ход к креслу, и с осторожностью, и с пристальным вниманием к каждому своему ощущению, присаживается в него. Здесь задерживает своё дыхание и внимание на себе и на том, что он сейчас чувствует, и …Начинает располагать себя в удобство сидения.
А как только Иван Павлович выбрал для себя наиболее удобное расположение на кресле, то самое время, так сказать на сленге Ивана Павловича, со всем вниманием приложиться к Тёзке. Ну а чтобы как следует к нему приложиться, нужно для начала к себе приложиться. Это чтобы не возникло потом кривотолков и самокритических обвинений (вот такой Иван Павлович справедливой сущности человек) на собственную необъективность и предвзятость – вот посмотрите, я и себя нисколько не щажу. И не трудно догадаться, откуда взялась вся эта корневая тождественность мысли Ивана Павловича.
Всякий дедукт, к кому причислял себя и Иван Павлович, в своём расследовании всегда должен зрить в самую суть, корень дела, а это как раз и даёт такая однокорневая составляющая его мысли и близость к месту его рассмотрения проблемы. Вот, к примеру, чем мотивировался наш подозреваемый, когда оставлял с носом обладательницу столь непревзойдённой красоты носа, уведя из по него всё добытое нечестным путём богатство? Не думаю, как вы, что стремление не быть первым ею обманутым, и не говорите мне, что его скрупулёзной страстью к единоначалию, в том числе и в деле трат нажитого нечестным путём добра. Здесь дело, одновременно куда сложней и прозаичней – он в своих действиях руководствовался своим, задранным сверх меры вверх носом, которому претило видеть, что ещё кто-то смеет задирать так величаво вверх свой нос. А то, что тот носик, к кому вышла такая претензия, по сути не задирался так вверх и не выказывал претензии на что-то большее, а он всего лишь, указывая на путь к звёздам, грезил мечтами, не принимается в расчёт людьми с задранными в своём самомнении вверх носами, хоть и настоянном на сомнении.
Но вернёмся к Ивану Павловичу, ведущему себя не как новичок в такого рода, за завесой штор и тайн делах, кто, успокоенный располагающей для спокойного времяпровождения обстановкой дома, куда ему пришлось влезть, когда хозяева отсутствовали дома, решит заглянуть в холодильник (вспотел с дорожки, вот и захотелось чего-нибудь выпить), и там-то и попадёт в расставленную по полочкам хозяевами ловушку, – в холодильнике чего только нет, чтобы с дорожки остудить свою жажду, а можно и порадоваться за себя и за хозяев с помощью такого коньяка, который новичок никогда бы себе не позволил (и закусить к тому же есть), – где поддастся искушению, а если вернее, то искушённостью уже не раз учёных горьким опытом владельцев дома, куда новичок забрался без их спроса, чтобы их по приходу сильно удивить перестановкой мебели дома, и без задней мысли посчитав, что до чего же хозяева этого жилища молодцы, – как будто чувствовали, что я сегодня к ним загляну и буду после вчерашнего в большом желании поправить своё здоровье, – прикладывается к обнаруженной бутылке коньяка, само собой с одной рюмки не распробывает весь букет крепости аромата напитка, и…Вот же какая неожиданная встреча и знакомство с кулаками хозяина дома.
А вот Иван Павлович так неразумно не поступает, – и не будем гадать, с чем это связано, мы это уже проходили, или я на чужих ошибках учён, знаете ли, – а он всегда с собой, в нагрудном кармане пиджака, носит то, что помогает ему сглаживать углы между собой и этой поверхностью бытия и жизни перед ним, плюс объектом своего рассмотрения; сегодня Тёзки.
Хотя, если быть до конца честным, то Иван Павлович на пути своего становления человеком опытным, всё же не миновал стадии новичка. Где он на первых порах своей дедуктивной деятельности, всё же полагался на гостеприимство хозяев дома, в котором он в неурочный час оказывался. Да, кстати, на его дедуктивную деятельность можно смотреть с разных углов зрения и точек соприкосновения – чаще, чем вы думаете, бывает так, что хозяева через потерю давно ими и забытой вещи, вначале обнаруживают эту для себя потерю, – а я и помнить забыл, что она у меня есть, – а затем через эту утрату находят её для себя. А потом, не имея, ни совести, ни благодарности к так называемому ими похитителю их даже не собственности, а памяти, заявляют на него в правоохранительные службы. А он ведь только по их наговору, типа их обокрал, тогда как он помог найти им столько всего ими потерянного за время своего серого бытия и жизни в приобретательстве, где хозяева этих апартаментов, за всех этим потреблением и забыли как жизнь сердцем чувствуется и ощущается. И они всяко больше находят для себя, чем теряют то, что уже не несёт в себе для них никакого сердечного отзвука, а значит, не имеет никакой ценности.
Ну а Иван Павлович, когда вот так, один на один, оказывался с внутренней обстановкой незнакомого помещения чьего-то дома, то его редко подводила интуиция и, загулявшие в гостях хозяева дома, всегда чего-нибудь сытного и так способствующего ходу дедуктивного расследования Ивана Павловича, оставляющие для себя, как ими ошибочно думалось, на самом деле оставляли для него продукты в холодильнике.
И Иван Павлович, сперва слишком предвзято настроенный к этим паскудам и крохоборам, после рюмки другой коньяка, и всё под хорошую нарезку колбасных изделий, плюс лимончик, начинает уже не так бесперспективно соображать насчёт хозяев этого гостеприимного дома. И он после новой порции, в той же последовательности, приёма внутрь пару рюмок коньяка, готов им дать шанс выглядеть в своих глазах приличными людьми, и даже начинает рассчитывать на их тёплый приём, когда они поутру его здесь, прямо у холодильника, ну и что с того, что на полу, застанут. Они ведь люди располагающие и приятные.
И как же каждый раз вот в таких случаях горько и бывало больно ошибался Иван Павлович в своих расчётах на понятливость хозяев того жилища, куда он в исследовательских только целях забирался, – я всего лишь хотел выяснить насколько вы чистосердечны, говоря на своих лекциях, что ваш дом всегда открыт для человека, нуждающегося в помощи.
И хозяева жилища, не давая вообще возможности Ивану Павловичу объясниться и объяснить своё здесь нахождение, хотя они и сами звучно и крайне требовательно его вопрошали об этом: «А это ещё, бл***ь, кто такой?!», начинают нападать на него, и не только словесно.
– Да он, сволочь, выпил мой коньяк без устатку! И всё вприкуску с моими лимонами. – Взбешённо орёт хозяин дома, требуя возмездия. А ему во всём поддакивает его миловидная и в чём-то для Ивана Павловича интересная супруга, в своём нервном состоянии раскрасневшаяся в лице и ставшая привлекательно ближе к Ивану Павловичу, знающему толк в красоте. – Да подожди ты, Зиновий Аполинарьевич со своими лимонами. – Вот как возмущается миловидная супруга этого сквалыги, Зиновия Аполинарьевича. – Он, как я вижу, в каждый мой салат сунул свой длинный нос, а вот мой фирменный креветочный салат и взглядом неудосужил. И как это всё понимать? Я, по-вашему, плохо готовлю? – В общем, каждый о своём беспокоился, а Иван Павлович получается, что тут крайний, когда у них в семье происходит такой разлад и бессердечность.
И Ивану Павлович, как человеку всё-таки ещё не растерявшему в себе сердечность, приходиться принять во внимание эти подаваемые ему сигналы и взгляды на него супруги Зиновия Аполинарьевича. Но только спустя время и когда минует преследование к себе со стороны Зиновия Аполинарьевича, надумавшего вдруг вооружиться скалкой (разве он не знает, что такое оружие в руках больше к лицу женщинам) и давай ей ему угрожать с одной стороны выхода из этого прохода, в котором оказался Иван Павлович. А с другой стороны к нему зашла миловидная супруга Зиновия Аполинарьевича, вооружившись ножом. А Ивану Павловичу теперь значит выбирай, с кем иметь встречное дело – с Зиновием Аполинарьевичем со скалкой, как видно по его бледному виду, и сам опасающегося Ивана Павловича, или же с его супругой, кто, не моргнув глазом, вонзит ему прямо в сердце этот столовый нож по самую рукоятку.
Впрочем, выбор Ивана Павловича был предопределён заранее, как только он увидел в глазах супруги Зиновия Аполинарьевича всю эту решимость вонзить ему нож в самое сердце по самую рукоятку. Ну а то, что он оценивающе посмотрел на эти варианты будущего для себя и развития ситуации, то это так, для того чтобы сбить с толку Зиновия Аполинарьевича, чтобы он раньше времени и вообще ничего не заподозрил насчёт его сердечных предпочтений и своей подоплёки во всём этом происшествии.
– Лучше пусть прекрасная незнакомка пронзит насквозь моё разбитое сердце, чем я стану соучастником посмешища, на которое только и способен человек со скалкой в руках. – Пробормотал про себя Иван Павлович, и тут же делает неожиданный словесный выпад в сторону своих противников. – Так вы что, заодно?! – вот такое удивительное дело спрашивает Иван Павлович, сразу вгоняя Зиновия Аполинарьевича и его супругу в сбивчивую на сомнения насупливость. После чего они решают переглянуться, чтобы убедиться в неправоте, а может и правоте этого незваного незнакомца, решившего не только их тут обокрасть, а окончательно расстроить их благополучный брак, хоть и начинающийся потрескивать, но ещё крепко скреплённый недоговорками и обмолвками (А тут он к ним влез, не просто в дом, а в душу, и пытается вынуть наружу то, что так тщательно ими друг от друга скрывалось и утаивалось).
Но маховик осознания своего положения уже запущен, и, по крайней мере, супруга Зиновия Аполинарьевича не может не заметить за своим супругом, как он жалко и глупо выглядит со скалкой в руках. А вот если бы она его ещё обожала как когда-то, и её не заел быт, то она бы за ним всё иначе заметила, – ну до чего же неуклюж и забавен в таком всеоружии, мой Зина.
А такие мысли супруги Зиновия Аполинарьевича заставляют похолодеть её в сердце и ослабить хватку в руке с ножом. Чем немедленно и воспользовался Иван Павлович, сбив …нет не с ног, а с сердечного дыхания супругу Зинаида Аполинарьевича, и тем самым сумел вырваться из этой ловушки, оставив о себе глубокую память в сердце супруги Зиновия Аполинарьевича, смятой не только физически напором этого похитителя её сердца, а она была полностью подмята Иваном Павловичем под себя, когда он, прорываясь сквозь неё, в одно слово, мимолётом сказанное ей на ушко, полностью переформатировал её под другую реальность осознания своей жизни: «Я несчастна! И достойна лучшего, чем Зинаид Аполинарьевич, губитель моей молодости и всех связанных с ней надежд». А если всё так и она (такая жизнь) тебя так тяготит, то нужно сбросить всё тебя сдерживающее, и устремиться в полёт за своей фантазией.
– Да, были времена. – С ностальгией посмотрев на эти прошлые перипетии своей жизни вблизи с живой натуральностью натурами, склонными живейше участвовать и чувствовать себя в этом мире, а не только осуществлять своё существование в нём, Иван Павлович повторно наполнил свой походный стаканчик из всегда с собой на такие мероприятия фляжки. После чего он склоняется прежде всего к стаканчику, присовокупив к этому воспоминания о встрече при всё таких же необычных обстоятельствах с крайне негативного и паскудного характера человеком, кого он, будучи склонным к романтическому преувеличению и фокусировке в таком качестве людей, встреченных им на своём жизненном пути, прозвал доктор Мориарти. Где он, как это обычно бывает, поначалу не испытывал никаких иллюзий насчёт этого доктора Мориарти, – скотина он и есть скотина.
Но как это не раз с ним бывало, то под воздействием этого смягчающего душу напитка из фляжки, он, рассмотрев под другим углом зрения прегрешения, а также самого доктора Мориарти (в итоге из под стола, куда закатила счастливая звезда Ивана Павловича и как уж без неё, его всё предусматривающей осторожности), посчитал, что с этим доктором Мориарти можно иметь дело. И как после заката его глаз под воздействием крепкого напитка и всё под столом выясняется, то с доктором Мориарти действительно можно иметь дело, но только в том случае, если он останется в неведении твоего присутствия под столом, а также, если тебе сподобиться стянуть со стола им оставленные документы и выскользнуть из дома незамеченным.
– И мне это удалось. – Усмехнулся Иван Павлович. – И теперь у кое-кого намечает большая интрига в осуществлении доказательств своих прав на часть компании. – На этом месте Иван Павлович замолчал себя с помощью стаканчика. А как только стаканчик оставлен на время, а нарезка выполнила своё предназначение во рту Ивана Павловича, то он приступил к тому, для чего, собственно, он здесь и находился.
– Что ж, посмотрим на этого гада, и что он из себя представляет. – Никого не стесняясь по причине отсутствия здесь кого бы то ни было, Иван Павлович, будучи большим поклонником женского пола, – он не даст в обиду их представительниц во всех случаях (правда, за двумя исключениями, если она и сама может за себя постоять своей уродливостью, и если она та ещё стерва), – не мог поступить иначе, и вот так выразительно высказал своё отношение к Тёзке, большому спекулянту на женском доверии, как изначально Иваном Павловичем подумалось. А сейчас, глядя на всё тут, чем окружила этого неблагодарного типа его милейшей души и вида супруга Клава, Иван Павлович, убедившись в очередной раз в паскудстве того человеческого генотипа, который представляют собой добившиеся своего мужья, с ещё больше категоричностью и претензией посмотрел на этого негодяя Тёзку, смотрящего на него с фотографии на этажерке.
– Вот чего ты тут так ухмыляешься? – жёстко так спросил Тёзку с фотографии Иван Павлович, сжав, что есть силы лимон и, выдавив сок из него себе в стаканчик. А надо понимать, что Иван Павлович ничего просто так не делает, и он решил, что добавить лимонного сока в напиток, не плохая идея. И осуществить её поможет этот наглец Тёзка, при виде которого у Ивана Павловича сжимаются руки в кулаки. И если в них в этот момент добавить лимон, то он может выжать из него сок, и тем самым хоть что-то поиметь от Тёзки для начала.
– А что ему не радоваться жизни, когда тут всё для него и к его услугам. – Догадался Иван Павлович, чьё лицо на этот раз скривилось не от зависти к такому завидному обустройству Тёзки, а это он лимон пережал, и кислотность выпитого им сейчас напитка оказалась несопоставимой с его ожиданиями. Ну а то, что он с несколько провокационными, неоднозначно можно трактовать, целями бросил ищущий взгляд в сторону лестницы, ведущей не только на второй этаж, но также в спальню, где тоже всё располагалось к услугам этого ненавистного Тёзки, а никак не Ивана Павловича, то это он просто от кислоты напитка скривился.
Когда же Иван Павлович со всей этой повышенной кислотности в себе с помощью шоколадки справился, то он взглядом своей неотступной принципиальности (можешь не беспокоиться, я от тебя не оступлюсь, пока все твои махинации на чистую воду не выведу), с упором на свою беспринципность в таких делах, где замешана честь симпатичной ему девушки, посмотрел глаза в глаза Тёзки, и спустя почти что сразу понял: «Крепкий орешек этот Тёзка. С ним мне придётся повозиться».
После чего Иван Павлович, как человек без спешки в ногах и голове, достаёт крайне важную составляющую для вот такого рода исследовательских дел, когда требуется вся внутренняя концентрация мысли дедукта, как уже могли позабыть, называли себя вот такие как Иван Павлович люди, со склонностью своего саморазвития с помощью разгадывания различных головоломок с криминальным подтекстом (а никак не дундуки, как их пытались очернить противники всего логического и человеческого), а именно трубку. И этот неизменный атрибут всякого думающего человека, а уж затем только джентльмена, кто может быть и джентльменом, но при этом нисколько не думающим джентльменом, что, как правило, и бывает. И оттого, люди с трубками во рту не большого мнения о джентльменстве, которые как раз из-за своего бездумного отношения к окружающему, оказались вымирающим подвидом людей.
А вот если бы они думали не только о себе и своём джентльменстве, на что у них все силы и уходили, – Считать ли или не считать сэра Вилли джентльменом, если он и не сэр в общем, да и не Вилли в натуре, как он смеет выражаться в обществе дам, а какой-то там Сильвестр Потапов, беглый телефонопромышленник из Тмутаракани, как опять же он сам в сторону своей родины самовыражался. Где он при всех этих неоднозначных характеристиках имеет огромный и очень завидный плюс – чертовски богат, и готов тратиться на продвижения себя в джентльменство, – то у них может и был бы шанс остаться здесь и при трубках.
А не как несостоявшийся джентльмен Сильвестр Потапов, званый на аудиенцию к королеве с почётом (а это указывало на то, что он был отчасти принят за джентльмена), чтобы значит, за весь его большой вклад в продвижение джентльменства в массовую культуру (а вот Сильвестр опять внёс своё должное понимание и объяснение всего с ним происходящего, всё это дело обговорив со свойственной его менталитету грубостью, как всегда на взрыв и эпически противоречиво, и как-то очень гадко: за поддержание спадающих с джентльменов штанов, так меня благодарствуют), сделать его рыцарем, а он изначально расслабился и в самый трогательный момент в таких действиях, – королева должна было возвысить его среди смертных, возложив ему на плечо меч, – взял и не удержался оттого, чтобы не высказать свою отдельную позицию на всё это дело, звучно чихнув (а что он мог поделать, если тут везде от затхлости не продохнуть).







