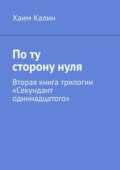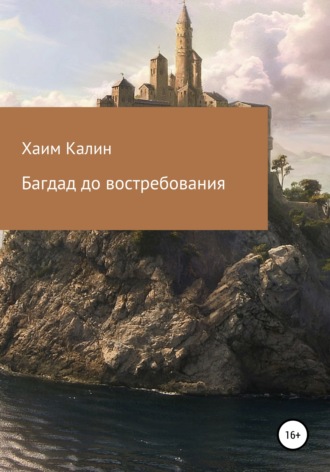
Хаим Калин
Багдад до востребования
Зуммерград впервые покинул стены казенного дома (всего на полдня) спустя семь месяцев, о чем совсем не жалел. Биренбойм распорядился доставлять в камеру советские газеты, не столько скрашивавшие одиночество, сколько ехидно подначивавшие: сносное трехразовое питание, вентилируемый воздух, горячая вода, прочие маленькие, зато регулярные радости – целый материк благоденствия в сравнении с жестоким экономическим кризисом, куда погрузилась внедрившая в Израиль шпиона, к слову, против его воли, страна. (Через неделю после ввода советских войск в Афганистан ассимилированный, некогда отмытый родителями от еврейства двадцатипятилетний Зуммерград – увы, на фамилию и имя денег не хватило – попросился в ограниченный контингент добровольцем. К великому удивлению, его вскоре призвали. Только не офицером инженерных войск, кем был аттестован по окончании строительного факультета, а курсантом ускоренного, полугодичного курса нелегальной резидентуры в Высшей школе КГБ. Свернутая еще одним иудейским оборотнем Ю. Андроповым эмиграция в Израиль заполняла последние клеточки в гроссбухе «фондов и лимитов» заходящего на последний вираж СССР, при этом план по внедрению агентуры не выполнялся… Так Зуммерград, ошарашивший не столь свое окружение, патриотически мотивированное, как собственных родителей, в конце восьмидесятого перебрался из града белых ночей в «город без перерыва» Тель-Авив).
Меж тем, расставшись по-английски с самой необычной в его карьере шифровкой, Золотой Дорон заторопился отнюдь ни к директору, а в центр связи. Спустя час, где-то к 11:15, через парижскую резидентуру выяснил, что Давид Хубелашвили, то есть «Старик», свободнее его самого – на пару с Талызиным бьет баклуши на конспиративной квартире. По крайней мере, так гласила только что полученная, едва дешифрованная депеша Розенберга. Собственно, в этом он почти не сомневался, хотел лишь убедиться.
Выяснив статус Шахара и распорядившись сменить, не медля, его координаты, Биренбойм сделал три телефонных звонка. Первые два – в Москву, в 11:30 и 12:00. Третий – местный, в представительство «Эль-Аль», где заказал себе билет в Берлин с пересадкой в Мюнхене Лишь затем отправился на аудиенцию к Моше Шавиту. Пробыл у шефа недолго – минут двадцать, то и дело постукивая по циферблату. Постучал он по часам и, когда покидал кабинет, должно быть, так прощаясь.
***
4 января 1991 г. 22:10 г. Берлин
По почти безлюдной площади «Бебельплац» – в сторону собора «Святой Ядвиги» – на всех парах неслись два господина, чуть ранее высадившиеся на Унтер-ден-Линден. Пухленький коротышка средних лет – из такси, а широкоплечий крепыш, под сорок, – из «Волги» с советскими военными номерами. По внешнему виду – гости города, ибо оба явно не местный генотип.
Несмотря на параллельный курс, господа некоторое время свое соседство не замечали, всматриваясь в очертания собора. Однако, по мере приближения к храму, шагая практически рядом, поглядывали друг на друга то с любопытством, то с опаской. Уже у входа в собор, переводя дух, уставились в недоумении, будто их встреча – полная неожиданность. Если рандеву и планировалось, то с кем-то другим. Поелозив друг друга недоверчивыми взглядами, разошлись, но не с концами, а обследуя ближайшие окрестности.
Вскоре токи притяжения заработали вновь: побродив в растерянности вокруг храма, поздние странники почти синхронно устремились к входу, где только что расстались. Между тем, если крепыш спокойно мерил шаг, то живчик-коротышка поспешал, передавая взбаламученным взглядом где беспокойство, а где запоздалое прозрение. Как только они зрительно пересеклись, старший господин приподнял руку, привлекая к себе внимание. Тут оба сбавили ход и сближались, с некоторой настороженностью друг друга придирчиво изучая.
– Сколько лет, сколько зим! Не вспомнить, когда виделись! – Живчик остановился, потешно распахивая руки.
– Короткая у тебя память, дружище, всего два года назад, – с некоторой задержкой объявил крепыш, никаких эмоциональных оттенков не передавая. С руками в карманах пальто застыл настороже.
– Прогуляемся по Унтер-ден-Линден? – Живчик подался вперед, по-свойски беря спутника под руку.
Крепыш ошалело взглянул на эскорт, казалось, изумившись фривольному жесту, а может, нежданному переходу с английского на русский.
– Не думал, что оба опоздаем, почему-то… – сетовал коротышка, на сей раз приобняв соседа за талию. – От вас ведь близко. Оттого и сплоховал, несмотря на приметы.
Крепыш чуть отстранился, отправляя послание: двусмысленное радушие ни к чему. Вынул руки из карманов.
– Ну, выкладывайте, – жестко бросил гиперактивный колобок, казалось, вмиг обросший шипами. – Предлагаю: рабочий язык – русский. Не секрет: языки у вас в загоне, не в обиду будет сказано…
– Убеждены, что так лучше? – упорствовал по-английски сосед. – Русский в Берлине – весьма сегодня редок.
– Я обычный, не отягощенный убеждениями прагматик… – вздохнув, ответствовал коротышка. – И, признаться, от одного и того же диспута за сутки в горле першит. Да, вот что еще: убедите в весомости своих полномочий. Максимально сжато причем.
– Вы тоже… – тихо, но крайне убедительно рекомендовал крепыш, наконец поддержав предложенный регламент.
– Только не просите обнажить татуировку тайного ордена, ее нет. За исключением этнического клейма, ничем порадовать не смогу. Увольте, – забавлялся иносказаниями колобок – где плоскими, а где не совсем…
– В общем так, – заговорил крепыш, известный узкому кругу лиц как Кирилл Фурсов, завсектора взаимодействия с иностранными разведками, штатный эмиссар КГБ по деликатным поручениям, – в Москве заинтересовалось иракской разработкой «Моссада». Если наши и ваши цели совпадут, то операция может иметь продолжение. Стало быть, нам требуется, как минимум, эскиз. Спрашивается, почему набросок, а не вся подноготная? Отвечу: потому, что у каждого своя шкала приоритетов. Чужая головная боль – именно чужая, поскольку своей хватает. Ну а пока… – Фурсов с многозначительным видом прервался, – ваша инициатива в фазе активного распада. Основные звенья дезавуированы – их выдал инициативник-крот, три дня как задержанный. Арест Давида Хубелашвили, вашего агента, и удерживаемого им «почтальона» – вопрос времени. Впрочем, задача, скорее всего, неактуальна, ибо без нашего благословения никому из них не просочиться в Ирак. Используй «Моссад» обходной маневр, через третью страну, отклонив предложение о сотрудничестве, каналы выхода на Посувалюка перекроем…
– Довольно, можете не продолжать, – перебил Фурсова колобок, известный сюжету как Дорон Биренбойм, главный опер «Моссада». Сморкнув, продолжил: – Предлагаю начать от обратного: сформулируйте ваш интерес. Если он в нашу мозаику ляжет, взаимодействие гарантирую.
– Не пойдет так, коллега, – Фурсов откашлялся, – вы путаетесь в понятиях «ведомый» и «ведущий». Единственная причина, почему я здесь: впечатлила как сама идея – привлечь в качестве «почтальона» сугубо гражданское лицо, так и его виртуозная вербовка. Так что, даже выявив его местонахождение, не будем пока задерживать. Уж больно ваша задумка хороша: шантажируя, держать посла в полном неведении об интересантах. Кроме того, тень нагоняет страха больше, чем субъект, ее отражающий.
– Ну, скорее так вышло, чем планировалось, – сухо заметил Биренбойм, – а вот ваша «живая телеграмма» – шедевр искусства шпионажа. Только антитеза «ведомый – ведущий» совершенно неуместна. Разведка знатна достижениями, а не удельным весом страны, чьи интересы она представляет. Кроме того, смею заметить, ваш гениальный ход грешит не меньшими судорогами, чем наш план. Но далеко не только этим… – Моссадовец расплылся в сардонической улыбке, после чего развил мысль: – Спрятав курьера в чреве израильской пенитенциарной системы – не отправлять же его нам в Ниццу! – вы себя выдали. Ваш мотив не ведомственный, а сугубо частный. Со стоящей за ним проблемой не только в правительство не сунешься – от собственного аппарата берегись. Совершенно очевидно: ваша инициатива, ни чета нашей, неформальна. Стало быть, в шпионской овчарне волк – скорее мы…
Какое-то время непраздные спорщики молчали, являя собой случайно отделившийся от толпы фрагмент. Биренбойм глазел на окна кафе и ресторанов Унтер-ден-Линден, Фурсова же, судя по вздернутой голове, занимали Бранденбургские ворота – он даже чуть вырвался вперед. Могло показаться, что, разойдясь во взглядах на мир-овчарню, то бишь не поделив лавры хищника, вынюхивают неосвоенные вольеры.
– Знаете, по большому счету, – замедлив шаг, Фурсов повернулся к соседу, – рентген иракской инициативы «Моссада» – пустая трата времени. Скорее, блажь, чем необходимость. Пусть вы обнажили одну болванку, меж тем начинка предприятия легко просчитываема. Мы строили догадки до тех пор, пока вчера не выяснилось, что Посувалюк – единственный посол, не покинувший Ирак. Ускользнуло как-то, бывает… Да и не мог «Моссад», мы понимали, нечто нестандартное, выломившись из своих традиционных схем, сотворить. Так что на повестке: традиционная моссадовская «подсечка». Выдается, как за вами водится, лишь дивным вероломством, а точнее, беспрецедентным: сносится опорная конструкция, на что самый отпетый головорез, трижды подумав, не решится. Пусть в самой идее ничего новаторского, однако замечу, еще ни разу посол, оплот государственности, патронажной функции общества, не обращался, посредством шантажа, в истопника, обслуживающего преисподнюю…
– У вас есть нечто лучшее предложить? – возразил «Золотой Дорон», рассеянно поглядывая по сторонам, будто в поисках мысли, все ускользающей. Резко остановился, поежился, застегнул молнию куртки. С отрешенным видом продолжил движение, на собеседника даже не взглянув. Пройдя несколько метров, зло бросил: – Неужели не ясно, что иного не дано? Пустились бы вы во все тяжкие, не рассмотрев в этой идее полезное зерно! И хватит нотаций! Можно подумать вы отпрыск матери Терезы, а не энкавэдэшного зверья. Но… одно радует, – Биренбойм смягчился. – эскиз, как вы его нарекли, можно сказать, рассмотрен. К сути предмета, извольте.
Щека Фурсова дернулась, возвещая, казалось, внутренний позыв мобилизоваться. Ведь рваный, полный аллюзий разговор – малопродуктивные, утомительные маневры, вдобавок сдабриваемые едкой риторикой. Между тем отозвался эмиссар ровным, бесстрастным голосом, придавая своим словам вес:
– Собственно, в основе ваш незатейливый план, но с двумя поправками. Первая: координатор форсирует, без оглядки, командировку «почтальона», оставаясь в неведении о сделке, которую мы, надеюсь, заключим. Вторая: прежде чем устройство перекочует к инженеру, обеспечьте к нему доступ на несколько дней. Уточняю: ни координатор, ни, тем более, «почтальон» о новом сопопечителе проекта знать не могут, поскольку малейшая утечка операцию похоронит.
– Простите, мы ни о чем не договаривались, – возразил парламентер «Моссада». – И что значит рассекретить устройство? О какой тогда сделке речь? Вручении акта о капитуляции или по обмену опытом? – Биренбойм мелко тряс головой, передавая оторопь.
– Только не порите горячку! – Фурсов устремил на собеседника указательный палец. – Я сориентирован на прозрачность переговоров, учитывая чрезвычайный характер события…
– Разведка и прозрачность? Не смешите вы меня… – Биренбойм, само лукавство, хихикнул.
– Видите ли… встреча пробудила парадоксальную, но, на мой взгляд, весьма близкую к сути конфликта ассоциацию, – прошагав полсотни метров, сдвинул паузу суетных розмыслов московский эмиссар. – Мы с вами, точно отроки, толкаемся у окошка женской бани, дабы, выхватив как можно смачнее образ, поодиночке за углом разрядиться…
– Ой, в какие штили вас занесло! – взъерепенился «Золотой Дорон». – Не заставляйте усомниться в вашем мандате, столь убедительно обоснованном.
– Так вот, – продолжил, не поведя усом, Фурсов, – раскладываю все по полочкам. Иракская инициатива «Моссада» дезактивирована. В остатке: разлетевшееся на осколки панно, изначально – с низким запасом прочности. Тем временем губитель панно высматривает в стеклянном бое фрагмент, сулящий заглушку для возникшей у него днями прорехи. Разъясняю: скол-заглушка – кредит доверия, как-то связавший координатора и инженера. Подтверждено показаниями двух очевидцев, как и рядом умозаключений. На данный момент это – ваш единственный актив, не считая захватывающей дух, но не поддающейся реализации идеи, при имеющейся расстановке, разумеется.
Теперь, как пасьянс стыкуется с приоритетами Москвы? А очень просто. Лишь действуя через заморского посредника, то бишь под чужим флагом, удастся дискретность нашего интереса соблюсти. Тут, однако, выясняется, что конечные цели в иракской заварушке у наших двух ведомств разные, если не диаметрально противоположные. Казалось бы, время покидать окопчик, куда, волею случая, обе конторы занесло, когда возникает примиряющая стороны идея: схему «Моссада» сохранить, преобразуя при этом параметры техустройства. Спросите: что это дает? Ведь физический результат – иной, Израиль не устраивающий, но лишь на первый взгляд… Наша техновинка выдаст эффект не меньший, чем внедряемая «Моссадом».
– Что-то не складывается, даже у меня, профессионала, – сокрушался автор «дух захватывающей», но, оказалось, сугубо умозрительной, идеи.
Медленно оглядевшись, Биренбойм обнаружил себя стоящим под аркой Бранденбургских ворот. Ему казалось, что плита усталости, обрушившаяся вдруг, вдавливает его в самую нежеланную почву. Отвращает та вовсе не кровавым прошлым, а сирым, не шибко поумневшим с тех пор настоящим. Он в одночасье ощутил, что его детище, хоть и изрядно недоношенное, вопреки всему, вылупилось в проворного, вполне жизнеспособного монстра, но не обособившегося, а капризно требующего родительского молочка. Между тем, не выцеди он из себя оное, чадо банально окочурится. Именно сейчас, в этом символическом месте, на этой вопящей от неизъяснимых страданий земле, решается судьба его народа, отведавшего столько, что водоемы всей планеты малы. Оттого груз ответственности, какой-то несоизмеримый, сковал все члены и помыслы, обезводил, до нитки душу обобрал, и так с юных лет очерствевшую. Стало быть, не повоюешь…
– Я, собственно, с первого захода не рассчитывал… – вплел резонерскую нотку московский эмисар. Пригласив возобновить движение, продолжил: – Но оно и понятно, принцип-то действия техустройства не разъяснил.
– Какой же? – с трудом озвучило чадо конторы, чей отец-основатель «самого бы Берию за пояс заткнул»*
– Психотропный, вгоняющий в панику. И не вообще, а адресно. Например, страх перед отравлениием газами, болезням… Сверхновая, успешно апробированная разработка. Как видите, и мы не сидим сложа руки.
– Нам нужно присесть… – пробормотал Биренбойм, едва волочивший за собой ноги. Круглосуточный режим работы последних недель «отложенным штрафом» в конце концов прихватил и его, как говаривали сослуживцы Дорона: скорее, электронную плату, нежели человека.
– А где? В ресторан не попасть, поздно… – пожал плечами Фурсов.
– В аэропорту. Да и мой обратный рейс скоро. – Биренбойм искал глазами стоянку такси.
После нескольких глотков «Экспрессо» в одном из кафе «Тегеля» расклеившийся Биренбойм постепенно приходил в себя: ожило пугавшее землистым оттенком лицо, участились движения, хоть и отдаленно, уже напоминавшие «Реактивного Дорона». Тем временем Фурсов деликатно дожидался отклика, воспринимая провис коллеги, как должное. Дилемма и впрямь стояла перед тем непростая: отдать судьбоносную для Израиля разработку в прокат – под заклад настоящего кота в мешке – либо дальше плыть по кипящему водоворотами течению шпионских игр, но уже твердо зная: ты обречен.
Между тем моссадовец определился с решением еще в таксомоторе: никаких обязательств, максимум – набросать протокол намерений. О «псхокорректоре» Биренбойм прежде не слышал, так что без консультаций с экспертами принимать на себя обязательства, соглашаясь на московский субподряд, априори не получалось. Кроме того, крутой поворот операции требовал немедленных согласований. Если бы с директором, то полбеды – Моше Шавита, слабого, либеральных взглядов руководителя, он, мозговой центр «Моссада», почти всегда уламывал. Но, не заручившись «добром» от самого премьера, продолжать иракскую разработку, с учетом вскрывшихся, перевернувших все с ног на голову обстоятельств, – полное безумие, прямая дорога, случись облом, под трибунал. Мало того, что дерзкий почин не скоординирован с новоявленным жандармом мира – Вашингтоном, а сам израильский премьер посвящен лишь в суть начинания, ни сном ни духом не ведая, что предполагаемый исполнитель – посол сверхдержавы, операцию мертвым хватом парализовал незваный гость, представляющийся, по размышлении здравом, типичным, разлагающим чрево собственной страны заговорщиком. Тем самым, с учетом старых и новых, крайне противоречивых входящих, машина «Моссада» не столько нарывалась на международный скандал, изначально прогнозировавшийся на Шауль Амелех, сколько ставила Израиль чуть ли ни на одну доску с Ираком – варварским, отринувшим все условности режимом.
Кроме того, к пристальному анализу взывала и гипотеза выстроенной КГБ западни. Вместе с тем размах действа, а главное – подспудные токи встречи – внушали Биренбойму: русские не блефуют. Больше того, ставят на проект не меньше, чем сами прародители, пусть их мотив узко клановый, а не общенациональный. Однако интуицию, пусть она мать шпионажа, к докладу наверх не подошьешь…
По всему выходило, что торопиться особо некуда – все так запуталось, что, казалось, и центр тяжести исчез. Разобидевшись на этот склочный, погрязший в самоедстве мир, тот без уведомления улизнул в отставку.
Беспристрастный же взгляд высвечивал: посвистывая с издевкой, локомотив почина пятится в обратном направлении, в немалой степени, по вине самого Биренбойма, допустившего в блестящей комбинации один-единственный, но оказавшийся роковым промах. А уж кто аккуратно вытирал ноги о половик собственных заблуждений, так это «Золотой Дорон», которому сей момент казалось, что возобновляет проект с чистого листа.
Как бы там ни было, кроме навязываемой Москвой психотропной пукалки, прочих контраргументов, способных утихомирить багдадского безумца, у «Моссада» не предвиделось, так что, допив кофе, Биренбойм засучил на порожденного им мутанта рукава.
– Вот что коллега: наш ответ будет сформулирован, скорее всего, завтра. Окажись он положительным, мы вновь встретимся. Как видится, здесь же, в Берлине. Только в расширенном составе…
– Каком? – насторожился, прищурившись, Фурсов.
– Техэксперт и психиатр с каждой стороны, – детализировал, подхватывая салфетку, тель-авивский посланник. – Разумеется, предъявите устройство для испытаний…
Фурсов поморщился, выказывая досаду. Протерев глаза, отозвался:
– Сами посудите, есть ли на консилиум время? Круг должен замкнуться до пятнадцатого числа.
– Спешка – движок для ловли блох. Это во-первых, – возразил Биренбойм. Поразмыслив о чем-то, продолжил: Во-вторых, докажи изделие в ходе тестирования свою функциональность, к консилиуму присоединятся и психологи.
– Они-то зачем? – диву дался Фурсов.
Биренбойм дергал правым плечом, то ли его так разминая, то ли возвещая, что холерик-непоседа оклемался. Унявшись, принялся за назидания:
– К чему привела поспешность – итог нагляден. Между тем центральная фигура – Посувалюк, без которой начинание, точно обесточенный робот, как бы не принимается в расчет. Дескать, озвучь «почтальон» компромат – да, несомненно убедительный – посол полезет в открытую пасть, не задумываясь. Можно подумать, что о добровольном заклании, кстати, вполне вероятном, всю жизнь бредил. Разумеется… послание к нему аргументировано – крепкий психолог основательно все замешал, но он выпускник западной школы, с русским менталитетом почти не знаком. Стало быть, мог перепутать как размер, так и тональность. И… – Биренбойм забарабанил пальцами по столу, – при нынешних обстоятельствах я бы передоверил бы вашему спецу…
– Исключено, – воспротивился Фурсов. – Сверхсекретная операция – не кружок полемистов. Утечка – вот наш главный оппонент, опаснее «Мухабарата»! В таком деле лишнее слово – провал, вы же растягиваете круг посвященных, словно эспандер. Технарь, психиатр – куда ни шло. Кто объект, им знать необязательно. А психолог – увольте! Куда его деть потом?
– Ну, «живую шифровку» вы же придумали, – привел довод Биренбойм, ухмыляясь.
Фурсов потупился, замкнулся, то ли обезоруженный аргументом, то ли, наоборот, спешно подыскивая нежданной персоне нон-грата склеп-одиночку. Но вскоре распрямился и, выждав, когда официантка очистит соседний столик, со сдержанной благожелательностью молвил:
– Все усложняется. Однако, следует признать, не без пользы для дела, так что грех не согласиться. Вместе с тем время обсудить гарантии…
– Не торопитесь соглашаться, коллега, – воспротивился «Реактивный Дорон». – Не нам с вами решать… – Биренбойм запрокинул голову, указывая глазами в потолок. – А получив карт-бланш, в том числе поговорим и о закладных. Меня они беспокоят не меньше вашего.
– Нет уж, – запротестовал порученец деликатных дел, – предварительное условие: о новом покровителе проекта Иерусалим, тем более, Вашингтон знать не могут. Раскроете – за жизни Розенберга и координатора не дам и ломанного гроша. За нескольких прочих тоже…
Биренбойм неприятно повел губами, хмыкнул. В некоей экспрессии растопырил ладони, быстро взглянул на них, вернул руки на поверхность стола.
– Потрудитесь для начала координатора арестовать… – В пустых глазах Биренбойма мелькнула издевка. – Но в одном вы правы: назови я новоявленного партнера, кем он есть на самом деле – заговорщиком, подрывающим устои собственного государства, в чем ни на йоту не сомневаюсь, в лучшем случае, иракский почин загонят в бокс для испытаний. В худшем – выставят меня за профнепригодность. Вместе с тем и утаивать – безумие: в случае провала не сносить мне головы… – «Золотой Дорон» задумался.
– Не в вашей ситуации перебирать, – отослал к неким реалиям Фурсов. – Не столь вам лично, как Израилю в целом.
Биренбойм резко встал, давая знать, что повестка дня исчерпана.
– Поставим-ка в нашей шпионской смычке точку, – убывающий протянул руку, но вдруг дополнил: – Нет, точку с запятой. Сообщите куда и как переправить ответ.
– Прежний номер, но не позже пяти утра шестого. Принципиальное согласие: «Роза выходит замуж». Ответ «Да что ты!» – наша готовность провести встречу экспертов в Берлине. – Провожая Биренбойма в сектор регистрации, Фурсов оговорил прочие кодовые сигналы.
На борту лайнера «Берлин–Мюнхен» «Золотой Дорон» все пятьдесят минут полета, судя по прикрытым глазам, будто бы дремал. Между тем его осунувшееся лицо передавало испытываемые наяву эмоции: от гримас боли, разочарования до – простодушной улыбки. Перекличку ощущений, оказалось, навеял неуместный для столь дискретного форума вопрос, заданный московским эмиссаром при расставании: «Как удалось изучить русский так глубоко? Учитывая акцент, он ведь для вас неродной». Скорый ответ Биренбойма «Иосиф Виссарионович помогал» сбил провожающего с толку, несколько секунд тот учащенно хлопал ресницами. Дабы внести ясность, что сказанное – шутка, Биренбойм даже похлопал москвича по плечу.
Пригревшись в самолетном кресле, Дорон задумался, собственно, почему отлуп он облек в образ Сталина, отлично зная, что и в космосе подсознательного всему есть объяснение. Вскоре вспомнил: Сталин красовался на обложке каждой школьной тетрадки, по крайней мере, пока он учился в советской школе с 1940 по 1946 год.
Далее Биренбойм растекся воспоминаниями, чего себе, как правило, не позволял, родившись замшелым, живущим одним настоящим прагматиком. Прошлое – лишь архив для редких, не всегда полезных ссылок, считал он, источником вдохновения, тем более, плацдармом для будущего служить не может.
Пестрая ретроспектива где печалила, а где интриговала. С особой ясностью, до вкуса слез, воссоздался эпизод, когда его, четырнадцатилетнего подростка, беженца из Польши, разорванной по «хребту Молотова-Риббентропа», одноклассники из копейской средней школы, скрутив руки, заставляли произносить «кукуруза». Принудив, мерзко хохотали от грассирующего «р». Однако дружно встали за «жирного» горой, как только над ним стал глумиться соученик на класс выше. Здесь картавый, приблудший коротышка почему-то из чужака обернулся в «своего».
Но куда более Дорона, не по годам смышленого, удивляло то, что русские ребята редко обращались с просьбой дать списать или помочь с домашним заданием. Предпочитали получить «кол» и, как следствие, взбучку от матери, нежели прогибаться. Между тем два одноклассника-еврея, оба местных, не то что он, перемещенное лицо, напрягали Биренбойма, самого одаренного ученика школы, не стесняясь.
Ну а русский, общая языковая группа с польским, родственный славянский язык, включая письменность, пересоленную исключениями, Биренбойм освоил за год. В последующем, читая запоем, лишь совершенствовал.
Фурсов, в отличие от Биренбойма, в ту ночь никаких этнопсихологических экскурсов не совершал, поскольку до шести утра корпел в узле связи восточноберлинского центра КГБ: обменивался с Агеевым радиограммами. В сухом остатке его реляции свелись к следующему: контрагент, крупный чин «Моссада», скорее всего, архитектор операции «Посувалюк», дал знать, что заинтересован в продвижении проекта, невзирая на смену полюсов. Наконец, получив под утро приказ заякориться в Берлине, – с прицелом на прогнозируемый ОК «Моссада» – завалился на конспиративной квартире спать.
Глава 12
5 января 1991 года 16:00 г. Москва
Борис Сухаренко, зав. аналитическим отделом ГРУ Минобороны СССР, чуть покусывал губы, глядя на январский лист календаря, где выделялась обведенная красным цифра «15». При этом объявленный ООН Ираку дэдлайн, обязывающий к этой дате вывести оккупационные войска из Кувейта, здесь ни при чем. Ближний Восток для полковника, дальше Сочи нигде не бывавшего, весьма отдаленная реальность, притом что на одну из стран региона он имел серьезные виды. Пятнадцатое января – последний день его воинской карьеры, день долгожданной демобилизации. Не более, чем совпадение.
Между тем иракский фурункул, зловеще набухающий, лишил в последние дни полковника покоя. Его, с недавних пор добровольного агента «Моссада», новое начальство основательно загрузило. А начиная с 28 декабря, вовсе затюкало, требуя конкретных оперативных действий, ему, кабинетной крысе, либо неподвластных, либо подталкивающих к зачатию опасных, на грани разоблачения, связей.
Вместе с тем Борис Ефремович, главный аналитик службы, один из самых информированных в Минобороны людей. Именно он сообщил на Шауль Амелех о том, что, вопреки политическому решению Горбачева, – отозвать контингент военных и гражданских специалистов из Ирака – отдельные, особо ценные, эксперты остаются или заменяются. Работает где берущий начало с семидесятых, махрово расцветший «откат», а где – неутоленные амбиции военно-промышленного комплекса. В скором времени Ирак – настоящий ЭСКСПО новейшей военной техники. Смотри, фотографируй, а повезет – разбирай на запчасти.
Как бы там ни было, прозвучавшую 28 декабря команду склонить советского гражданина вылететь с «гостинцем» в Ирак Сухаренко отверг на корню, жестко ответив: «Ни одного шанса. В который раз прошу не ставить чреватые разоблачением задачи». Однако отповедь «Моссад» не смутила – полковника одолевали все новые и новые, передаваемые через связного, прежнего профиля радиограммы. Отвечал на них он лишь выборочно, то и дело задумываясь, не совершил ли непоправимую ошибку.
Тут самое время понять, что подтолкнуло Сухаренко к измене. Агония империи, экономическое банкротство общества или страх перед разгромом силовых ведомств, как в случае с Черепановым? Может, близкая демобилизация?
Несложно предположить, что все понемногу, но ничто из перечисленного побудительным мотивом не служило. Провокатором устоев стал национальный фактор – мерзопакостный, переливающийся из века в век, неустранимый и прогрессом вирус. Выплеснутая перестройкой гласность подвинула Бориса Ефремовича вспомнить о своем, до десятого колена… еврействе. (Пусть его фамилия украино-белорусской этимологии никого не смутит, у евреев подобных имен собственных хватает. Дезориентировала она и армейских особистов, некогда утверждавших ему допуск высшей категории. Его же родители, памятуя печальный опыт ряда наций-изгоев, при введении в середине сороковых в свидетельствах о рождении и паспортах графы «национальность», благоразумно назвались «белорусами», к слову, не очень душой покривив. На тот момент в Гомельской области обитали сотни Сухаренко, их ближние и дальние, но отнюдь не титульной национальности родственники).
Здесь полковник ощутил, что свою географическую отчизну никогда не любил хотя бы потому, что вынуждала его этнические корни прятать. Кроме того, преобладающий в советском социуме психотип, выделяющийся дивной расхлябанностью и извечным поиском виновных, ему был всегда чужд, а с недавних смутных пор – стал невыносим. Наводнившая же Москву литература из Израиля, нельзя не признать, искусная на самый требовательный взгляд агитка, Баруха Фроимовича (в оригинале) с исторической родиной и вовсе породнила.
Между тем полковник понимал, что переезд из неблагополучной в экономически состоятельную страну, по причине его немолодого возраста (сорок восемь), статуса, подобающего высоким чаяниям, не сулит. Ведь, кроме шпионского «диплома», ему, увы, предложить нечего. Совсем скоро обнажилась безрадостная, но хоть каких-то гарантий перспектива: распродать доступные госсекреты в обмен на трудоустройство в системе израильской безопасности, эмигрируй он в Израиль.
Стороны ударили по рукам, едва занимаемая Сухаренко должность и искренность его намерений обрели на Шауль Амелех подтверждение. Так на трансконтинентальную лыжню шпионажа встал очередной, не поддающийся учету перебежчик. Но тут полковника настигает хмурое прозрение: в набирающих обороты сношениях уважительных, роднящих по общности крови чувств нет и в помине. В основе основ – незатейливое, хоть и укрываемое фиговым листком высокопарщины вымогательство. Он, конечно, не знал, что с началом Большой иммиграции в Израиль из СССР израильскую госбезопасность, прочие правительственные учреждения засыпали десятки подобных обращений. Как говорится, закормили…
При всем том Борис Ефремович тоже был евреем, с присущим его этносу обостренным инстинктом самосохранения. Быстро разобравшись, куда дует ветер, резко снизил профиль сотрудничества. В ответ «Моссад» предпринял сильный, едва прогнозировавшийся инициативником ход: вручил полковнику на подпись соглашение о выделении ему компанией общественного жилья «Амидар» трехкомнатной квартиры. Не зная иврита, он, разумеется, не мог прочитать, что малогабаритная «дыра» – как в прямом, так и в переносном («дыра» – квартира на иврите) – в занюханном городке Сдероте, на последнем этаже полупустующего дома без лифта, в восьмидесяти километрах от Шауль Амелех…