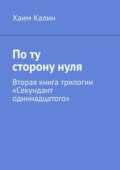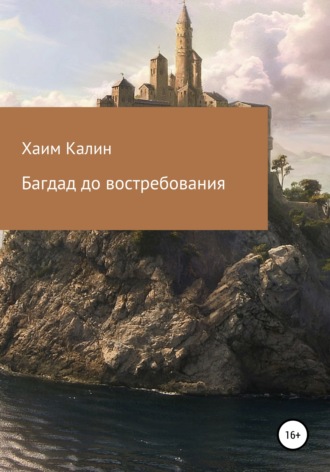
Хаим Калин
Багдад до востребования
Не «подкрепись» он накануне, то на борту на сиденье стюардессы приземлился бы – «Ил-62», точно пещера, был пуст. Один-одинешенек, да две вяло переговаривающиеся бортпроводницы. Неужели рейс затеян под него одного?.. Уселся в восьмом ряду, не подумав даже свериться с посадочным талоном. Минута-другая и его объял пузырь ватных, размазанных ощущений – продукт ударной, судорожно проглоченной дозы. Между тем, по мере того как та «выдыхалась», Талызина покалывали смурые чувства, возвращая к реальности без дна и покрышки.
Тем временем самолет продолжал стоять на приколе, опаздывая с вылетом на сорок минут. Судя по долетавшим обрывкам фраз, как-то «Где они, черт подери?!», кого-то ждали. Наконец осознав, что «они», вполне вероятно, созываемый для его ареста наряд, Семен Петрович двумя заходами опустошил «ссобойку», тотчас затребовав местный «паек».
– Не положено, после взлета! – разъясняла кодекс международных перелетов стюардесса, вполне доступным для совгражданина языком…
«Без тебя знаю!», – огрызнулся про себя бывалый пассажир, с опытом полсотни местных и двух заморских рейсов «Аэрофлота».
По трапу застучали ботинки нескольких человек, к коим через секунду-другую присоединился, казалось, целый взвод «топтунов» – будто разбуженные по тревоге матросы несутся с кубрика на верхнюю палубу.
Талызин почему-то кинулся проверить, не пристегнут ли он. Но не нащупав даже ремня, с глуповатой улыбкой распрямился. Смотрел при этом не по фронту, а куда-то в сторону.
В проходе объявились первые два «матроса». Первое, что инженер отметил, – ладные, коротко стриженные ребята и впрямь служивые, хоть и в штатском. Следующее открытие: припозднившиеся явно не по его душу. Одиннадцать молодцов пронеслись мимо, как слаженный экипаж каноэ, и компактно рассредоточились в хвосте, по человеку на ряд. Точно по команде, прильнули к иллюминаторам.
Боднувший сквозь дурман «общей анестезии» шок в ней и рассосался, но нерв любопытства растревожил. Талызин поглядывал через плечо на необычную команду, притом что «Москва-Багдад» уже выруливал на взлетную полосу. От пришельцев не доносилось ни слова, точно они командированы от общества глухонемых. Лишь одна из пар обменялась специфичными жестами, сурдоязык меж тем не напомнив. Тут Семена Петровича посетило: «Похоже, спецназ. Тогда… не моя ли группа поддержки? А может, чего того и отделение ликвидаторов? Не дергайся, слишком большая честь…»
То, что навязываемая миссия держится вся на соплях, Талызин ощутил, едва та была озвучена Шахаром в эскизе. Понятное дело, гастролеру кто-то из власть предержащих помогал, но как-то не верилось во всемогущество анонима. Нахрапом Великую Советскую стену не возьмешь – на костях строилась, дабы навеки колотились от страха, подумал тогда он.
Вот и не заладилось у гастролера и «квислингов» с первого дня их с Шахаром переезда из Владимира в Москву. Ни визита в ГКЭС, ни ссылок на командировку, пусть косвенных, – не состыковывалось что-то. Какой засланец не мастак скрывать свои чувства, кризис затеи прочитывался. Кроме того, за неделю они поменяли три обиталища. Тем самым напрашивалось: лазутчик из охотника превратился в дичь.
Между тем последние трое суток – очевидное оживление в стане заговора. Связной сновал между дачей и Москвой, как челнок. Шахар ему у забора нечто втолковывал и, казалось, связник либо крайне измотан, либо не усваивает смысл.
Опекун на глазах осунулся – самоуверенный налет вальяжного молодчика как рукой сняло. Темные круги под глазами, полная потеря аппетита. Сорвался даже разок на уговоры перекусить. По всему чувствовалось, что он не столько колеблется, сколько озабочен положением дел, а может, разуверился в успехе начинания. И еще. Он все чаще обследовал территорию вокруг дачи – выглядывал за ворота, прохаживался по улочке, оставляя подопечного без присмотра. Возвращался с видом, будто между прежних заноз затесалась новая, только не знает где. Что та, что эти… Порой, воротившись, спустя пару минут вновь выскакивал, словно норовил неких оппонентов застать врасплох.
Наконец, позавчера, после позднего визита связного, весть: «Завтра утром – в ГКЭС. Виза и билет готовы, вылет десятого в 21:00». На вопрос: «Как вести себя?» Ответил: «Как можно естественнее, но осложнений не предвижу». И ни одного комментария, не говоря уже инструкции, только еще больше ушел в себя.
Отправились меж тем в присутственное место вместе. Как ни диво, в лике гастролера – печать безразличия, будто до фонаря все, если, конечно, не зачерствел от перегрузок. При расставании у проходной не пожелал даже удачи, лишь махнул рукой: давай, мол, иди. Назвал, правда, место встречи. Неужели знал, что подопечный, как магнит, приворожен? Где страхом, а где не весть чем… А может, следовал коду уважительности, собственно, и сцепившему парадоксальный тандем? Тот еще тип…
Скорое, спустя два часа, воссоединение встретил весьма необычно – не поинтересовался даже итогом. Будто визит в булочную, а не в узловую начинания – начало всех начал. Разумеется, мог оценить внешне, что все на мази, или был накануне заверен в нужном исходе. Между тем кольнуло: что-то здесь не так, витает парень в своем, похоже, отторгая себя от задания. Лишь на даче буркнул: «Расскажи». Слушал невнимательно, блуждая взором, впрочем, то его преобладающий фасад на вынос.
При всем том повествовать было особенно не о чем, разве что озвучить баланс: паспорт с визой и билет в кармане. Личные же наблюдения в формат ячейки «раб – надсмотрщик» не вписывались. Не делиться же впечатлениями об авантюре, куда был пинком под зад внедрен. Размусоливать подковерные игры – себя не уважать. Да, неким непостижимым образом его, гастролера, взяла, но подыгрывать – увольте! Хватит того, что в минуту слабости открылся…
Между тем в ГКЭС технологическая цепочка «вахтер – зампредседателя» – сплошная зеленая улица, вдоль которой дружный ряд где подернутых изумлением, а где холопствующих глаз. При этом поклевывает ощущение невидимого ока, отслеживающего каждый шаг.
На формальности ушло полтора часа, включая билет, паспорт, командировочные, собеседование. В кабинете зампредседателя – то самое одушевившееся «око», а точнее, его генератор: широкоплечий наблюдатель за сорок, своей пробковой непроницаемостью способный и слона заставить ерзать. Лицо, однако, умное, сразу видно – белая кость. Зам часто посматривал на не представленного ассистента, заставляя озадачиться, кто из них на самом деле ассистент. «Око» убыло, не дождавшись конца аудиенции и, казалось, кивком утвердив командировку.
По размышлении здравом, выходило: расклад события – гораздо сложнее, чем представлялся вначале. Динамо авантюры – несложно было предположить – влиятельное местное образование, у которого варяг-гастролер, не исключено, в подпасках. Тем самым от израильского следа осталась одна дырявая калоша, внушавшая между тем: шансы выйти из заварушки живым и невредимым тают. Заградотряд – по всему периметру. Станешь отлынивать – сборная команда пиратов мать с дочерью в два счета изведет.
А под занавес встречи в ГКЭС – «презент»: 30-го они известили Багдад о не приезде советника по энергосистемам, при этом телеграмма от 7 января, отыгравшая прежнее решение назад, осталась без ответа. Заверения о чисто технической нестыковке, огрехах делопроизводства могли удовлетворить разве что новобранца. Будь проблема проходной, зам не упомянул бы ее вообще, тем более, не советовал бы сослаться на приступ радикулита, якобы отложивший вылет.
Ко всем бедам и мытарствам совсем свежий инцидент на таможне. Когда отправили на личный досмотр, кольнуло: «С чего бы это? В ГКЭС ведь казалось, что за вывеской предприятия – каста неприкасаемых, если ни сам госмеханизм». Скорое «Все в порядке», будто бы сбило напряжение, но тут, при упорядочивании развороченного багажа, резануло глаз: врученные Шахаром «гостинцы» – коробочка, якобы с заколкой для галстука, и «Экспансия» Ю. Семенова вернулись с досмотра со «щербинкой». Коробочку – сразу видно – вскрывали, что, с учетом процедуры, объяснимо, а вот обложка «Экспансии» потемнела. Кроме того, книга разила свежей типографской краской, при передаче ее Шахаром не замеченной.
Стало быть, ничего не оставалось, как в последний раз всласть, напропалую напиться.
О «снотворном» Талызину пришлось напоминать стюардессе дважды. Выяснилось, что за минувший год «Аэрофлот», под стать прародительнице, до безобразия обнищал. Не только «Арарата», но и «Столичной» в экспортном варианте не было.
– Скажите спасибо, что «Пшеничную» завезли, на прошлом рейсе и того не было, – пристыдила назойливого «пациента» стюардесса, отмеряв долгожданную добавку.
– Удружили, – буркнул про себя Семен Петрович, теряясь в смоге одурения, кого «благодарить», – барахтающегося в безвременье перевозчика или рачительную хозслужбу заговора.
– Подбавить через полчаса? – предложила в спину бортпроводница, неясно когда расположившись. От безделья что ли… Чуть ранее «хвост» дружно отказался от ночной трапезы, заказав одиннадцать порций чая.
«Пшеничная», контрастом сливочному «Чивасу», чуть было не вогнала в конфуз. Плотно сжав губы, Талызин сдерживал острый позыв тошноты. Получилось. Убедившись, что к его персоне ноль внимания, вновь пригубил. Вначале пробный глоток, после чего накатом полста грамм. Жаркая волна разнеслась по венам, взбудоражив насквозь плоть. Спустя минуту-другую спала, оставив после себя сладкую апатию, согласие сытого жвачного с самим с собой.
Торчал в своем «корытце» Семен Петрович между тем недолго. Вскоре его увлек рекламный проспект «Аэрофлота», а точнее, карта-схема его международных маршрутов, густыми пучками опоясавшими весь мир. Подумал: «Кто назвал нас «Верхней Вольтой с ракетами?» Мы – Союз отрядов «Аэрофлота». Но мысль сбилась на полпути, ничего оригинального не явив. Некоторое время Талызин копался в себе в поисках нового объекта интереса – без пользы, однако. В итоге докайфовал до того, что стал водить указательным пальцем перед носом, должно быть, норовя сконцентрироваться, дабы додумать ускользнувшую мысль.
Семен Петрович встрепенулся, туповато мотнув головой. Покосился за спину, после чего развернул корпус и уставился поверх кресла в хвост самолета. Одиннадцать, как ему подумалось, камикадзе крепко спали, несмотря на по большому счету взрослый час. «У них что, отбой, как в казарме, по приказу?» – озадачился он. – «Или, беря с меня пример, отрываются напоследок, придавив медведя? Но главное: что забыли на чужой войне? Двойной оклад, гробовые? Я хоть с ярмарки, запутавшийся в своей слабине и смутном времени чудак. Им-то жить и жить».
Он рассматривал бойцов, выискивая черты порока, коего за время лейтенантских сборов отведал вдоволь. Ему, испытавшему культурный шок, тогда казалось, что СА – прогнившее до блевотины, взращивающее одних дегенератов сообщество, лишенное не только героического ореола, но и права на существование. Да, им говорили, приютивший сборы стройбат – еще не вся армия, а ее худшая часть, но почему-то верилось этому с трудом. Зато подмывало, открыв цистерны заправочной, пустить на всю округу петуха, разоряя зверинец.
Между тем ничего общего с той оголтелой солдатней попутчики не имели. Даже спали опрятно, без храпа, маеты, под стать неброскому, почти беззвучному бодрствованию. При этом взыскательный глаз не мог не запечатлеть исходящую от них силу знающих себе цену удальцов. Из того же, что и гастролер, выводка, тот лишь артистичнее и, должно быть, опытнее, подумал Талызин.
Тут Семен Петрович почувствовал на себе пристальный взгляд, не понимая, откуда и чей он. Оглянулся, но даже присутствия бортпроводниц не выявил. Вновь обратил взор в хвост лайнера, обнаружив, что за ним некто в последнем ряду наблюдает. Прищурившись, разглядел нового, прежде не замеченного субъекта – мужчину около сорока, столь же самодостаточного, как и десятка уснувших бойцов. В том взгляде не было ни вызова, ни сарказма, а застрял устойчивый профессиональный интерес. Будто прикидывал на глаз, кто ты и каковы твои намерения. И, разумеется, насколько опасен.
Пошевелив подувявшими извилинами, Талызин смекнул, что наблюдатель, скорее всего, командир летучего подразделения. Бодрствует, причем не от бессонницы, а несет вахту, охраняя не столько сон, сколько безопасность коллектива – без всякой оглядки на экстерриториальность полета на десятикилометровой высоте. «Высшая лига, ничего не скажешь», – возвращаясь в привычную позицию, заключил Талызин. Дразнимый интригой, он спустя полчаса вновь обернулся, обнаружив нового часового с прежним, казалось, поставленным инструктором взглядом – бесстрастного, но неумолимого считывания кадра.
В какой-то момент Семен Петрович задумался: он оприходовал одну порцию «Пшеничной» или две? То есть, принесла ли стюардесса обещанную добавку? Если даже нет, то откуда нехарактерное для совковой обслуги радушие, да еще в столь щепетильном, чреватом осложнениями деле? Ответа между тем не нашел, ощутив на смыкающихся веках две известного церемониала монеты. Последнее, о чем Талызин подумал, уже несясь кувырком в царство Морфея: хорошо бы зависнуть в этом гудящем дирижабле, пока иракский нарыв не рассосется или лопнет.
Талызин проснулся, не разбирая, где он. «Что за странный автобус?» – наконец, слепилось из обрывков сна и шлаков перебора. Но увидев поодаль чем-то знакомую девушке в форме, Семен Петрович задышал ровнее. Среди своих, слава богу…
Впрямь человек без коллектива – тварь затурканная, а бражник, в загуле, тем более…
Чуть позже, встревоженный гулом двигателей, Семен Петрович стал мотать головой, натыкаясь на тьму за округлившимися почему-то окнами. И никак не мог восстановить событийно-координатную ось. В итоге переключился на самого себя: обследовал физическую комплектность членов, хоть и поверхностно.
– Вам чай или кофе? – прозвучало над ухом. На тот момент, согнувшись в три погибели, Семен Петрович рассматривал валяющиеся под соседним креслом ботинки. Будто бы свои… На звук распрямился, чуть задев головой откидной столик. Стакан покатился, но на канте замер.
Тут к нему память вернулась, обнажив, помимо подлого зигзага судьбы, ощущения мерзкого похмелья.
– Мне бы… – проблеял он стоящей у кресла бортпроводнице.
– Так чай или… – уточнила «своя», обрывом фразы о чем-то намекая.
Талызин часто, угодливо закивал.
– Что именно? – Стюардесса с опаской обернулась.
– Как прошлый раз… – Семен Петрович стыдливо потупился.
– Вы в своем уме?! – вспылила голубая принцесса. – Все проспали-пропили?! Коммунизма-то нет, раствора не хватило…
Талызин отстранился, должно быть, опасаясь пощечины, а может, оргвыводов за пропитое им общество благоденствия.
– Но… по прейскуранту бара, так и быть… – Стюардесса выжидающе смотрела на босого пассажира, кокетливо постукивая пальцами по обшивке кресла.
Семен Петрович задумался, силясь представить, как фужер из Шереметьевского бара перекочует на борт самолета в часе лета от цели. То, что на международных рейсах продают величаемое «баром» спиртное, он не знал.
– Так будете? – шепотом спросила «барменша», казалось, причащая к бортовой тайне.
Семен Петрович воровато кивнул, мигать не переставая.
– Пятьдесят долларов, – выдала счет королева момента.
Ощутив острую нехватку воздуха, Талызин вытаращился. Между тем вспыхнувшее чувство протеста – отнюдь не главный признак его состояния. По большей части, Талызин вел подсчеты: конвертировал командировочные, пять двадцаток «Дама с буклями», в долларовый эквивалент, а отталкиваясь от курса черного рынка, пятьдесят долларов – в рубли. Выходило, что «порция» съест треть командировочных или три его месячные зарплаты в «мавзолейных», как кто-то из его знакомых недавно пошутил. В эпицентре же, где пихаясь, а где, исподтишка гвоздя локтями, крепнул синдром снять «порчу».
В конце концов мешанина свалялась в ком безрассудной жажды – немедленной, хоть из клюва журавля дозы.
– Несите, только у меня фунты… – процедил сквозь зубы Талызин, обреченно опуская голову.
– Лишь бы настоящие… – ответствовала «угонщица» командирочных и скрылась.
Доза отдавала еще большей конспирацией и загадкой, чем переговоры о ней – завернутая в арабскую газету бутылка. Между тем сдача с двух двадцаток – в тех же фунтах и, навскидку, точная. Сняв обертку, Талызин опешил: непочатая «Пшеничная»! С чего бы это? Ведь подразумевалось сто грамм!
Здесь его осенило, что ситуация для обслуги, должно быть, трафаретная. Похоже, в последнее время не он один поднимался на борт «Москва-Багдад» на бровях, что не диво. Еще неделя и Ирак разворотит тайфун войны. Запрещающий же алкоголь ислам не сулит даже оттянуться напоследок. Так что кто идет в разнос перед судилищем, как он, а кто запасается «анальгетиком» впрок. Чем ползучий частный сектор и воспользовался, сплавляя – он нисколько не сомневался – контрабандную «Пшеничную» по пятикратному тарифу советской «валютки». «Пробниками» же жертвуют, дабы спровоцировать или разжечь аппетит.
Секунду-вторую Талызина покалывало уточнить: бутылка, не шведский стол ли? Но, чертыхнувшись про себя, он лихо отслоил жестяную пробку. Заполнил стакан на четверть и выпил. Плотно сжав веки, прислонился лбом к спинке кресла напротив – сбивал слепящую картинку, увы, без сюжета, не говоря уже, перспективы. Отстранился, плеснул еще сантиметр, но пить не стал. Прильнул виском к стене у иллюминатора, так и не раскрыв глаз.
Тем временем лайнер начал снижение, покидая крейсерскую высоту. До «Саддама Хусейна», прими их аэропорт, пятьдесят минут. Из хвоста доносились аккуратные щелчки, шорохи: летучая команда, будто во вражеском тылу, едва узнаваемо чистила перья. Молчком, как и прежде.
Все-таки, куда их несет нелегкая, подумал Семен Петрович, Горбачева-то, по крайней мере, внешне, в двойной игре не уличить. Хотя бы потому, что Союзу, в стадии активного распада, совсем не до Ирака. Стало быть, за командой стоит, скорее всего узковедомственный, по аналогии с моим, несогласованный с центральной властью интерес. Между тем лихая година свою пасть, по большей части, на самых достойных разевает…
Семен Петрович потянулся за «дозаправкой», ощутив необычный душевный подъем. Источник пока не улавливался, хотя и пузырился интригой. Ладонь обвила стакан, да так и на нем замерла.
Перед ним вдруг разверзлось, чем Сталин пробавлялся в первую, должно быть, самую трагичную декаду войны: отгородившись от пущенной по кругу страны, ошеломленных клевретов, всего мира наконец, он квасил. Забывался на часок и снова лакал. Не успев ощутить похмелья, опрокидывал очередную дозу. За рабочим столом, стоя на коленях, распластавшись на полу, в кровати, не раздеваясь.
Дня через три затребовал уже ящик, но и его не хватило, чтобы выжечь или хотя бы приглушить животный ужас, сковавший помыслы и тело. Запой ведь западня, лишь «замачивающая» на время страхи, но при малейшей абстиненции – утраивающиеся.
Он осязал сталинский кабинет, Поскребышева, собирающего на карачках бутылки, ошметки изорванных воззваний, завещаний. Доверить уборку техничке – разрушить миф кормчего всех времен и народов, гаранта нетленной большевистской идеи, их общей индульгенции на бессмертие. Вот верный оруженосец и протирал галифе заблеванный ковер, норовя собачьей преданностью вернуть владыку, защемленного страхом возмездия, на пьедестал власти.
Резанул ноздри смрад немытого неделю шестидесятидвухлетнего тела, не уступающий в зловонии рвотной массе. Пролитая «Кинзмараули» лишь сгущала общий амбре. Дырки в ковре, прожженные оброненной трубкой, разбросанные пуговицы от френча, вырванные с мясом в момент похмельного удушья, осколки опрокинутого бокала – жалкая отрыжка великой империи, отсекаемой немецкими танками по тридцать километров в день.
Новый фрагмент: топчущиеся в растерянности у двери диктатора соратники, запаниковавшие не столько за участь отчизны, сколько за свою собственную судьбу. Неделю как вскидываются от увязавшегося кошмара: заставленная виселицами Красная площадь, где в центре – клейменный персональными табличками эшафот. Священный синод отдельно, гвоздь программы, так сказать. Хватило ума – нельзя не отдать должное – постичь, что, кроме Хозяина, с его даром изводить целые классы и уникальным опытом администрирования террора, никому из них орду тевтонов, прирожденных воинов, не остановить. Он – единственный, кому по силам отвести топор плотника заплечных сооружений. Внуши лишь незаменимость и, разумеется, вытащи, хоть за волосы, из запоя.
Призвали личного Кобиного врача, только ему могли доверить самый не выговариваемый государственный секрет: Хозяин, как последнее отребье, запил в грязь, бросив страну недавним союзникам на растерзание; сломался, осознав, что его, махрового конспиратора и интригана, немцы на четыре точки поставили.
Между тем увиденное большим сюрпризом Виноградову не стало. Об устойчивом злоупотреблении Сталина спиртным говорили анализы, нездоровый цвет лица наконец. Но в еще большей степени – наблюдения. Поздние, в районе двенадцати, приходы на работу буквально выпячивали диагноз: ежевечерняя передозировка алкоголем. Перебрав за ужином, вождь утром просто не мог оторвать голову от подушки. От братания с пороком удерживала могучая воля, как и у многих ярких личностей, мирно уживающаяся с человеческими слабостями.
При этом Виноградова потрясло другое. Пациент, с учетом тяжкого отравления и немолодого возраста, в явной опасности, перед чем жесткое требование соратников – единолично провести реабилитацию, включая – немыслимо для академика – капельницы и уколы, смехотворно. Между тем ничего не оставалось, как подчиниться.
Талызин взглянул на «Пшеничную» и удивился: «Когда успел полбутылки уговорить? Неужели столь увлекся идеей, способной прорости лишь на пьяной грядке?»
Но тут всплыли в памяти документальные кадры, запечатлевшие речь Сталина от 3-го июля сорок первого года – первое публичное выступление вождя после десятидневного затворничества: в коротком отрывке Сталин дважды жадно пил воду. Выглядел пусть не потерянным, но без присущего ему, судя по иным кинолентам, холодного апломба небожителя.
Чуть позже пришел на ум широко известный, подтвержденный многими источниками факт: откровенно глумясь, Сталин спаивал без разбору всех членов политбюро. Не подвергалась историками сомнению и его репутация «совы», державшей высший эшелон управленцев на привязи до позднего вечера, при этом дрыхнувшей почти до обеда. Да и сын Василий, своим трагическим финалом, весьма похоже, иллюстрация того, что «отец за сына, да, отвечает…»
Дело здесь не в особой внутренней организации Сталина, а в панической боязни ночи, матери всех заговоров и покушений, подумал Семен Петрович. Оттого, одержимый манией преследования, диктатор призывал в ночные церберы бутылку – самый недолговечный, зато вмиг снимающий стрессы компаньон. Кому-кому, а Талызину симптоматика питейной зависимости была известна.
Подводя в своих розмыслах черту, Талызин озадачился: «Все-таки насколько уместна фантазия, меня посетившая? Ведь и правда многое сходится…» Ответа он так и не нашел, но ему страстно хотелось в свою гипотезу верить. Где себе в оправдание, а где – во власти озарения, казалось ему, напрашивавшегося давным-давно.
Так или иначе без ухода в загул, пусть на день-два, не обошлось, заключил он, пристегиваясь. Тем временем экипаж «Москва-Багдад» штатно заходил на посадку, не подозревая, сколько «мин и фугасов» припрятано в их, на первый взгляд, сугубо гражданском порожняке.
Глава 17
11 января 1991 г. 07.00 Аэропорт «Саддам Хусейн», Багдад
Проснувшись, Семен Петрович уже не выискивал дорожные указатели, как шесть часов назад, приняв на десятикилометровой высоте лайнер за автобус. Он – в камере багдадского аэропорта, а сидящий напротив сосед – попутчик из рейса «Москва-Багдад», принятый им вчера за командира группы.
Впрочем, Бахус и не попутал: переговоры с пограничниками от лица команды вел именно он. Единственное, что не складывалось, – это, куда делась сама команда. Между тем ломать голову Талызин не стал, посчитав, что рассредоточившие их «тургруппу» автоматчики, скорее всего, развели десятку молодцев по камерам. Начали же, понятное дело, с командного звена.
Как в «комиссары» произвели его самого, подселив к старшому спецназовцев, Талызин поначалу не понимал, вопрошающе поглядывая на попутчика в квадрате – столь же безъязыкого, как и на борту. Но, найдя объединяющий их признак – зрелый возраст, преспокойно завалился спать. Срослось, можно и на боковую…
Семен Петрович тер глаза, подумывая, чем бы себя занять. В роли потенциального собеседника, сокамерника он не видел: тот глядел куда угодно, только не в его сторону – будто раскачивалась табличка «Не кантовать». Да и общаться проснувшемуся, в общем-то, не хотелось, зато куда больше – промочить горло, ссохшееся, точно глина, как, впрочем, и само тело.
По пути к умывальнику ему с сожалением вспомнилась оставленная в самолете «Пшеничная». Но не как упущенный шанс «поправиться», а тем, что не успел спустить остатки в унитаз – назло стюардессе с повадками барыги. Когда же, по приземлении, решился, туалеты были заперты.
Выдудив две кружки, Талызин умылся, после чего раздумывал, какую бы еще физиотерапию предпринять – башка и тело, будто позаимствованы, с чужого плеча, натирая осиротевшую душонку. Тут, подавшись вперед, он вновь открыл кран и, не долго думая, подставил под струю воды голову. Охнул, будто от удовольствия, пофыркал, и тщательно протер волосы годящимся скорее для ног, чем для лица полотенцем. Закрепил встряску очередной кружкой безвкусной воды, напомнившей о годичной давности командировке. Потопал обратно.
– Полегчало, уважаемый? – встретил мокроголового вопрос.
Будто от холода, Талызин передернул плечами.
– Я бы поостерегся, сыро здесь… – призвал выбираться на сушу из запоя сокамерник.
– Как-то все равно – с кашлем или без… – клонил куда-то фаталист- естествоиспытатель.
Попутчик в квадрате, пропустив аллегорию мимо ушей, преспокойно встал и двинулся в санузел. Вернувшись c сухим полотенцем в руках, предложил:
– Давайте чалму вам сооружу. И шапку поверху. Застудитесь иначе.
– Отстаньте! – зло отмахнулся Талызин. – Лезете чего? Надеетесь отсюда выбраться? Я, представьте себе, нет!
Увещеватель резко шагнул навстречу и, к изумлению Семен Петровича, присел на краешке нар. От контраста между агрессивным сближением и мягкой, лишенной угрозы посадкой Талызин часто замигал, не зная, отскочить ему в сторону или же остаться на лежаке.
– Не дергайтесь. Добра ведь вам желаю. – Увещеватель поманил к себе большим пальцем.
Талызин после недолгого замешательства придвинулся, уловив интуитивно, что, кроме профилактики, подразумевается нечто другое.
– Придержите комментарии, здесь записывающее устройство, – прошептал сокамерник. Да так тихо, что Талызин разобрал слова скорее по губам, нежели расслышал.
Закутывая голову соседа в полотенце, радетель продолжил: – Поселили нас вдвоем намеренно – прощупать, чем дышим. Так что прикусите язык. О семье да близких лучше…
Прознав азы тюремной традиции, Талызин насупился. Дулся причем не на базовый принцип казенного дома – подглядывание, а на самого себя. «Как бы не обошлась со мной судьба, – чертыхался он, – сунуться в логово зверя, залив очи, – выходка люмпена или, на худой конец, бесшабашного юнца. Можно начхать на достоинство, но зачем тащить на дно случайных попутчиков, угодивших в свой, возможно, круче твоего переплет?»
Придерживая руками чалму, он вновь улегся. Впрочем, иного занятия и не предвиделось – не растекаться же по семейному древу перед персоной, родом занятий далекой от врачевания душевных ран. Да и, не дай бог, вновь не то ляпнешь…
Пригревшись, он ощутил, что удав похмелья ослабил свой хват – туман одурения рассеивается. Мало-помалу Семен Петрович объял пространство момента, выделив в нем свой персональный квадрат. Ничего утешительного. Прогноз, в самом худшем развороте, сбывается. Между тем ни одного признака, что подноготная его авантюры высветилась…
Невольно перенесся на четыре часа назад – в сектор пограничного контроля. Чуть покачиваясь, зато при твердой памяти, замкнул очередь скорее за выстроившимися, нежели расположившимися друг за другом служивыми. Разглядел даже сквозь замутненные диоптрии стопку паспортов, переданную контроллеру старшим группы.
Как бы ему не хотелось, чтобы спецназовцев подольше досматривали, отдаляя тем самым его Голгофу, процедура отдавала откровенной формальностью. Раскрыв паспорт, контроллер курсировал взором по лежащему рядом списку и, находя соответствие, чиркал галочку. Когда поддел последний серпастый, зевнул даже.
Тут зазвонил телефон, приморозив сладко разъехавшиеся уста. Контроллер поморщился и справа налево повел головой, точно запамятовал, где аппарат. Натолкнувшись на него, ухватился за трубку левой рукой, правой продолжая удерживать корочки.
Контроллер угодливо закивал, сообщая мембране, казалось, одни заикающиеся междометия и «есть» по-арабски. Повесив трубку, диковато, со смесью испуга и ненависти, уставился на визави, «экскурсовода» группы. Скорее от растерянности отодвинул от себя стопку корочек, все еще держа неосвоенный паспорт в левой руке.
Спустя минуту сектор погранконтроля окружил взвод автоматчиков, слаженно, без лишнего шума заблокировавших выходы – как на взлетное поле, так и в пассажирский зал. На фланге таможни двое бойцов расступились, дав пройти офицеру, направившемуся к будке погранконтроля.
Между тем, поравнявшись с будкой, офицер не стал в нее заходить. Больше того, даже не взглянул на вскочившего пограничника – проследовал дальше, к очереди. Остановился и, хитро улыбаясь, рассматривал «экскурсовода».
Тот смешался, казалось, не разбирая суть послания. Перевел взор на подопечных и пересчитал.
– Почему не здороваешься, Коля? – изумил округу беглым русским ревизор в полковничьих погонах. – Я так изменился или ты память потерял? Ведь могу обижаться…
«Коля» прищурился, будто вспоминая пришельца, но по чрезмерному усердию могло показаться, что ревизора он узнал. Пожав плечами, откликнулся: «Не припоминаю, к сожалению…»
– Как это у вас – «На нет и судья нет». – Полковник, резко развернувшись, пошел к оцеплению.
Талызин не успел и переварить событие, как напротив каждого «туриста» вырос персональный сторож с автоматом наперевес, а полковник с контроллером начали сверять фото паспортов с оригиналами. Между тем, добравшись до замыкающего, уставились: мол, это кто такой? Увидев протянутый паспорт, вовсе растерялись – суетливо переглядывались, казалось, пытаясь связать покачивающегося гостя с заорганизованной, необычной выправки группой. Наконец пограничник выхватил корочки и, не раскрывая, передал ревизору.