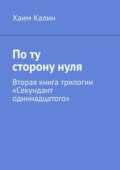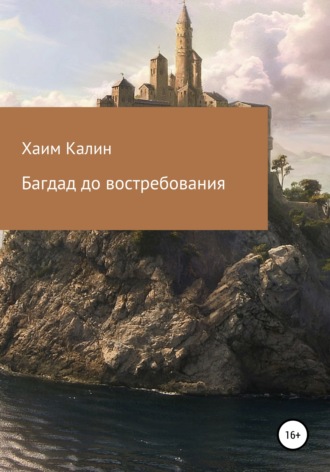
Хаим Калин
Багдад до востребования
Поглядывая на календарь, Сухаренко решал непростую задачу. Врученная ему утром у входа в метро депеша, с одной стороны, сторонних действий, чреватых обнажением двойной игры, не предполагала, ибо ответ обозначил себя, едва он радиограмму прочитал. Но с другой – переносила, хоть и косвенно, в эпицентр внутрисоюзного кризиса, в самый его гадюшник, от которого не только держись подальше, крайне опасно хоть что-либо из оного регистра знать. Тем более, проговориться.
Не один советский функционер высшего звена догадывался: в стране зреет заговор. Его щупальца тянутся из коридоров силовых ведомств.
Борис Ефремович уже склонялся к мысли отписаться «Сведений – никаких», когда всплыли мелькнувшие днями кадры израильской кинохроники – выстроившаяся за противогазами очередь. В самом хвосте – пожилая супружеская пара, с виду – репатрианты из совка, явно не в своей тарелке. Полковника вдруг посетило, что чета напоминает ему бабушку и дедушку по материнской линии, ныне покойных, у которых в детстве почти ежедневно гостил. Пахнуло чем-то теплым, близким, сколько раз за нелегкую, двойных стандартов жизнь обогревавшим. Сухаренко резко зачесал растопыренной пятерней волосы и за пять минут состряпал ответ:
«Вскоре после разгрома штаб-квартиры «Штази» Первое Главное управление КГБ и ГРУ в июне 1990 года перебазировали особо ценные досье и частично – архивы агентуры на территорию одного из советских военных городков в Ираке, не уведомив об этом советское руководство. Должно быть, опасались акций, аналогичных массовым беспорядкам в Восточном Берлине. По ряду косвенных свидетельств можно судить, что месяц назад, во время эвакуации советских специалистов из Ирака, архив изъяла служба безопасности «Мухабарат». Скорее всего, с одобрения Саддама Хусейна. Предпринимаются скрытые от правительства СССР попытки архивные материалы вызволить. Событие – не более чем, чем очередной индикатор зреющего в СССР антиправительственного заговора. Фройка».
Вечером того же дня Биренбойм, инициатор запроса, адресованного по телефону (через Париж) в московскую резидентуру из мюнхенского аэропорта, жадно вчитывался в ответ Сухаренко, нервно улыбаясь.
***
5 января 1991 года 17:00 г. Кунцево
Талызин украдкой посматривал на заморского гастролера, подбирая момент начать трудный, еще вчера назревший разговор. Открыл было рот для вступления, когда в калитку их пристанища, подмосковной дачи, постучали.
Гастролер выглянул в окно и, рассмотрев через штакетник знакомого, вышел из дому. Перебросился с визитером парой фраз, взял у того котомку, вернулся. Выложил на стол провизию, сложенный вчетверо лист бумаги, раскрыл, стал читать.
Текст навскидку – полстраницы. Гастролер изучал его меж тем долго, минут пять. Отложил, задумался, после чего вновь пробежал глазами. Недавние пролежни скуки на лице турнула озабоченность, если не тревога.
– Ты хотел говорить, Семен? – обратился гастролер, забрасывая лист в печку, где гудела газовая горелка.
– Разве? – смутился Семен Петрович. Из-за перепада настроения у стражника-компаньона ему общаться перехотелось.
– Лучше говорить, чем себя мучить, – советовал засланец с псевдонимом «Старик», последнюю неделю нарекающий себя Федор.
Талызин пожал плечами, начал разбирать продукты с яркими, не местными этикетками. Малейшего любопытства при этом не испытывал и за пару секунд переместил провизию в холодильник. Вновь уселся за стол, излучая перепутье чувств.
– Может, разойдемся каждый в свою сторону? – спросил Талызин, отважившись наконец.
– Что это «разойдемся»? – Эластичных движений «Старик» враз отяжелел. Пристально смотрел на Семена Петровича.
– Ты поедешь к себе, а я к себе… – обозначил принцип демократического общежития Талызин, быть может, основополагающий. Помявшись, нехотя продолжил: – У вас не получается, большого ума не надо, чтобы понять… Иначе еще позавчера отправил бы меня в ГКЭС. Но знай… – Талызин призвал максимум учтивости, – я на тебя зла не держу. Говорю искренне, можешь верить этому или нет.
Сидящий на диване гастролер резко встал на ноги, но застыл, будто додумывает задачу. Наконец решившись, шагнул к столу и… запрыгнул, развернувшись, пятой точкой на столешницу. Семен Петрович, сидевший на стуле чуть поодаль, недоуменно вскинул голову: мол, что за манеры? «Старик» сигнала не заметил, ибо повернут был к компаньону боком, к тому же под ноги глядел. Тут он по-доброму взглянул на соседа и заговорил:
– Мне хорошо, что ты не злой, Семен, но тебе – это не очень хорошо. Люди редко желает другой человек добро, много есть ненависть, зависть. Хотят вкусно кушать, иметь большой дом, красивый жена, но не очень хотят работать. Думают, как у сосед забрать. Поэтому такой человек, как я, есть много работа и поэтому часто добрые люди, как ты, падать в беда…
– Ты читаешь мне сказку на ночь, убаюкивая, или убеждаешь, что твое ремесло полезнее, чем, скажем, врача? – разбирался в модели людского общежития «по Старику» инженер-электрик.
– Семен, хочешь коньяк? – озарился внезапной идеей «Старик». – В шкафчик нашел.
– Я домой хочу, – напомнил о своем, явно забалтываемом интересе Талызин. Между тем предложение не оставил без внимания: – Я лишь потому согласился, что веру в себя потерял. Одолели сомнения, что сам с алкогольной зависимостью не справлюсь. Тут я подумал: может, иракская волчья яма, куда недавно агитировали свои, а ныне заталкивают чужие – некий, зовущий к очищению знак? Меня ведь, по сути, уже нет. Год-два и сыграю в ящик от цирроза или инфаркта. Однако запомни: деньги, угрозы – аргументы для слабаков, не про меня сказано. А хотя…
– Так ты выпьешь, Семен? – Гастролер спрыгнул на пол, искрясь энтузиазмом.
– Ты не ответил, Федор, я жду! – взбунтовался Талызин. – И очень прошу: не считай меня дураком. Спаивать, чтобы удержать, – глупейшая затея! К кровати лучше привяжи… – Семен Петрович заулыбался.
– Почему смеешься, Семен? – Опешив от изрядной порции незнакомых слов и скачков тональности, «Старик» то таращил глаза, то сам норовил осклабиться.
– Потому что пациент с моим диагнозом, лишь чуть пригубив, неделю хлещет. Дороже выйдет! Дважды в день помощника будешь звать – в магазинах ведь шаром покати. Алкоголь только за валюту свободно…
Неким усилием «Старик» утихомирил сумбур эмоций, обретая привычный фасад – грациозного манекена с блуждающим взором «себе на уме». Отмахнулся, будто передавая «не договориться с тобой», и двинулся в смежную комнату. Спустя минуту вернулся с фужером и бутылкой «Арарата», на ходу ее рассматривая.
– Никто не заставлять тебя пить, Семен, – поучал «Старик», располагаясь за столом. – Алкоголь – как мазь для рук, нужно взять столько, чтобы сделать ладонь мягкий. Понадобится еще – добавлять немножко, рука порядок – забыл. Я сам захотел выпить, чтобы отдых. Если передумаешь, скажешь… – Гастролер осторожно ощупывал жестяную шляпку-пробку с язычком, казалось, не зная, как к ней подступиться.
Вскоре, призвав столовый нож, «Старик» отделил пробку, но от едкого запаха отпрянул, после чего брезгливо принюхивался. Казалось, от решения задвинуть емкость куда подальше, его удерживает авторство почина, мол, самолюбие перечит. Все же потянулся к пробке, но тут вмешался предприимчивый «трезвенник»:
– Ты минералкой разбавь, Федор.
Привстав, Талызин распахнул дверцу холодильника. Извлек «Боржоми», плитку шоколада, лимон. Снисходительно улыбаясь, за пару минут соорудил фуршет и разлил. Себе – одну минералку, а лже-Федору – шипучий коктейль, «зачадивший» пуще исходного материала.
– Давай, конвойный, за успех нашего безнадежного дела! – Семен Петрович весело звякнул своей чашкой по фужеру, как подумалось ему, компаньона по несчастью,
«Старик» меж тем «протокол» проигнорировал, с опаской посматривая то на инженера-алхимика, то на «дистиллят». Между делом потянулся к бутылке и, зафиксировав в левой руке, плеснул аккуратный чейсер в чашку соседа.
Но емкость вернул на стол не сразу – кругообразным движением нечто изобразил. Поскольку обстановка к кодовым знакам будто бы не звала, то жест мог быть воспринят: «не увиливай» или даже «придуриваться кончай». Пантомима, судя по поднятой чашке, зажгла фитиль взаимопонимания, мерно тлевший до полуночи.
Тем временем, по забору нескольких доз, потешавших Талызина своей скудностью (наливал один засланец), прежде, в основном, молчавшие, отиравшиеся в своем компаньоны по неволе разговелись, ширму конспирации, а где – взглядов на мир приподняв. Быть может, алкоголь сделал свое, но скорее, безысходность, ими осознанная.
Секундами ранее, в который раз перебрав каждое слово тель-авивской депеши, «Старик» окончательно определился: операция «Посувалюк» КГБ дезавуирована. Но на Шауль Амелех прознали о разоблачении отнюдь не от него, позавчера известившего Центр о серьезных подозрениях, в связи с чем затребовавшего инструкции как быть. (Мгновенный перевод секретаршей звонка шефу, зампредседателю ГКЭС, столь высокопоставленному чиновнику, едва прозвучала фамилия «Талызин», да еще без всяких уточнений, не мог профессионала не насторожить. А о реакции самого зампредседателя, воспринявшего посредника, якобы поверенного Талызина, более чем благосклонно, и упоминать не приходилось. Как итог, Старик» приостановил операцию, пока не «распогодится», и залег на дно). Несмотря на обтекаемость формулировок депеши, координатор заключил, что «Моссаду» известна конкретика провала, но в отчем доме почему-то предпочли подробности скрыть. При этом на обломках старой, потерпевшей крах операции, весьма похоже, затевают новую, упомянув о возможной реорганизации.
Чем это было чревато? Ничем особенным, не будь платформой затеи СССР – страна-динозавр мироустройства, тиражируемых «вышек», опутанная сетью концлагерей, и в довершение ко всему – исходящая в предсмертных конвульсиях. Бесследно раствориться, как Рауль Валенберг, в этой наглухо задраенной психушке – как дважды два четыре.
Испытывая прежде лишь смутные подозрения, «Старик» уже не сомневался: его упрямо скармливают. Не узнай он через связного, что Черепанов не вышел на связь, возможно, был бы менее категоричен. Ныне же – воспринимал трагизм своего положения как данность. Меж тем засланец как-то прочувствовал: жертвуют им ни галочки в отчете ради, мол, в трудную годину без жертв не обойтись, а с прицелом на некий, обозначившийся прибыток.
Талызину же, уловившему душевные метания стражника-компаньона, было и подавно не сладко. Он, выдернутый за шкирку из запоя в заорганизованную с избытком реальность, воспринимал малейший перепад напряжения, словно амперметр. И уж точно не испытывал малейших иллюзий о своем статусе – заарканенного крепкой уздой мула.
При все том, не прихвати его «Старик» «тепленьким», Семен Петрович рассмотрел бы в схеме лихого набега не одну брешь. Самая явственная: его шантажирует одиночка. Лишь в Москве объявился сообщник, ныне их единственный канал сношения с внешним миром. Причем внешне тот – обычный совковый юноша, ничем на головореза или силовика не похожий. С «Федором» его роднила лишь семитская внешность.
Но тут, освободившись от шлаков похмелья, Талызин открывает, что авантюра, чреватая фатальными последствиями, весьма кстати. Не исключено, без шоковой терапии подточенное пороком сознание не исцелить. Не меньший сюрприз, обозначившийся на новогоднем торжестве, засланец на диво притягателен. Помимо яркой внешности, влечет подчеркнуто уважительным отношением, эдакий сукин душка-сын.
Как бы там ни было, духовно сплотило шантажиста и шантажируемого нечто иное – неожиданное, не поддающееся рациональной оценке обстоятельство. Засланец, при всей вопиющей несхожести образа, чем-то напоминал Талызину самого уважаемого, если не горячо любимого коллегу – Самуила Моисеевича Скобло, главбуха «Владимироблэнерго». Корифей своего дела, с тонким чувство юмора, чурающийся любых интриг «Моисеич» обрел в душе Талызина пристанище меж тем не по профессиональному признаку. Его выделяли, притягивая, милая застенчивость и уязвимость. Если образно: не зарастающее темечко, которое Талызина то и дело подмывало заслонить. Гораздых поизмываться над безотказным, гонимых кровей «Моисеичем» хватало.
Словом, влюбил жертву в насильника смутировавший в треугольнике между Владимиром, Карагандой и Тель-Авивом какой-то мудреный, постстокгольмский синдром…
– Скажи, Семен, – нетвердым голосом раскачивал ширму конспирации «Старик», – почему русский человек такой странный? Почему непонятный отношение к деньги? Вот ты, например, отказываться…
– Быть может, потому, что их у нас с семнадцатого года не было, от талона к талону перебивались… – валил на произвол истории Талызин. – Вкус, как таковой, не отложился…
Раскрасневшийся, явно поплывший «Старик» остервенело взглянул на «Арарат» и одним махом стравил баланс в чашку собутыльника, заполнив ее до краев. Талызин в осуждении раздул щеки, выпустил шумно воздух. Подчеркнуто аккуратно взялся за чашку, передвинул в центр стола, придавая жесту некий мистический смысл. Принес из трюмо новый фужер, после чего с аптекарской точностью разделил остаток надвое – себе и конвойному-компаньону.
– А мне понравилось твое сравнение, Федор! На мысль навело! – воскликнул, ошарашив конвойного инженер. – Это, понимаю, дело: перегнать алкоголь в мазь, расфасовав в компактные тюбики! Носи хоть в кармане и втирай – не хочу! И никому невдомек: косметика это или доза? Но главное: одним заходом смазывает душу и похмельную дрожь рук! Гениально, Нобеля мало!
– Русских не понять, – заглянув в свой фужер, тяжко вдохнул гастролер. Приподнял и звякнул по бокалу расшалившегося, но внешне – совершенно трезвого подопечного. Пригубив немного, пояснил: – Хотел говорить о жизнь, а ты – дурацкий шутка про водка.
– Неужели? Шпион и разговор за жизнь – трудно поверить, – усомнился Семен Петрович. – Сколько торчать здесь, даже не ответил.
– Сколько… Не знаю, – честно признался гастролер, графика турне и постоянной труппы не имевший…
Талызин пристально всматривался в засланца, будто хочет прочитать его мысли. Меж тем зацепиться не за что – все тот же небрежно курсирующий по окрестностям взгляд. Эдакий вращающийся во всех плоскостях перископ, обезличенный, неодушевленный. Не столь пугает, как мертвечиной отдает, подумал инженер, но то лишь внешне…
– А с чего ты взял, что от денег я откажусь? – озадачил Семен Петрович гастролера, казалось, захваченного врасплох. – Я тут, размечтавшись, подумал: на пороге новые времена. Моей дочери жить в другом мире. Личный успех – вот императив дня, нравственных метаний и демагогии не знающий. Спроси: что я, ее отец, кроме фашистского Ирака и тоталитарной родины видел? Отвечу: обкорнанные садистом-цензором лоскутки кинолент, очереди, еще раз очереди, словом, прободную нужду. При этом ценности создавал на миллионы…
– Ты не так плохо живешь, Семен, – вполголоса возразил засланец, казалось, самого себя удивив, оттого чуть нахмурился. Коллегу же по диспуту и подавно – Талызин мотнул головой, выказывая: не послышалось ли ему?
– Смотри, – продолжил «Старик», набравшись духа, – у тебя хороший квартира, большой машина, шофер. Не каждый начальник в другая страна иметь шофер. Вообще, трудно дать сравнение… И я не уверен, что в другие страны смог бы получить то, что в Советский Союз получил. Университет на Западе стоит дорого – много молодежь не могут себе позволять. А такие люди, как ты, из деревня, тем более. Но должен тебе сказать: в Россия совсем понял, что деньги – не все. Покупают только примитивный человек. Поэтому здесь не все плохо, жизнь – бедный, но люди относиться к другой хорошо. Вижу.
– Ты бы женился у нас! – предложил Семен Петрович, расплываясь в улыбке.
– Откуда знаешь, что я без жена? – насторожился «Старик».
– Сказать честно: мне все равно. Но почему-то так кажется, с твоей профессией жена – обуза.
– Обуза – это беременная? – едва вымолвил гастролер.
– Да не пугайся ты так! – подтрунивал полный иронии Талызин. – За рожденное вне брака дите у нас в тюрьму не сажают. И за покинутых любовниц тоже… Максимум – алименты платить.
– Элементы? – переспросил «Старик».
– Алименты, – повторил Семен Петрович. Заметив умственные потуги у собеседника, разложил на пальцах: – Деньги на содержание ребенка.
– Oh, Alimony!* – воскликнул гастролер и… прикусил язык.
Талызин почесал большим пальцем лоб, после чего поскреб всей пятерней подбородок. Размял шею, уставился на свой фужер, отодвинул. Перелив игривости на его лице – как промокнуло, и Семен Петрович принял подчеркнуто деловой вид, с атмосферой разбитных посиделок будто бы не вяжущийся. Меж тем, оказалось, строгое обличье – весьма странная прелюдия к извинениям:
– Федя, за пошлые намеки прости… Вижу: задергала тебя жизнь больше моего. Свой горький опыт и тот не научил – с интимном шутки плохи. Защемит где – не отцепишься. Точно гарпун: не вырвать, разве что себя перепилить. Хочешь душу излить – пожалуйста, понадобится – поддержу. Не забыть, как ты Таню обнимал, будто прощаясь у эшафота…
«Старик» резко приподнял руку, точно объявляя антракт, но скорее, его выпрашивая. Размякшее от горячительного лицо округлилось, выдавая рябь духа. Расклеившийся манекен то порывался встать, то нечто вымолвить и замечалось: себя за что-то корит. Наконец он встал на ноги, ловко сдвинув стул, но, куда себя деть, казалось, не знает. Тут, будто опомнившись, обратился, как только что проявилось, к подопечному мужского пола, впервые в карьере ему симпатизирующему:
– Расскажи, Семен, лучше про Ирак. И постарайся – меньше трудные слова.
– Да! – встрепенулся Семен Петрович. – Давно нужно было предложить… Я ведь прилично владею английским. Кстати, в том же Ираке жизнь заставила: один из смежных подрядчиков – датская фирма. Рядовые инжинеришки, а по-английски – как на родном. Самолюбие заело. Каждый день зубрил, к концу года заговорив бегло. Стало быть, конспирацию – на вешалку, один черт на «элементах» прокололся. А об Ираке не проси: обычная, хоть и восточной закваски диктатура. Быть может, – только сейчас дошло – здесь еще одна причина, почему я согласился… Скольких невинных Саддам погубил и усы его на каждом столбу…Так что свою историю давай. Думается, таковых ты насобирал целый чемодан, как и шрамов, от которых рябит…
Между тем призыву упростить общение посредством английского «Старик» не внял, как и непринужденно отделался от заявки на шпионский эпос – сам Семена Петровича разговорил. К полуночи судьба компаньона-подопечного соткалась, нитка за ниткой, в ладный коврик-дорожку, хотя и грешил тот пасмурной гаммой открытого финала. Слушая исповедь, «Старик» про себя не раз присвистывал от завидных достижений некогда закомплексованного деревенского паренька, оказалось, отметившегося не только на профессиональном, но и научном поприще. Причем без всякой протекции, опираясь сугубо на самого себя, что компаньонов по неволе в известной степени роднило.
В какой-то момент «интервьюер» открыл, что самый прочный стержень личности нередко пасует перед буйным конгломератом жизни, так что гарантом счастья – средоточия всех помыслов – служить не может. Далее «Старик» заключил, что ни алкогольная зависимость инженера, пожирающая его тело и мозг, ни органичное неприятие саддамовского режима – второстепенные мотивы его выбора – отправиться с опасной миссией в Ирак. Главный, хоть и подспудный, побудитель – неосознанное влечение к тому самому духовному комфорту, воплощенному в образе жены, яркой внешне хищницы, которую он не в силах забыть. Стало быть, скорее всего, Талызин уступил не под прессом шантажа, выискивая по ходу полезные для себя ниши, а дабы, совершив некий грандиозный поступок, свою беглую половину вернуть, понятное дело, соблазнив не одной героикой, а огромными, обещанными ему деньгами. Так что, сославшись на будущее дочери, инженер подразумевал рухнувшую семью, у воображаемого костра которой он, явная жертва, несмотря ни на что, греется.
Тем временем на подмосковной даче, в занятном скрещении с русским, все чаще звучал английский. Суржик пришелся весьма кстати – «Старик» за несколько часов такого общения ни разу не переспросил. Хотя двуязычие он не поддерживал, но на английские пассажи Талызина исправно, в такт знакам препинания, кивал, порой, правда, улыбаясь. Рассказчик, при отличном для совка английском, пренебрегал, как почти каждый самоучка, произносительными нормами…
Между тем в отчем доме многоуровневый суржик – рабочий язык «Старика». Объясним он отнюдь не богемным фрондерством, а потребностью в нем лиц международных устремлений. Общеизвестно: самый добротный перевод не заменит оригинала, и исчерпывающего набора эквивалентов ни в одном языке нет. Так что подворовываем понемногу…
За полчаса до полуночи Семен Петрович стал с тревогой посматривать на часы, казалось, торопясь на диктуемый физиологией отдых. Между тем лики помыслов, не секрет, обманчивы, нередко подбрасывая фастфуд для заблуждений. На самом деле Талызину хотелось продлить уютный, незаметно пробежавший вечер, и про себя он вымаливал у мачехи-ночи отсрочку. С тех пор, как Семен Петрович пристрастился к алкоголю, сон захромал: три-четыре раза за ночь он вскидывался в холодном поту, а добрую неделю после загула – практически не спал, маясь, как лунатик.
Тем временем интервьюер деликатно позевывал, намекая, что время на боковую, и не мог взять в толк, отчего компаньон-подопечный сверяется с часами, не покидая посиделок. Разве что ждет кого…
Оказалось, инженер просил у мачехи-ночи снисхождения не столь за себя, как за них обоих. Ведь «сосед по купе» спецвагона «Москва-Багдад», притаившегося на ветке ожидания, последние четверо суток даже его недолгие погружения в сон рвал на клочья. Засланец бредил, причем столь болезненно, что инженер поначалу не на шутку струхнул, не в силах разобрать: кошмар его собственный или компаньона?
Во вторую ночь шок потеснило любопытство – Талызин с интересом следил за дорожкой извергаемых в бреду слов, львиная доля которых – на иврите. Он определил язык сразу, притом что вживую столкнулся с ним впервые. Отдельные слова будто взяты из арабского, чьи азы, волею обстоятельств, за год жизни в Ираке впитал. Да и изобилие гортанных звуков зазывало в стан семитских языков, там же – путем простейшего вычитания…
К сегодняшнему утру психоделическая муть, скрашиваемая языковыми наблюдениями, поднадоела, так что Талызин с тоской дожидался сигнала отбоя. Уже не занимали розмыслы о разительном контрасте между внешним обликом персонажа в яви, разностороннего, бесстрашного парня, и его развинченной напрочь психикой, слетающей с подпорок по ночам. Талызин понимал, вопрос лишь времени, когда молодчик-симпатяга сподобится в тяжелого невротика. Поначалу посочувствовав мысленно, он какой-то момент не без раздражения махнул на «жертву кровавых мальчиков» рукой.
Вдруг инженер завис, ощутив себя промеж двух плит, умаляющих естество в ничто. Ничего не хотелось – ни беззаботной болтовни, ни кайфа первой в жизни исповеди, ни рассуждений о бренности бытия. Последнее, что моглось, – встать на ноги и брести куда глаза глядят. Подальше от ближневосточной драмы, практически ему незнакомой, собственной надломленной судьбы, пока еще не безразличной, харизматичного вышибалы, прихватившего его с потрохами, некогда любимой работы, возненавиденной из-за частых запоев, докторской диссертации, похоже, навсегда заброшенной, и даже близких, взятых в заложники. А в довершению ко всему – последней порции «Арарата», фигурально выдохнувшейся, – будто пораженный алкоголем центр затянул мозоль вселенского равнодушия.
Он встал и, едва передвигая ноги, поплелся в зал. Остановился у дивана и повалился в полном облачении. Спустя минуту-другую заснул как убитый, будто погрузился в резервуар с нефтью, в первые мгновения чуть пенившийся.
Всю ночь Талызин активно соперничал с караульным-компаньоном, норовя обогнать того в протяженности тирад. Только рычанием и воплями, в отличие от соседа, он не разражался, в основном, бубнил в подушку, к утру измочив ее слюнями. Порой бред инженера обретал связность – распознавались законченные предложения, а то и смысловые фрагменты. Чаще всего он апеллировал к бывшей жене.
Один из отрывков блуда подкорки изумил бы и юристов, окажись таковые у ложа. С прокурорским пафосом инженер вещал, что узаконенный развод спустя три года подлежит обязательному пересмотру – ни много ни мало судом высшей инстанции, причем, невзирая на позиции сторон. Процесс – состязательный, новые спутники бывших супругов – соответчики. Окончательный вердикт – за присяжными. Между тем об исполнении решения раздухарившийся «законодатель» умолчал, вдруг переключившись на некоего «того еще субчика», спаивавшего его накануне.
Бред – бредом, шутки – шутками, но выходило, что под венец судейской колотушкой зазывают, ну а консолидируют союз, понятное дело, судебные исполнители…
Проснувшись, Талызин с опаской водил головой, будто обиталище ему незнакомо. Но, заметив стоящую поодаль кровать с примятой постелью, успокоился, уселся.
С кухни-прихожей доносился свист чайника, прочие, уже запомнившиеся, присущие «опекуну» звуки активности. Семен Петрович чуть хмыкнул, погружаясь в раздумья: «В яви человек как человек, ни одного признака, что по ночам – снедаемый сепсисом ума лунатик. Подожди-подожди, минутку… Должно быть, его имя Шахар. Если «шахар» не имя нарицательное на иврите, то зовут его, скорее всего, так… Звучно, ничего не скажешь, залетному к лицу…»
Секундами ранее Талызина посетила фраза на английском, разок-другой мелькнувшая в ночных «антрепризах» гастролера: «Your Нonor, Shahar is not a serial killer. On the contrary, he is a serial victim»*
Глава 13
6 января 1991 г. 00:15 Штаб-квартира «Моссада»
Моше Шавит и Дорон Биренбойм поглядывали друг на друга с налетом раздражения, для главного опера вроде неуместном, подчиненный как-никак… Почему-то казалось, что господа не могут определиться, кому вводить мяч в игру – последние минуты после многочасового говорения они молчали, казалось, ворча про себя.
Между тем конфликтом здесь и не пахло: начиная с полудня директор и серый кардинал «Моссада» плодотворно сотрудничали – с тех самых пор, когда «Реактивный Дорон» объявился на Шауль Амелех, прибыв из Берлина. Господа даже сообща опрашивали приглашенных экспертов и между делом отужинали за рабочим столом.
Директор «Моссада» и куратор операции «Посувалюк» с нетерпением дожидались премьер-министра Израиля, явно подустав. Биренбойм – и вовсе обессилил, третьи сутки перескакивая из одной физической среды в другую.
Ицхак Шамир, невероятно популярный в народе премьер-коротышка, ростом «метр с кепкой», пробился на властный Олимп, подшучивали журналисты, неким символичным посылом. В век акселерации генофонда, но обесценивания института лидерства служил напоминанием великого предшественника галльских кровей. К тому же шпарил на французском, будто родился на Корсике, а не на Гродненщине, с акцентом, правда, иным. Между тем отметился на родине Бонапарта всего лишь годом с хвостиком, где скупал для рождающегося в муках Израиля оружие, а не «штурмовал» Сорбонну.
– Он подъехал, – донесся по громкой связи голос секретаря директора.
Шавит и Биренбойм буднично сверились с часами, после чего в очередной раз переглянулись, будто от нечего делать. Между тем «он» – премьер Ицхак Шамир, непосредственный работодатель директора. Тем самым напрашивалось: почему Шавит не понесся к парадному крыльцу, отправляя в стойку «смирно» почетный караул? Все так, но чинопочитание не про Израиль, по южному открытую, провинциально свойскую, не привечающую фамилий и отчеств страну. Особенно в такую чреватую смертельной опасностью годину. Больше того, визит премьера – отнюдь не накачки ради. Шамира вытребовал директор, сославшись на особые обстоятельства.
Как бы там ни было, на шум в приемной Шавит и Биренбойм двинулись к двери, дабы засвидетельствовать отцу нации почтение. Однако в проеме возник не премьер, а начальник его охраны. Кивнув Шавиту, тот придирчиво осмотрел кабинет, после чего вопросительно уставился на Биренбойма.
– Свой, Рафи, – успокоил директор.
– А где мой портрет? – незаметно выскользнувший из-за спины охранника премьер театрально осматривался. – Руки не дошли?
– Зачем он тебе? – вяло отбивался Шавит. – Ты в Конторе не в одних зарплатных ведомостях значишься, в делах покруче… Хранить вечно, так сказать…
Шамир жестом руки приказал охране удалиться, после чего уселся на первый попавшийся стул, в ряду, занимаемом лишь для расширенных совещаний.
– Чего топчетесь? Давайте сюда! – Шамир хлопнул по ближнему к себе сиденью. Но тут, сообразив, что общение в линию – проблематично, встал и отправился к директорскому столу, где, не раздумывая, занял место докладчика. Шавит и Биренбойм заторопились вслед, оседлали два кресла напротив.
– Пытаюсь отгадать: начнете с плохой или хорошей вести? – осадил премьер Шавита, открывшего было рот для доклада.
Шавит и Биренбойм опасливо переглянулись, будто застигнуты врасплох.
– Ты, в общем-то, прав: что тех, что этих хватает… – признался, морщась, директор. Набравшись духу, перешел к сортировке: – Речь о плохом парне из Тикрита, а точнее, как уже говорил, о схеме, выводящей на него. Так вот… еще на прошлой неделе проявилось игольчатое ушко, куда мы и сунулись… Но, когда вводил тебя в курс дела, по причине нулевого цикла, умолчал, что «садовник» – русский посол в Ираке Посувалюк. Как несложно предположить, на того поступил компромат, самый что ни на есть первостатейный… – Шавит прервался, желая уловить реакцию премьера, но кроме ладно сложенных детских ручек на столешнице и яркого галстука не выделил ничего. Невозмутимый взгляд, безупречная выдержка, крепкий, без соединительного шва, орешек.
В лике Шамира мелькнула вопросительная мина: дескать, чего прервался? Давай, давай…
– Тем самым… – с натугой продолжил директор, – дорожка указывала на Москву. Отмечу: погнала туда скорее интуиция, нежели трезвый расчет. Ведь пересечь иракскую границу – как по воздуху, так и по суше – не самая сложная для тренированной агентуры задача. Но уткнуться в ворота посольства, почти не имея шансов быть послом принятым, – сомнительный, малопродуктивный план. Не брать же, в случае обрыва, резиденцию диппредставительства штурмом в кишащем военными Багдаде? Да и толку, тут дискретность нужна…
Смахивающий на полохливого зверька Биренбойм угодливо кивнул.
– Так вот, – подбавил решительности директор, – наш крот, сотрудник центрального аппарата КГБ, выводит на советского инженера-электрика, которого, можешь себе представить, со дня на день дожидаются в Багдаде. У него и виза чин чинарем, и место на последний рейс «Аэрофлота» забронировано. Да, забыл сказать, прежде в Москву командируется наш лучший парень, «Старик» – руководить операцией.