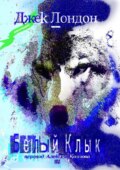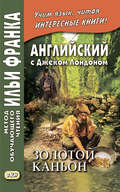Джек Лондон
Мартин Иден
Она кивнула утвердительно и хотела объяснить;
– Но ему это и не нужно. Он по натуре угрюм и серьезен. Он всегда был таким.
– Еще бы ему не быть! – воскликнул Мартин. – На три да на четыре доллара в неделю! Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги! Днем работает, ночью учится, только и знает, что трудится, и никогда не поразвлечется, никогда не погуляет, даже и не знает, должно быть, как это делается. Хо! Слишком поздно пришли эти его тридцать тысяч.
Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую духовную дорожку, которая впоследствии привела его к тридцатитысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Батлера представились ему словно в телескопе.
– Вы знаете, – прибавил он, – мне жаль его, этого мистера Батлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам у себя украл всю жизнь ради этих тридцати тысяч, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас уже он на эти тридцать тысяч не купит того, что мог бы тогда купить за десять центов, – ну, там леденцов каких-нибудь, когда был мальчишкой, или орехов, или билет на галерку!
Подобный подход всегда несколько ошеломлял Руфь. Он не только был совершенно новым для нее и не соответствовал ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне переделать все ее представления о мире. Если бы ей было не двадцать четыре года, а четырнадцать, она, может быть, очень скоро изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было двадцать четыре, и вдобавок по натуре она была консервативна, а полученное воспитание уже приспособило ее к образу жизни и мыслей той среды, в которой она родилась и развивалась. Правда, странные суждения Мартина иногда смущали ее в момент разговора, но она приписывала это оригинальности его личности и судьбы и старалась поскорее забыть их. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, сила его убеждения, блеск глаз и серьезность лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Ей и в голову не приходило, что этот человек, пришедший из-за пределов ее кругозора, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее, и слишком возвышался над привычным для нее уровнем. Границы ее кругозора были для нее единственными правильными границами; но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким и этим объясняла возникавшие между ней и Мартином идейные коллизии и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами, и расширить его горизонт до пределов своего горизонта.
– Но я еще не докончила своего рассказа, – сказала она. – Он работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Мистер Батлер всегда отличался необычайной работоспособностью. Он никогда не опаздывал на службу, наоборот, очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждый свободный миг он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и, чтобы платить за них, диктовал по ночам одному судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и был в своем роде незаменим. Отец мой вполне оценил его и увидал, что это человек с большим будущим. По совету моего отца, он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона моего отца. Это выдающийся человек. Он уже несколько раз отказывался от места в сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом верховного суда. Такая жизнь должна всех нас окрылять. Она доказывает, что человек с упорством и с волей может всего добиться в жизни!
– Да, он выдающийся человек, – согласился Мартин совершенно искренно.
И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его понятиями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел мистер Батлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному – Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за тридцать тысяч долларов в год! Было что-то жалкое в карьере мистера Батлера, и она не очень вдохновляла его. Тридцать тысяч долларов – это, конечно, не плохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценность.
Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей известного круга думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляла древнего еврея благодарить бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по всему земному шару, чтобы навязать всем своего бога. И она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.
Глава 9
Мартин Иден вернулся из плавания и поспешил в Калифорнию, гонимый любовным томлением. Восемь месяцев назад, истратив свои деньги, он нанялся на судно, отправлявшееся на поиски клада, зарытого где-то на Соломоновых островах. После долгих и безуспешных поисков предприятие было признано неудавшимся. С матросами рассчитались в Австралии, и Мартин немедленно нанялся на судно, идущее в Сан-Франциско. За эти восемь месяцев он не только заработал достаточно денег, чтобы подольше продержаться на суше, но, кроме того, сумел найти время продолжать свои занятия.
У него был восприимчивый ум, и к тому же ему помогали природное упорство и любовь к Руфи. Изучив грамматику, он несколько раз возвращался к ней и, наконец, овладел ею окончательно. Он теперь замечал неправильности в разговорах матросов и мысленно исправлял их ошибки и грубость речи. С радостью он замечал, что его ухо стало очень чувствительно и что у него развилось особое грамматическое чутье. Всякая неправильность речи звучала для него как диссонанс, хотя с непривычки бывало еще, что и у него самого срывались с языка подобные ошибки. Видимо, нужно было время для того, чтобы освободиться от них навсегда.
Покончив с грамматикой, он принялся за словарь и взял за правило каждый день прибавлять двадцать слов к своему лексикону. Это была нелегкая задача, и, стоя на вахте или у рулевого колеса, он повторял выученные слова и старался произносить их как следует. Он вспоминал все наставления Руфи и, к своему изумлению, скоро обнаружил, что начал говорить по-английски чище и правильнее самих офицеров и тех сидевших в каютах джентльменов, которые финансировали всю авантюру.
У капитана, норвежца с рыбьими глазами, нашлось случайно полное собрание сочинений Шекспира, в которое он, конечно, никогда не заглядывал, и Мартин получил разрешение пользоваться драгоценными книгами за то, что взялся стирать белье их владельцу. Отдельные места трагедий производили на него такое впечатление, что он запоминал их без всякого труда, и некоторое время весь мир представлялся ему в образах и формах елизаветинского театра, а мысли его сами собой укладывались в белые стихи. Это послужило полезной тренировкой для его слуха и научило его ценить благородство английского языка, хотя в то же время внесло в его речь много устаревших и редких оборотов.
Мартин хорошо провел эти восемь месяцев. Он научился правильно говорить и думать, и он лучше узнал самого себя. С одной стороны, он смиренно сознавал свое невежество, с другой – чувствовал в себе великие силы Он видел огромную разницу между собой и своими товарищами, но не мог понять, что разница эта лежит не в достигнутом, а в возможном. То, что он делал, могли делать и они, но внутри него происходила какая-то работа, говорившая ему, что он способен на большее. Он был восхищен красотой мира, и ему хотелось, чтобы Руфь могла любоваться этой красотой вместе с ним. Он решил описать ей величие Тихого океана. Эта мысль пробудила в нем творческий импульс, и ему захотелось передать красоту мира не одной только Руфи. И в ослепительном сиянии возникла великая идея: он будет писать. Он будет одним из тех людей, глазами которых мир видит, ушами которых мир слышит, он будет из тех сердец, которыми мир чувствует. Он будет писать все, поэзию и прозу, романы, очерки и пьесы, как Шекспир. Это настоящая карьера, и это – путь к сердцу Руфи. Ведь писатели – гиганты мира, куда до них какому-нибудь мистеру Батлеру, который получает тридцать тысяч в год и мог бы стать членом верховного суда, если бы захотел.
Едва возникнув, эта идея всецело овладела им, и обратное его путешествие в Сан-Франциско было подобно сну. Он был опьянен сознанием своей силы и ощущением, что может все. В спокойном уединении Великого океана вещи приобрели перспективу. Впервые он ясно увидел и Руфь, и тот круг, в котором она жила. Эти видения облеклись в его уме в конкретную форму, он мог как бы брать их руками, повертывать во все стороны и рассматривать. Много было непонятного и туманного в этом мире, но он глядел на целое, а не на детали, и в то же время видел способ овладеть всем этим. Писать! Эта мысль жгла его, как огонь. Он начнет писать немедленно по возвращении. Прежде всего он опишет экспедицию, ходившую на поиски клада. Он пошлет рассказ в какой-нибудь журнал в Сан-Франциско, ничего не сказав об этом Руфи, и она будет удивлена и обрадована, увидев его имя в печати. Он может одновременно и писать и учиться. Ведь в сутках двадцать четыре часа. Он непобедим, потому что умеет работать, и все твердыни рушатся перед ним. Ему уже не нужно будет плавать по морю простым матросом, в воображении он вдруг увидел собственную яхту. Есть же писатели, которые имеют собственные яхты! Конечно, останавливал он себя, успех приходит не сразу, хорошо если на первых порах он хотя бы заработает своим писанием достаточно для того, чтоб продолжать учение. А потом, через некоторое время, – очень неопределенное время, – когда он выучится и подготовится, он начнет писать великие вещи, и его имя будет у всех на устах. Но важнее этого, бесконечно важнее всего самого важного, – это что тогда он станет, наконец, достойным Руфи. Слава хороша и сама по себе, но не ради нее, а ради Руфи возникли в нем эти мечты. Он был не искатель славы, а только юноша, одержимый любовью.
Явившись в Окленд с набитым карманом, Мартин опять водворился в своей каморке в доме Бернарда Хиггинботама и уселся за работу. Он не сообщил Руфи о своем возвращении. Он решил, что пойдет к ней, лишь окончив свой очерк об искателях сокровищ. Это намерение он осуществлял без труда, потому что был всецело охвачен творческой лихорадкой. Кроме того, каждая написанная им фраза приближала ее к нему. Он не знал, какой длины должен быть рассказ, но сосчитал количество слов в очерке, занимавшем два столбца в воскресном приложении к «Обозревателю Сан-Франциско», и решил этим руководствоваться. В три дня, работая без передышки, закончил Мартин свой очерк, потом тщательно переписал его крупными буквами, чтоб легче было читать, – и тут вдруг узнал из взятого в библиотеке учебника словесности, что существуют абзацы и кавычки. А он и не подумал об этом! Мартин тотчас снова сел за переписку очерка, все время справляясь с учебником, и в один день приобрел столько сведений о том, как писать сочинение, сколько обыкновенный школьник не приобретает и за год. Переписав вторично очерк и осторожно свернув его в трубку, он вдруг прочел в одной газете правила для начинающих авторов, гласившие, что рукопись нельзя свертывать в трубку и что писать надо на одной стороне листа. Он нарушил оба пункта закона. Но он прочел еще, что в лучших журналах платят не менее десяти долларов за столбец. Переписывая в третий раз, Мартин утешался тем, что без конца помножал десять столбцов на десять долларов. Результат получался всегда один и тот же – сто долларов, – и он решил, что это куда выгоднее матросской службы. Если бы он дважды не дал маху, рассказ за три дня был бы готов. Сто долларов в три дня! Ему бы пришлось три месяца скитаться по морям, чтобы заработать подобную сумму. Надо быть дураком, чтобы плавать на судах, если можешь писать. Впрочем, деньги сами по себе не представляли для Мартина особенной ценности. Их значение было только в том, что они могли дать ему досуг, возможность купить приличный костюм, а все это вместе взятое должно было приблизить его к стройной бледной девушке, которая перевернула всю его жизнь и наполнила ее вдохновением.
Мартин вложил рукопись в большой конверт, запечатал и адресовал редактору «Обозревателя Сан-Франциско». Он представлял себе, что все присылаемое в редакцию немедленно печатается, и так как послал очерк в пятницу, то ожидал появления в воскресенье. Приятно будет таким способом известить Руфь о своем возвращении. В это же воскресенье он и пойдет к ней. Между тем он уже носился с новой идеей, которая казалась ему необыкновенно удачной, правильной, здравой и непритязательной: написать приключенческий рассказ для мальчиков и послать его в «Спутник юношества». Он пошел в читальню и просмотрел несколько комплектов «Спутник юношества». Выяснилось, что большие рассказы и повести печатаются в еженедельнике частями, примерно по три тысячи слов. Каждая повесть тянулась в пяти номерах, а некоторые даже в семи, и он решил исходить из этого расчета.
Мартин однажды плавал в Северном Ледовитом океане на китобойном судне; плавание было рассчитано на три года, но закончилось через полгода, вследствие кораблекрушения. Хотя он и обладал пылким воображением, но фантазию его всегда питала любовь к правде, и ему хотелось писать лишь о вещах ему известных. Он отлично знал китобойный промысел и, основываясь на фактическом материале, решил повествовать о вымышленных приключениях двух мальчиков, которые должны были стать его героями. Это было нетрудно, и в субботу вечером он уже написал первую часть в три тысячи слов, чем доставил великое удовольствие Джиму и вызвал со стороны мистера Хиггинботама целый ряд насмешек над «писакой», объявившимся в их семье.
Мартин молчал и только с наслаждением представлял, как удивится зять, когда, развернув воскресный номер «Обозревателя», прочтет очерк об искателях сокровищ. В воскресенье он рано утром был уже на улице, ожидая появления газеты.
Просмотрев номер внимательно несколько раз, он сложил его и положил на место, радуясь, что никому ничего не сказал о свой попытке. Потом, поразмыслив, решил, что ошибся относительно быстроты, с которой рассказы появляются в печати. К тому же в его очерке не было ничего злободневного, и возможно, что редактор решил предварительно написать ему свои соображения.
После завтрака он снова занялся повестью. Слова так и текли из-под его пера, хотя он часто прерывал работу, чтобы справиться ей словарем или учебником словесности. Иногда во время таких пауз он читал и перечитывал написанную главу, утешая себя тем, что, отвлекаясь от великого дела творчества, он зато усваивает в это время правила сочинения и учится выражать и излагать свои мысли. Он писал до темноты, затем шел в читальню и рылся в еженедельных и ежемесячных журналах до десяти часов вечера, то есть до самого закрытия. Такова была его программа на эту неделю. Каждый день он писал три тысячи слов и каждый вечер шел в читальню, листал журналы, стараясь уяснить себе, какие стихи, повести, рассказы нравятся издателям. Одно было несомненно: он мог написать все, что написали эти бесчисленные писатели, и более того: дайте срок, и он напишет много такого, чего им не написать. Ему было приятно прочитать в «Книжном бюллетене» статью о гонорарах, где было сказано, что Киплинг получает доллар за слово, а для начинающих писателей – что особенно заинтересовало его – минимальная ставка в первоклассных журналах два цента «Спутник юношества» был, несомненно, первоклассным журналом, и, таким образом, за каждые три тысячи слов, которые он писал в день, он должен был получить по шестьдесят долларов – заработок за два месяца плавания.
В пятницу вечером он закончил свою повесть. В ней было ровно двадцать одна тысяча слов. По два цента за слово – и то это уже даст ему четыреста двадцать долларов. Недурная плата за недельную работу. У него еще никогда в жизни не было столько денег сразу. Он даже не понимал, на что можно истратить так много. Ведь это же золотое дно! Он может черпать оттуда без конца. Он решил приодеться, выписать кучу газет и журналов, купить все необходимые справочники, за которыми теперь приходилось бегать в библиотеку. И все же от четырехсот двадцати долларов оставалась еще довольно крупная сумма, и он ломал голову, как использовать ее, пока, наконец, не решил нанять служанку для Гертруды и купить велосипед Мэриен.
Мартин отослал объемистую рукопись в «Спутник юношества» и в субботу вечером, обдумав план очерка о ловле жемчуга, отправился к Руфи. Он предварительно позвонил ей по телефону, и она сама отворила ему дверь. Знакомое, исходящее от него чувство силы и здоровья, опять охватило ее всю, с головы до ног. Казалось, эта сила наполняла все ее тело, разливалась по жилам и заставляла трепетать от волнения. Он вспыхнул, коснувшись ее руки и взглянув в ее голубые глаза, но она не заметила этого под темным загаром, покрывшим его лицо за восемь месяцев пребывания на солнце. Но полосу, натертую воротничком на шее, не скрыл и загар, и, заметив ее, Руфь едва удержалась от улыбки. Впрочем, у нее прошла охота улыбаться, когда она взглянула на его костюм. Брюки на этот раз отлично сидели, – это был его первый костюм, сшитый на заказ, и Мартин казался в нем куда стройнее и тоньше. Вдобавок он заменил свою кепку мягкой шляпой, которую она тут же велела ему примерить и похвалила его внешность. Руфь была счастлива, как никогда. Эта перемена в нем была делом ее рук, и, гордясь этой переменой, она уже мечтала о том, как будет и дальше направлять его.
Но в особенности одно обстоятельство, и притом самое важное, радовало ее: перемена в его языке. Он теперь говорил не только правильнее, но гораздо свободнее, и его лексикон значительно обогатился. Правда, в моменты увлечения он забывался и опять начинал употреблять жаргонные словечки и комкать окончания, иногда он запинался, готовясь произнести слово, которое только недавно выучил. Но речь его улучшилась не только с внешней стороны. Она приобрела еще большую яркость и остроту, чрезвычайно обрадовавшую Руфь. Это сказывался его природный юмор, за который его всегда любили товарищи, но который он раньше не мог проявить при ней за недостатком подходящих слов. Теперь он понемногу осваивался и в ее обществе уже не чувствовал себя таким чужеродным элементом. Но все же он был преувеличенно осторожен и, предоставив Руфи вести оживленную беседу, старался, правда, не отставать от нее, но ни разу не брал на себя инициативу.
Он рассказал ей о своем сочинительстве, изложил план того, как он будет писать для заработка и, таким образом, получит возможность учиться. Но его ждало разочарование: Руфь отнеслась к этому плану скептически.
– Видите ли, – откровенно сказала она, – литература такое же ремесло, как и всякое другое. Я не специалист, конечно, я просто высказываю общеизвестные истины. Ведь нельзя же стать кузнецом, не проучившись предварительно года три, а то, пожалуй, и все пять. Но писатели зарабатывают лучше кузнецов, и потому очень многие хотят стать писателями и пробуют свои силы.
– А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности? – спросил Мартин, радуясь втайне, что так хорошо выразился; и тотчас же заработало его пылкое воображение, и он увидел как бы со стороны картину этого разговора в гостиной, а рядом сотни картин его прежней жизни, грубых и отвратительных.
Но все эти пестрые видения пронеслись перед ним в один миг, не прерывая течения его мыслей, не замедляя темпа разговора. На экране своей фантазии видел Мартин эту прелестную, милую девушку и себя самого, разговаривающих на хорошем английском языке в уютной комнате, среди книг и картин, – и все это было озарено ровным, ясным светом. А кругом, по краям экрана, возникали и исчезали совсем иные сцены, но он, как зритель, мог смотреть на них по своему выбору. Он созерцал все это сквозь пелену тумана, которую вдруг пронизывали острия яркого красноватого света. Он видел ковбоев, пивших в кабаке огненное виски, кругом раздавалась грубая речь, пересыпанная непристойностями, а сам он стоял среди самых отъявленных головорезов и тоже пил, бранясь и крича, или сидел с ними за столом под вонючей керосиновой лампой, сдавая карты и звеня фишками. Потом видел себя обнаженным до пояса, со сжатыми кулаками, перед началом знаменитого боя с рыжим ливерпульцем на палубе «Сасквеганны»; потом он увидел окровавленную палубу «Джона Роджерса» в то серое утро, когда вспыхнул мятеж, увидел старшего помощника, корчившегося в предсмертных судорогах, револьвер в руках капитана, извергавший огонь и дым, толпу матросов вокруг, с искаженными от ярости лицами, – и, снова устремив взор на центральную сцену, спокойную и тихую, озаренную ярким светом, увидел Руфь, беседующую с ним среди книг и картин; увидел большой рояль, на котором она позже будет играть ему; услышал свою собственную, правильно построенную и произнесенную фразу:
«А почему вы не допускаете мысли, что у меня есть к этому способности?»
– Даже если у человека есть способности к ремеслу кузнеца, – возразила она со смехом, – разве этого достаточно? Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь стал кузнецом, не побывав сначала в обучении.
– Что же вы мне посоветуете? – спросил он. – Но только помните, что я действительно чувствую, что могу писать. Это трудно объяснить, но это так.
– Вам надо учиться, – последовал ответ, – независимо от того, станете вы писателем или нет. Образование необходимо вам, какую бы карьеру вы ни избрали, и оно должно быть систематическим, а не случайным. Вам надо пойти в школу.
– Да… – начал он, но она прервала его:
– Вы можете и тогда продолжать писать.
– Поневоле буду продолжать, – ответил он грубо.
– Почему же?
Она посмотрела на него почти с неудовольствием: ей не нравилось упорство, с которым он стоял на своем.
– Потому что без этого не будет и учения. Ведь нужно же мне есть, покупать книги, одеваться.
– Я все забываю об этом, – сказала она со смехом. – Почему вы не родились с готовым доходом!
– Я предпочитаю здоровье и воображение, – отвечал он – доходы придут. Я бы много делов наделал ради… – он чуть не сказал «ради вас», – ради… другого чего-нибудь.
– Не говорите «делов»! – воскликнула она с шутливым ужасом. – Это ужасно вульгарно.
Мартин смутился.
– Вы правы, – сказал он, – поправляйте меня, пожалуйста, всегда.
– Я… я с удовольствием, – отвечала Руфь неуверенно. – В вас очень много хорошего, и мне бы хотелось, чтобы все это стало еще лучше.
Он тотчас опять превратился в глину в ее руках и страстно желал, чтобы она лепила из него, что ей угодно, а она так же страстно желала вылепить из него мужчину по тому образцу, который ей представлялся идеалом. Когда она заявила ему, что приемные экзамены в среднюю школу начнутся в понедельник, он сказал, что будет держать их.
После этого она уселась за рояль и долго играла и пела ему, а он смотрел на нее жадными глазами, восторгаясь ею и удивляясь, почему вокруг нее не толпятся сотни обожателей, внимая ей и томясь по ней так же, как внимал и томился он.