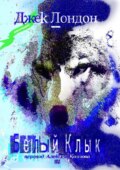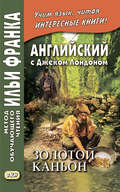Джек Лондон
Мартин Иден
Глава 21
Наступили чудесные дни, теплые и полные неги, какие часто бывают в Калифорнии в пору бабьего лета, когда солнце словно окутано дымкой и слабый ветерок едва колеблет задумчивый воздух. Легкий пурпуровый туман, словно сотканный из цветных нитей, лежал у подножья холмов, а на их вершинах дымным пятном раскинулся город Сан-Франциско. Посредине блестел залив, словно полоса расплавленного металла, и на нем кое-где белели паруса судов, то неподвижных, то медленно скользящих по течению. Вдалеке, в серебристом тумане, высился Тамалпайс, Золотые Ворота узкой тропкой протянулись в лучах заходящего солнца, а за ними синел Великий океан, туманный и безмерный, окаймленный на горизонте густыми белыми облаками – предвестниками надвигающейся зимы.
Лету пора было уходить. Но оно все еще медлило здесь, среди холмов, сгущая багряные краски долин, и под дымчатым саваном усталости и пресыщения умирало спокойно и тихо, радуясь, что жило, и что жизнь его была плодотворна. И среди этих осенних холмов сидели Мартин и Руфь, совсем рядом, склонив головы над страницами книги; он читал вслух, а она слушала стихи любви, написанные женщиной, которая любила Броунинга так, как умеют любить лишь немногие женщины.
Но чтение подвигалось медленно. Слишком сильны были чары угасающей красоты в природе. Золотая пора года умирала так, как жила, – прекрасной и нераскаявшейся грешницей, и казалось, самый воздух вокруг был напоен истомой сладких воспоминаний. Эта истома проникала в кровь Мартина и Руфи, лишала их воли, обволакивала радужным туманом рассудок и нравственные принципы. Мартин поддавался пьянящей слабости, и по временам огонь пробегал по его жилам. Их головы совсем сблизились, и когда от случайного порыва ветра волосы Руфи касались его щеки, печатные строчки начинали расплываться у него перед глазами.
– По-моему, вы не слышите того, что читаете, – сказала Руфь, когда он вдруг сбился, потеряв место, которое читал.
Мартин поглядел на нее горящими глазами, но, не выдав себя, ответил:
– И вы тоже не слушаете. О чем говорилось в последнем сонете?
– Не знаю, – засмеялась она. – Я уже забыла. Не стоит больше читать. Уж очень хорош день.
– Нам сегодня долго не придется гулять, – сказал он серьезно, – вон там, на горизонте, собирается буря.
Книга выскользнула из его рук и они молча сидели, глядя на дремлющий залив мечтательными, невидящими глазами. Руфь мельком взглянула на шею Мартина. Какая-то сила, более властная, чем закон тяготения, могучая, как судьба, вдруг повлекла ее. Всего на один дюйм ей надо было склониться, чтобы коснуться плечом его плеча, и это случилось помимо ее воли. Она коснулась его так легко, как бабочка касается цветка, и тут же почувствовала ответное прикосновение, такое же легкое, почувствовала, как его плечо прижалось к ней и как дрожь прошла по всему его телу. Ей надо было отодвинуться в эту минуту. Но она уже не повиновалась себе. Все, что она делала, делалось автоматически, без участия ее воли, да она и не заботилась уже ни о чем, охваченная радостным безумием.
Рука Мартина нерешительно протянулась и обняла ee стан. Она ждала с мучительным наслаждением, ждала, сама не зная чего; губы ее горели, сердце стучало, кровь обращалась все быстрей. Объятие Мартина стало крепче, он медленно и нежно привлекал ее к себе. Она не могла больше ждать. Она судорожно вздохнула и безотчетным движением уронила голову к нему на грудь Мартин быстро наклонился, и губы их встретились.
Это, должно быть, любовь, подумала Руфь, когда на один миг к ней вернулось сознание. Если это не любовь, это слишком постыдно. Конечно, это могла быть только любовь. Она любила этого человека, руки которого обнимали ее, а губы прижимались к ее губам. Она прильнула к нему еще крепче, инстинктивным, прилаживающимся движением, и вдруг, почти вырвавшись из его объятий, решительно и самозабвенно обхватила руками загорелую шею Мартина Идена. И так сильна, так остра была радость удовлетворенного желания, что в следующее мгновение с тихим стоном она разжала руки и почти без чувств поникла в его объятиях.
Еще долго не было сказано ни одного слова. Дважды он наклонялся и целовал ее, и каждый раз ее губы робко тянулись навстречу, и тело инстинктивно искало уютной, покойной позы. Она была не в силах оторваться от него, и Мартин молча сидел, держа ее в объятиях и устремив невидящий взгляд на огромный город по ту сторону залива. На этот раз никакие видения не возникали перед ним. Он видел только краски и яркие лучи, жаркие, как этот чудесный день, горячие, как его любовь. Он склонился к ней; она заговорила.
– Когда вы полюбили меня? – спросила она шепотом.
– С первого дня, с самого первого раза, как только я вас увидел. Еще тогда полюбил, и с тех пор с каждым днем любил все сильнее. А теперь еще сильнее люблю, дорогая. Я совсем сошел с ума. У меня голова кружится от счастья.
– Мартин… дорогой. Как я рада, что я женщина, – сказала она, глубоко вздохнув.
Он снова крепко сжал ее в объятиях, потом тихо спросил:
– А вы, когда вы поняли впервые?
– О, я поняла это давно, почти сразу!
– Значит, я был слеп, как летучая мышь! – вскричал Мартин, и в его голосе прозвучала досада. – Я догадался об этом только теперь, когда поцеловал вас.
– Я не то хотела сказать.
Она слегка отодвинулась и взглянула на него.
– Я поняла уже давно, что вы меня любите.
– А вы? – спросил он.
– Мне это открылось как-то вдруг. – Она говорила очень тихо, глаза ее затуманились, щеки порозовели. – Я не понимала до тех пор, пока вы не обняли меня. И я никогда не думала, что могу выйти за вас замуж, Мартин. Чем вы приворожили меня?
– Не знаю, – улыбнулся он. – Разве только своей любовью. Моя любовь могла бы растопить камень, а не то что сердце живой женщины.
– Это так все не похоже на любовь, как я ее себе представляла, – задумчиво произнесла она.
– Как же вы себе ее представляли?
– Я не думала, что она такая.
Она секунду смотрела в его глаза и потом сказала, потупившись:
– Я совсем ничего не понимала.
Ему снова захотелось привлечь Руфь к себе, но он медлил, боясь испугать ее, и только рука, обнимавшая ее, невольно чуть дрогнула. Тогда она сама потянулась к нему, и губы их опять слились в долгом поцелуе.
– Но что скажут мои родители? – спросила она вдруг с внезапной тревогой.
– Не знаю. Но это нетрудно узнать, как только мы пожелаем.
– А если мама не согласится? Я ни за что не решусь сказать ей об этом.
– Давайте я скажу, – храбро предложил он. – Мне почему-то кажется, что ваша мать меня не любит, но это ничего, я сумею покорить ее. Тот, кто покорил вас, может покорить кого угодно. А если это не удастся…
– Что тогда?
– Мы все равно не расстанемся. Но только я уверен, что ваша мать согласится. Она слишком сильно вас любит.
– Я боюсь разбить ее сердце, – задумчиво сказала Руфь.
Мартин хотел сказать, что материнские сердца не так-то легко разбиваются, но вместо этого произнес:
– Ведь любовь самое великое, что есть в мире!
– Вы знаете, Мартин, я иногда боюсь вас. Я и теперь боюсь, когда думаю о том, кто вы и кем вы были раньше. Вы должны быть очень, очень хорошим со мной. Помните, что я еще совсем дитя! Я еще никого не любила!
– И я тоже. Мы оба дети. И мы очень счастливы. Ведь наша первая любовь оказалась взаимной!
– Но этого не может быть, – вскричала она вдруг, высвобождаясь из его рук быстрым, порывистым движением, – не может быть, чтобы вы… Ведь вы были матросом, а матросы, я знаю…
Ее голос осекся.
– Привыкли иметь жен в каждом порту, – закончил он за нее, – вы это хотели сказать?
– Да, – тихо отвечала она.
– Но ведь это же не любовь, – возразил он авторитетным тоном. – Я побывал во многих портах, но я никогда не испытывал ничего похожего на любовь, пока не встретился с вами. Знаете, когда я возвращался от вас в первый раз, меня чуть-чуть не забрали.
– Как забрали?
– Очень просто. Полицейский подумал, что я пьян. Я был и в самом деле пьян… от любви!
– Но мы уклоняемся. Вы сказали, что мы оба дети, а я сказала, что этого не может быть. Вот о чем шла речь.
– Но я же вам ответил, что никого раньше не любил, – возразил он, – вы моя первая, моя самая первая любовь.
– А все-таки вы были матросом, – настаивала она.
– И тем не менее полюбил я вас первую.
– Да, но ведь были женщины… другие женщины…
О! – и, к великому удивлению Мартина, она вдруг залилась слезами, так что понадобилось немало поцелуев, чтобы успокоить ее.
Мартину невольно пришли на память слова Киплинга: «Но, знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны».
Он подумал, что в сущности это верно, хотя романы, читанные им, заставляли его думать иначе. По этим романам он составил себе представление, что в высшем обществе единственный путь к женщине – формальное предложение. В том кругу, из которого он вышел, для девушек и юношей объятия и ласки были обыкновенным делом. Но среди утонченных представителей высшего класса подобные способы выражения любви казались ему невозможными. Значит, романы лгали. Он только что получил этому доказательство. Одни и те же безмолвные ласки производят одинаковое впечатление и на бедных работниц и на девушек высшего общества. Несмотря на внешнее несходство, они «во всем остальном равны». Он мог бы и сам додуматься до этого, если бы вспомнил Герберта Спенсера. И, утешая Руфь ласками и поцелуями, Мартин с удовольствием останавливался на мысли о том, что знатная леди и Джуди О'Греди в сущности равны во всем. Эта мысль приближала к нему Руфь, делала ее доступнее. Ее прекрасное тело было все же тело, как и всякое другое. Ничего невозможного не было в их браке. Классовое различие оставалось единственным различием между ними, но и оно было, в конце концов, чисто внешним. Им можно было пренебречь. Читал же Мартин об одном римском рабе, который возвысился до пурпурной тоги. Раз это было, почему же и ему не возвыситься до Руфи? Под оболочкой чистоты, непорочности, культуры и душевного изящества в ней скрывалась обыкновенная женская природа, такая же, как у Лиззи Конолли и у всех Лиззи Конолли на свете. Все, что было возможно для них, было возможно и для нее. Она могла любить, ненавидеть; с нею, вероятно, случались истерики; наконец она могла ревновать, уже ревновала, думая о его недавних портовых любовницах.
– А кроме того, я старше вас, – вдруг сказала она, взглянув ему в глаза, – я старше вас на четыре года.
– И все-таки вы дитя. А по житейскому опыту я старше вас на двадцать четыре года, – возразил Мартин.
В действительности оба они были детьми во всем, что касалось любви; и по-детски, неумело и наивно, выражали свои чувства, – несмотря на ее университетский диплом и ученую степень и несмотря на его философские познания и суровый жизненный опыт.
Они сидели, озаренные сиянием меркнущего дня, разговаривая так, как обычно разговаривают влюбленные; дивились могучему чуду любви и судьбе, которая свела их, и твердо верили, что любят так, как никто еще никогда не любил на свете. Они беспрестанно вспоминали свою первую встречу, стараясь воскресить свои впечатления друг о друге, стараясь точно восстановить, что они тогда подумали и почувствовали.
Облака на западе поглотили заходящее солнце. Небо над горизонтом стало розовым, все кругом потонуло в этом розовом свете, и Руфь запела: «Прощай, счастливый день». Она пела, положив голову ему на плечо, и ее руки были в его руках, и каждый из них в этот миг держал в своей руке сердце другого.
Глава 22
Даже если бы миссис Морз не обладала материнской чуткостью, она и тогда бы легко догадалась обо всем, как только взглянула на Руфь. Красноречивее всяких слов, был румянец, заливавший ее щеки, и блестящие глаза, отражавшие радость и победное ликование.
– Что случилось? – спросила миссис Морз, дождавшись, пока Руфь легла в постель.
– Ты догадалась? – спросила в свою очередь Руфь дрожащим голосом.
Вместо ответа мать нежно обняла ее и провела рукой по ее волосам.
– Он ничего не сказал! – воскликнула Руфь. – Я совсем не хотела, чтобы это случилось, и я бы ни за что не позволила ему говорить, – но он ничего не сказал.
– Но если он ничего не сказал, то ничего и не могло случиться.
– И все-таки случилось.
– Ради бога, дитя мое, что ты болтаешь! – произнесла миссис Морз. – В чем дело? Что такое случилось?
Руфь с изумлением посмотрела на мать.
– Я думала, что ты уже догадалась, – сказала она. – Мы с Мартином жених и невеста.
Миссис Морз разразилась смехом, в котором слышались недоверие и досада.
– Но он ничего не сказал, – продолжала Руфь. – Он просто любит меня, вот и все. Для меня это было так же неожиданно, как для тебя. Он не сказал ни слова. Он просто обнял меня, и я… я совсем потеряла голову. Он поцеловал меня, и я его поцеловала… Я не могла иначе. Я должна была его поцеловать. И тут, я поняла, что люблю его.
Руфь умолкла, ожидая, что мать ее поцелует, но миссис Морз хранила зловещее молчание.
– Конечно, это ужасно, я понимаю, – начала Руфь упавшим голосом. – Я не знаю, сможешь ли ты простить меня. Но я не могла иначе. Я до той минуты не подозревала, что люблю его. Только ты сама скажи об этом отцу.
– А может быть, лучше ничего не говорить отцу? Я сама поговорю с Мартином Иденом и объясню ему все. Он поймет и освободит тебя от данного слова.
– Нет, нет! – вскричала Руфь с живостью. – Я не хочу, чтобы он освобождал меня. Я люблю его, а любить так хорошо. Я выйду за него замуж, – конечно, если вы мне позволите.
– У нас с твоим отцом несколько другие планы, Руфь милая… нет, нет, нет, ты не думай, что мы тебе кого-нибудь навязываем. Но просто мы хотим, чтобы ты вышла за человека нашего круга, за настоящего джентльмена, всеми уважаемого, которого ты сама выберешь, когда полюбишь.
– Но ведь я уже люблю Мартина, – жалобно возражала Руфь.
– Мы вовсе не хотим влиять на твой выбор; но ты наша дочь, и мы не можем спокойно позволить тебе выйти замуж за такого человека. Ничем, кроме грубости и невоспитанности, он не может ответить на всю твою нежность и деликатность. Он тебе не пара ни в каком отношении. Он не может даже обеспечить тебя. Мы не гонимся за богатством, но комфорт и известное благосостояние муж обязан дать жене; и наша дочь должна выйти замуж за человека с будущим, а не за нищего авантюриста, матроса, ковбоя, контрабандиста и бог знает кого еще. К тому же он необыкновенно легкомысленный человек, и у него нет никакого чувства ответственности.
Руфь молчала, сознавая, что мать говорит правду.
– Он тратит время на свои писания и хочет достигнуть того, чего редко достигают даже особо одаренные и высокообразованные люди. Человек, думающий о женитьбе, должен как-то подготовиться к такому шагу. А у него этого и в мыслях нет. Я уже сказала – и я знаю, ты согласишься со мной, – что у него нет чувства ответственности. Да и откуда оно возьмется? Все матросы таковы. Он никогда не старался быть бережливым и воздержанным. Привык тратить не считая, и это уже вошло у него в плоть и кровь. Конечно, тут не его вина, но это не меняет дела. А подумала ли ты о его прежней жизни, разгульной и распущенной, – она не могла быть иной. А ты знаешь, моя девочка, что такое брак?
Руфь вздрогнула и прижалась к матери.
– Я думала… – Руфь надолго замолчала, подыскивая слова. – Это, конечно, ужасно. Мне так тяжело об этом думать. Я сознаю, что моя любовь – большое несчастье, но я ничего не могу поделать с собой. Могла ты не полюбить папу? И со мной то же самое. Что-то есть такое в нем и во мне – и до сегодняшнего дня я не понимала этого, – но что-то есть, что заставляет меня любить его. Я никак не думала, что полюблю его, а вот – полюбила, – заключила она с оттенком торжества в голосе.
Еще долго тянулся этот бесплодный разговор, и, в конце концов, они решили подождать некоторое время, ничего не предпринимая.
С этим решением согласился час спустя и мистер Морз, после того как жена призналась ему в неожиданном результате, к которому привела ее хитрость.
– Иначе и быть не могло, – заявил мистер Морз, – ведь, кроме этого грубого матроса, она не знала близко ни одного мужчины. Рано или поздно женщина должна была проснуться в ней. Она проснулась, и, извольте радоваться, рядом оказался этот малый… Ясно, что она немедленно влюбилась в него, или по крайней мере, вбила себе это в голову, что, в конце концов, одно и то же.
Миссис Морз сказала, что попробует воздействовать на Руфь косвенным путем, вместо того чтобы прямо противиться ее желанию. Времени для этого достаточно, так как Мартин в данный момент не мог и думать о женитьбе.
– Пусть себе видится с ним сколько хочет, – решил мистер Морз. – Чем ближе она его узнает, тем вернее разлюбит. Надо дать ей возможность сравнить его с кем-нибудь. Надо собирать у нас в доме побольше молодежи, девушек и молодых людей нашего круга, культурных и воспитанных, настоящих джентльменов. Рядом с ними он будет выглядеть иначе. Она увидит его в настоящем свете. А потом, в конце концов, – он просто мальчишка. Ведь ему всего двадцать один год. Руфь тоже совершенный ребенок. Это просто детская влюбленность, и со временем она пройдет.
На том и порешили. В семейном кругу признали, что Мартин и Руфь помолвлены, но оглашения не делали. Родители втайне надеялись, что это и не понадобится. Само собою разумелось, что помолвка будет весьма продолжительной. Мартину ничего не говорили о необходимости изменить образ жизни и приняться за серьезную работу; ему никто не советовал прекратить писать. В планы семьи не входило способствовать его жизненным успехам. А сам Мартин только лил воду на мельницу своих недоброжелателей, так как меньше всего думал о приискании солидных занятий.
– Не знаю, одобрите ли вы мои начинания, – сказал Мартин Руфи несколько дней спустя. – Я решил, что жить у сестры мне не по карману, и хочу устроиться самостоятельно. Я уже снял комнату в Северном Окленде, в очень тихом доме, и купил керосинку – буду сам себе готовить.
Руфь пришла в восторг. Особенно, ей понравилась керосинка.
– Вот и мистер Батлер с этого начал, – сказала она. Мартин слегка нахмурился при упоминании имени достопочтенного джентльмена и продолжал:
– Я наклеил марки на все свои рукописи и разослал их опять по редакциям. Сегодня перееду на новую квартиру, а с завтрашнего дня примусь за работу.
– Вы поступили на службу! – вскричала она, всем своим существом откликаясь на радостную весть, придвигаясь ближе, улыбаясь, сжимая его руку. – Что же вы мне ничего не сказали! Что это за служба?
Но Мартин отрицательно качнул головой.
– Я хотел сказать, что с завтрашнего дня опять начну писать. – Ее лицо вытянулось, и он торопливо продолжал: – Поймите меня правильно. На этот раз я не буду предаваться радужным мечтам. Мною руководит холодный, прозаический, чисто деловой расчет. Это лучше, чем снова отправляться в плавание, и я уверен, что заработаю гораздо больше, чем рядовой оклендский служащий. За последние месяцы у меня было время многое обдумать. Я не работал, как ломовая лошадь, и я почти ничего не писал, а если и писал, то не для печати. Все свое время я отдавал любви к вам и размышлениям о разных вещах. Кое-что, правда, читал, но это, впрочем, тоже относится к моим размышлениям, – читал главным образом журналы. Я думал о себе, о мире, о своем месте в нем и о том, какие у меня есть шансы добиться положения, которое я мог бы предложить вам. Кроме того, я прочел «Философию стиля» Спенсера и нашел там очень много интересного, имеющего прямое отношение ко мне, – вернее, к моим писаниям, а также и к той литературе, которая каждый месяц печатается в журналах. И вот к чему я пришел в результате всего этого – размышлений, чтения и любви к вам: я решил сделаться литературным ремесленником. На время забуду о шедеврах, и буду писать всякий вздор: фельетоны, анекдоты, стишки на злобу дня, юмористику, – вообще все, на что есть спрос. Ведь существуют же литературные агентства, которые поставляют материал для газет, для страниц юмора, для воскресных приложений. Я буду мастерить то, что им требуется, и, уверяю вас, начну неплохо зарабатывать. Есть молодчики, которые выгоняют в месяц четыреста, а то и пятьсот долларов. Я не собираюсь уподобляться им; но во всяком случае я заработаю на жизнь, и у меня еще будет время для своей работы и для учения – чего никакая служба не даст. Понемногу я начну пробовать свои силы на настоящих вещах и буду учиться и готовиться к настоящей работе. Знаете, я сам изумляюсь, как сильно я продвинулся. Когда я в первый раз попробовал писать, я просто описывал разные происшествия, но никаких идей, никаких мыслей у меня не было. У меня не было даже слов, которыми я бы мог мыслить. Все, что я пережил, рисовалось мне в виде ряда картин, лишенных всякого значения. Но когда я начал учиться и увеличил свой словесный запас, я стал прозревать во всех этих картинах многое такое, чего я раньше не замечал. Вот тогда-то я начал писать настоящие вещи: я написал «Приключение», «Радость», «Котел», «Вино жизни», «Веселую улицу», «Сонеты о любви» и «Песни моря». Я напишу еще очень многое в таком роде, и даже гораздо лучше, но я буду заниматься этим лишь в свободное время. Я теперь больше не витаю в облаках. Сначала черная работа для заработка, а уж потом шедевры. Вчера вечером, специально чтобы доказать вам, что я прав, я написал с полдюжины мелочей для юмористических еженедельников, а когда уже ложился спать, мне пришло в голову попробовать себя на шуточных куплетах, и в какой-нибудь час я написал целых четыре штуки. Можно получить по доллару за штуку. Заработать четыре доллара между делом, ложась спать, – право, это не так уж и плохо. Конечно, работа эта сама по себе не имеет никакой ценности. Она скучна и однообразна, но не скучнее ведения конторских книг и складывания бесконечных цифр за шестьдесят долларов в месяц. Притом эта работа все-таки имеет отношение к литературе и даст мне возможность писать настоящие вещи.
– Но какой смысл писать эти настоящие вещи, эти шедевры? – спросила Руфь. – Ведь вы же не можете продать их?
– Не скажите… – начал он. Она перебила его:
– Из всего того, что вы перечислили и что вам так нравится самому, вы до сих пор не продали ни одной строчки. Мы не можем пожениться в расчете на шедевры, которых никто не покупает.
– Ну, так мы поженимся в расчете на куплеты, которые будут покупать все, – упрямо сказал он и обнял ее. Но Руфь на этот раз не была расположена к ласкам.
– Вот, послушайте, – намеренно весело сказал он, – это не искусство, но это доллар:
Меня не было дома,
Когда мой знакомый
За свечкой ко мне зашел
Меня не было дома.
И мой знакомый
Был на меня очень зол
Теперь я дома.
Но мой знакомый
Уже ушел.
Веселый, приплясывающий ритм стихов не вязался с обескураженным выражением, которое постепенно принимало его лицо. Руфь не улыбнулась. Она смотрела на него сумрачно.
– Может быть, за это и дадут доллар, – сказала она, – но это доллар рыжего в цирке. Как вы не понимаете, Мартин, что это унизительно для вас. Мне бы хотелось, чтобы любимый и уважаемый мною человек был занят более серьезным и достойным делом, чем сочинение рифмованного вздора.
– Вы бы хотели, чтобы он был похож на мистера Батлера? – спросил Мартин.
– Я знаю, – сказала она, – что мистер Батлер вам не по душе.
– Мистер Батлер прекрасный человек, – перебил он. – В нем все хорошо, кроме несварения желудка. Но, право, я не понимаю, почему сочинять куплеты хуже, чем стучать на машинке или потеть над конторскими книгами? И то и другое лишь средство для достижения цели. Вы хотите, чтобы я начал с корпенья над книгами и, в конце концов, сделался каким-нибудь адвокатом или коммерсантом. А я хочу начать с мелкой газетной работы и стать впоследствии большим писателем.
– Тут есть разница, – настаивала Руфь.
– В чем же?
– Да хотя бы в том, что вы никак не можете продать те свои произведения, которые считаете удачными. Вы ведь пробовали неоднократно, а редакторы не покупают у вас ничего.
– Дайте мне время, дорогая, – сказал Мартин умоляюще. – Эта работа – только паллиатив. Дайте мне года два. За эти два года я достигну успеха, и все мои произведения пойдут нарасхват. Я знаю, что говорю. Я верю в себя и прекрасно знаю, на что я способен. Я знаю, что такое литература, и знаю, какой дрянью ничтожные писаки наводняют газеты и журналы. И я уверен, что через два года я буду идти по широкой дороге к успеху и к славе. А деловой карьеры я никогда не сделаю. У меня к ней не лежит сердце. Она представляется мне скучным, мелочным, тупым делом. Во всяком случае, я к ней не подхожу. Мне никогда не пойти дальше простого клерка, а разве мы можем быть счастливы, живя на ничтожное конторское жалованье? Я хочу добиться для вас самого лучшего, что только есть на свете, и добьюсь во что бы то ни стало. Добьюсь! Знаменитый писатель своими заработками даст десять очков вперед всякому мистеру Батлеру. Знаете ли вы, что книга, которая «пошла», может дать автору пятьдесят тысяч долларов, а то и все сто. Иногда немножко больше, иногда немножко меньше, но в среднем около этого.
Руфь молчала. Она была очень огорчена и не скрывала своего огорчения.
– Плохо ли? – спросил он.
– У меня были совсем другие надежды и планы. Я считала и сейчас считаю, что вам лучше всего было бы научиться стенографии – писать на машинке вы умеете – и поступить в папину контору. У вас большие способности, и я уверена, что вы могли бы стать хорошим юристом.