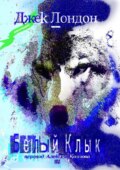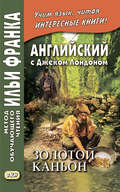Джек Лондон
Мартин Иден
Глава 39
На следующий день, за утренним кофе, Мартин, по обыкновению, читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя, напечатанное крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что является одним из виднейших лидеров оклендских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и сначала был возмущен этим бесстыдным измышлением, но в конце концов со смехом отшвырнул газету.
– Или это написал пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел, – сказал он Бриссендену, который пришел к нему после обеда и устало опустился на единственный стул. Сам Мартин, по обыкновению, сидел на кровати.
– А вам не все ли равно? – сказал Бриссенден. – Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?
Мартин на минуту задумался.
– Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, чтобы это не испортило моих отношений с семьей Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а эта писанина послужит подтверждением. Мне наплевать, что он думает, но все-таки могут быть неприятные последствия. Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал… Все тот же «Запоздалый», конечно. Уже около половины готово.
Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро огляделся кругом, задержал свой взгляд на керосинке и кухонном ящике и, наконец, обратил его на Мартина.
– Садитесь! – сказал Бриссенден.
Мартин подвинулся, чтобы дать гостю место, и вопросительно посмотрел на него.
– Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Иден, – начал молодой человек после непродолжительного молчания. – Я бы хотел проинтервьюировать вас.
Бриссенден разразился хохотом.
– Собрат-социалист? – спросил репортер, кидая быстрый взгляд на Бриссендена и словно мысленно прикидывая эффект, который будет иметь описание этого живого мертвеца.
– И он написал этот отчет, – воскликнул Мартин, – такой мальчишка?!
– Почему вы не вздуете его? – спросил Бриссенден. – Я бы дал сейчас тысячу долларов, чтоб только иметь здоровые легкие.
Юный журналист был несколько ошеломлен этим разговором, который велся через его голову. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отчет о социалистическом митинге и получил поручение проинтервьюировать Мартина Идена лидера организованных врагов существующего порядка.
– Вы ничего не будете иметь против, если мы вас сфотографируем, мистер Иден? – спросил он, – Я захватил с собой фотографа, но он говорит, что в комнате снимать неудобно. Лучше выйти на солнце. А потом мы можем побеседовать с вами.
– Фотограф? – задумчиво произнес Бриссенден. – Ну, что же вы, Мартин? Вздуйте его!
– Должно быть, я становлюсь стар, – отвечал Мартин. – Я знаю, что его нужно вздуть, но у меня для этого нет необходимой энергии. Да и ради чего?
– Ради его бедной матери, – возразил Бриссенден.
– Пожалуй, это веское соображение, – согласился Мартин, – но все-таки мне не хватает энергии. Ведь для того, чтобы вздуть кого-нибудь, необходима затрата энергии. Да и стоит ли?
– Вот именно, не стоит, – веселым тоном подхватил репортер, но при этом опасливо оглянулся на дверь.
– Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды, – продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену.
– Видите ли, это было как бы описание в общих чертах… – рискнул объяснить юноша, – Ведь это в конце концов для вас великолепная реклама… Согласитесь сами.
– Учтите, Мартин, это для вас реклама! – торжественно провозгласил Бриссенден.
– Да, да!.. И я должен с этим согласиться.
– Разрешите узнать, мистер Иден, где вы родились? – спросил репортер, изображая на своем лице напряженное внимание.
– Заметьте, он ничего не записывает, – ввернул Бриссенден, – он все запоминает.
– Для меня этого вполне достаточно, – юноша всячески старался скрыть свою тревогу. – Опытный репортер никогда не записывает.
– Должно быть, вы и вчера тоже не записывали? – Но Бриссенден не принадлежал к школе квистистов, а потому вскричал вдруг, сразу переменив тон:
– Мартин! Если вы не изобьете его, то я изобью! Умру, но изобью!
– Отшлепать, пожалуй, будет достаточно? – спросил Мартин.
Бриссенден подумал, словно судья, и кивнул головой. В следующий миг голова репортера была крепко зажата у Мартина между коленями.
– Только не кусаться, – предупредил Мартин, – не то я должен буду разбить вашу симпатичную мордочку. А это будет жаль.
Его правая рука стала мерно подниматься и опускаться. Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул:
– Дайте мне тоже разок ударить!
– К сожалению, я больше не в состоянии, – сказал, наконец, Мартин. – Рука совсем онемела.
Он схватил репортера за шиворот и швырнул его на кровать.
– Я заявлю в полицию. Вас арестуют! – кричал тот. Слезы негодования текли по его горящим щекам. – Вы ответите за это. Берегитесь!
– Вот тебе и раз, – сказал Мартин, – он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Ведь нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как он это сделал, а он все не понимает.
– Ну что ж, вот он пришел к вам, чтобы вы ему это объяснили, – вставил Бриссенден.
– Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. Теперь мой лавочник наверняка откажет мне в кредите. Но хуже всего, что бедный мальчик никогда уже не сойдет с этого пути, пока из него не выработается первоклассный журналист и первоклассный негодяй.
– У вас есть еще время обратить его на путь истинный, – возразил Бриссенден. – Ах, почему вы мне не дали его ударить хоть разочек. Мне хотелось бы принять участие в этом добром деле.
– Вас обоих посадят в тюрьму! – всхлипывала заблудшая душа. – С-с-скоты!
– У него слишком смазливая рожица, – произнес Мартин, покачав головой, – боюсь, что я зря натрудил себе руку. Этого молодого человека не исправишь. Он, несомненно, станет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести! Одно это поможет ему выдвинуться.
После этого молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом шмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал размахивать бутылкой.
На следующий день Мартин узнал о себе еще много нового и интересного «Да, мы враги общества, – оказывается, сказал он в беседе с представителем прессы, – но мы не анархисты! Мы – социалисты!» Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Лицо его, как оказалось, было резко асимметрично и носило все признаки вырождения. Особенно характерны были узловатые руки и кровожадно сверкающие глаза.
Мартин прочел также, что почти каждый вечер он выступает на рабочих митингах в Сити-Холл-парке и из всех анархистов и агитаторов, отравляющих там умы народа, пользуется наибольшим успехом, так как произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно описал его каморку, не забыл упомянуть о керосинке, о единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля – бродягу с лицом мертвеца, до такой степени бледным, словно он был только что выпущен на свет после двадцатилетнего тюремного заключения.
Молодой репортер проявил большую расторопность. Он разнюхал биографию Мартина Идена и добыл фотографический снимок лавки мистера Хиггинботама и самого мистера Бернарда Хиггинботама, стоящего у ее дверей. Этот джентльмен был описан как почтенный и здравомыслящий коммерсант, не только не разделяющий социалистических взглядов своего шурина, но даже порвавший с этим шурином всякие сношения. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй, бездельник, который не хотел работать, несмотря на то, что ему не раз делали выгодные предложения, и, без сомнения, должен был рано или поздно угодить в тюрьму. Был проинтервьюирован и Герман фон Шмидт. Он назвал Мартина «уродом в семье» и, как оказалось, тоже не поддерживал с ним связи «Он начал было меня эксплуатировать, – сказал, между прочим, Герман фон Шмидт, – но я не попался на эту удочку! Я отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного!»
На этот раз Мартин серьезно рассердился. Бриссенден смотрел на все это, как на забавную шутку, но он не мог успокоить Мартина. Мартин знал, что объяснение с Руфью будет нелегким делом, а к тому же ее отец, наверно, постарается воспользоваться всей этой нелепой выдумкой, чтобы расстроить их помолвку. Его мрачные предположения не замедлили подтвердиться. На другой же день почтальон принес письмо от Руфи. Мартин, предчувствуя катастрофу, тут же вскрыл конверт и начал читать, стоя у растворенной двери, на том самом месте, где почтальон вручил ему письмо.
Читая, Мартин машинально шарил рукою в кармане, ища табак и папиросную бумагу, которые прежде всегда носил при себе. Он не сознавал, что карман его давно был пуст, не отдавал себе даже отчета в том, чего он там ищет.
Письмо было написано в спокойном тоне. Никаких следов гнева в нем не было, но все оно от первой до последней строчки дышало обидой и разочарованием. Он не оправдал ее надежд, писала Руфь. Она думала, что он покончил со своими ужасными замашками, что ради любви к ней он, в самом деле, готов зажить скромной и благопристойной жизнью. А теперь папа и мама решительно потребовали, чтобы помолвка была расторгнута. И она не могла не признать их доводов основательными. Ничего хорошего из их отношений не может выйти. Это с самого начала было ошибкой. В письме был только один упрек, и он показался Мартину особенно горьким: «Если бы вы захотели поступить на службу, постарались занять какое-то место в жизни! – писала Руфь. – Но это было невозможно Слишком распутно и беспорядочно вы жили раньше. Я понимаю, что вас бранить не за что. Вы действовали согласно своей природе и в соответствии с вашими прежними привычками. Я и не браню вас, Мартин, помните это. Папа и мама оказались правы мы не подходим друг к другу, и надо радоваться, что это обнаружилось не слишком поздно. Не пытайтесь увидеться со мной, – закапчивала она, – это свидание было бы равно тяжело и для нас обоих и для моей мамы. Я и так чувствую, что причинила ей немало огорчений и не скоро удастся мне загладить это!»
Мартин внимательно прочел письмо и несколько раз перечел его. Затем он сел и стал писать ответ. Он изложил ей все то, что говорил на социалистическом митинге, обвиняя газету в самой бессовестной клевете. В конце письма он заговорил о своей страстной и неизменной любви. «Ответьте мне непременно, – писал он, – напишите только одно – любите вы меня или нет? Это самое главное».
Но прошел день, другой, ответа не было «Запоздалый» лежал раскрытым все на той же странице, а груда рукописей под столом продолжала расти. Впервые за всю свою жизнь испытал Мартин муки бессонницы. Три раза приходил он к Морзам, но все три раза лакей отказывался впустить его. Бриссенден лежал в постели, и Мартин, часто навещая его, не решался посвящать его в свои горести.
А горестей у Мартина было немало. Последствия гнусной проделки репортера превзошли все его ожидания. Португалец-бакалейщик действительно отказал ему в кредите, а зеленщик-американец объявил Мартина предателем и врагом отечества и в припадке патриотизма даже уничтожил его счет, запретив ему являться для уплаты долга. Все соседние жители были настроены против Мартина, и негодование их с каждым днем возрастало. Никто не желал поддерживать отношений с изменником-социалистом. Бедную Марию терзали страхи и сомнения, но она продолжала оставаться лояльной. Соседские ребятишки, у которых уже изгладилось впечатление от роскошной коляски, некогда посетившей Мартина, теперь кричали ему издали: «хулиган» и «бродяга». Только детвора Марии держалась твердо, защищала его, не раз вступала в битвы из-за него, и Мария, видя синяки и разбитые носы своих детишек, приходила в еще большее отчаяние.
Встретив однажды на улице Гертруду, Мартин узнал от нее то, что он и раньше предполагал, – то есть что Бернард Хиггинботам страшно зол на Мартина, считает, что он опозорил всю семью и сделал ее предметом публичного поношения. Он потребовал, чтобы Мартин не смел бывать у них.
– Уехал бы ты куда-нибудь, Мартин, – просила Гертруда. – Уезжай и поступи на какое-нибудь место. Когда все это уляжется, ты можешь снова вернуться.
Мартин покачал головой и не дал никаких удовлетворительных объяснений. Да и как мог он объяснить? Между ним и его родными зияла огромная бездна. Он уже не мог перескочить через нее! Смешно объяснять Гертруде разницу между ницшеанством и социализмом! Ни в одном языке не было таких слов, которыми он мог бы растолковать этим людям свои взгляды и свои поступки. Все их рассуждения сводились к одному: найди работу. Это было всегда первое и последнее слово. Этим исчерпывался весь круг их понятий. Найди работу! Поступи на службу! «Бедные, тупые рабы, – думал Мартин, слушая Гертруду. – Не удивительно, что сильные завладели миром! Рабов погубило их собственное рабское мышление». «Служба» была для них золотым фетишем, который они обожали, перед которым смиренно повергались ниц.
Когда Гертруда предложила ему денег, Мартин снова отрицательно покачал головой, хотя знал, что через несколько дней ему опять придется закладывать костюм.
– К Бернарду ты теперь не ходи, – умоляла его Гертруда. – Пройдет месяц-другой, он успокоится, и тогда можешь даже попроситься к нему возчиком, если захочешь. А если я тебе понадоблюсь, присылай за мной в любое время, и я к тебе приду. Слышишь?
Гертруда расплакалась и пошла своей дорогой, а Мартин, глядя на ее тяжелую, усталую походку, почувствовал, как сердце у него сжалось от невыносимой тоски. И когда он глядел вслед сестре, здание ницшеанства стало вдруг шататься и рушиться. Хорошо было рассуждать о каком-то абстрактном рабстве, но не так-то легко было прилагать теории к своим близким. А между тем, если нужен пример слабого, угнетаемого сильным, то лучше Гертруды не найти. Мартин даже рассмеялся над этим парадоксом. Хорош же он, ницшеанец, если поддается сентиментам и при первом же столкновении с действительностью начинает колебаться в своих взглядах; да, в конце концов, разве в данную минуту не та же рабская мораль сказывается в нем, разве его жалость к сестре не рабское чувство? Настоящий сильный человек должен быть выше жалости и сострадания. Эти чувства родились в подвалах и были лишь агонией и предсмертными судорогами слабых и несчастных.
Глава 40
Работа над «Запоздалым» не двигалась. Все разосланные рукописи давно нашли себе под столом место упокоения. Только одна рукопись еще продолжала странствовать. То была «Эфемерида» Бриссендена. Велосипед и черный костюм Мартина снова отправились в заклад, а за пишущую машинку, по обыкновению, был просрочен платеж. Но все это уже нисколько не тревожило Мартина. Он должен был освоиться со своим новым положением, а пока предоставил жизни течь своим чередом.
Через несколько недель случилось то, чего он давно ожидал. Он встретил Руфь на улице. Правда, она шла не одна, а в сопровождении своего брата Нормана; оба к тому же сделали вид, что не узнали Мартина, а когда он хотел подойти, Норман попытался не подпустить его.
– Если вы осмелитесь приставать к моей сестре, – сказал он, – я полову полицейского, она не желает с вами разговаривать, и ваша навязчивость оскорбительна.
– Ну, что ж, – мрачно ответил Мартин, – зовите полицейского. По крайней мере тогда ваше имя попадет в газеты. А теперь посторонитесь-ка немножко. Я должен поговорить с Руфью.
– Я хочу слышать это из ваших уст, – сказал он ей. Она побледнела и задрожала, но остановилась и взглянула на него вопросительно.
– Ответьте мне на вопрос, который я задал вам в письме, – произнес он.
Норман сделал было нетерпеливое движение, но Мартин взглядом смирил его. Руфь покачала головой.
– Вы действовали по доброй воле? – снова спросил он.
– Да, – проговорила она тихо, но твердо, – действовала по доброй воле. Вы так опозорили меня, что мне теперь стыдно встречаться со знакомыми. Все теперь толкуют обо мне. Вот все, что я могу вам оказать. Вы сделали меня несчастной, и я больше не хочу вас видеть.
– Знакомые! Сплетни! Газетное вранье! Такие вещи не могут оказаться сильнее любви! Значит, вы просто меня никогда не любили!
Бледное лицо Руфи внезапно вспыхнуло.
– После всего того, что произошло? – произнесла она. – Мартин, вы сами не сознаете, что говорите! За кого вы меня принимаете?
– Вы видите, она не хочет с вами разговаривать! – воскликнул Норман, взяв сестру под руку и уводя ее.
Мартин поглядел им вслед и опять машинально полез за папиросной бумагой и табаком, которого у него не было.
До Северного Окленда путь был не близок; но только придя к себе в комнату, Мартин донял, что прошел этот путь. Опомнившись, он увидел, что сидит на своей кровати, и огляделся растерянно, как проснувшийся лунатик. Увидав на столе «Запоздалого», Мартин придвинул стул и взялся за перо. Его натуре свойственно было стремление к завершенности. А тут перед ним была неоконченная работа. Он отложил ее, чтобы заняться другим делом. Теперь это другое дело было кончено, и надо было опять вернуться к «Запоздалому». Что будет он делать потом – Мартин не знал. Он знал только: в жизни его наступил перелом. Он закончил абзац, и оставалось закруглить фразу, прежде чем поставить точку. Будущее не интересовало его. В свое время он узнает, что ждет его в этом будущем. Ничто уже не интересовало его. Все было безразлично!
Пять дней Мартин работал над «Запоздалым», никуда не ходил, никого не видел и почти ничего не ел. На шестой день утром почтальон принес ему письмо от издателя «Парфенона». Вскрыв конверт, он сразу увидел, что «Эфемерида» принята.
«Мы дали поэму для прочтения мистеру Картрайту Брюсу, – писал издатель, – и он так благоприятно отозвался о ней, что мы сочтем за удовольствие напечатать ее в нашем журнале. Если мы откладываем печатание поэмы до августовского номера, то только потому, что июльский уже набран. Передайте мистеру Бриссендену нашу глубочайшую признательность и наше восхищение. Не откажите прислать его портрет и биографические данные. Если предлагаемый нами гонорар покажется недостаточным, благоволите телеграфировать, какие условия вы сочли бы приемлемыми».
Так как предложенный гонорар составлял триста пятьдесят долларов, то Мартин решил, что телеграфировать не стоит. Оставалось лишь добиться согласия Бриссендена. В конце концов Мартин оказался прав. Нашелся редактор, который понимал кое-что в истинной поэзии. И гонорар был блестящий, даже для «поэмы века». Кроме того, Мартин знал, что Бриссенден считал Картрайта Брюса единственным из всех критиков, заслуживающим уважения.
Мартин вышел из дому, сел в трамвай и, глядя на мелькавшие мимо дома и перекрестки, с грустью думал о том, что его уже не волнует ни успех друга, ни собственная победа. Лучший критик в Соединенных Штатах оценил поэму по достоинству, и, следовательно, Мартин не ошибался, утверждая, что настоящее произведение искусства может пробить себе дорогу в печать. Но в Мартине не было уже прежнего энтузиазма, и он отлично сознавал, что ему больше хочется просто повидать Бриссендена, чем сообщить ему эту радостную новость. Только теперь Мартину пришло в голову, что за все пять дней, проведенных в работе над «Запоздалым», он ни разу не вспомнил о Бриссендене и не имел от него никаких известий. Впервые Мартин понял, что находится в состоянии какого-то духовного оцепенения, и ему стало стыдно перед другом. Но и стыд он ощущал как-то вяло. Никакие эмоции не волновали его, кроме творческих, которые он испытывал над рукописью «Запоздалого». Все остальное было ему безразлично.
Он находился словно в каком-то трансе. Оживленные улицы, по которым проходил трамвай, казались ему далекими и призрачными, и он не очень бы удивился, если бы церковная колокольня вдруг рассыпалась у него на глазах.
Войдя в гостиницу, он направился прямо в комнату Бриссендена и остановился пораженный. Комната была пуста Все вещи из нее были вынесены.
– Разве мистер Бриссенден уехал? – спросил Мартин у швейцара. – Он не оставил своего адреса?
– Да разве вы ничего не слыхали? – спросил тот в свою очередь.
Мартин отрицательно покачал головой.
– Все газеты писали об этом. Его нашли мертвым в кровати. Самоубийство! Выстрелил себе в голову!
– Его уже похоронили?
Мартину показалось, что чей-то чужой, незнакомый голос задал этот вопрос.
– Нет. После следствия тело было отправлено на восток. Адвокаты, приглашенные его родными, уладили все это дело.
– А почему они так спешили? – проговорил Мартин.
– Как спешили? Да ведь это произошло пять дней тому назад!
– Пять дней тому назад?
– Да, пять дней.
– А! – сказал только Мартин и вышел из гостиницы.
По дороге он зашел на телеграф и известил издателя «Парфенона», что он может печатать поэму. Телеграмму он послал наложенным платежом, потому что в кармане у него оставалось всего пять центов на обратный проезд.
Вернувшись к себе, Мартин опять принялся за работу. Шли дни и ночи, а он все сидел за столом и писал. Он ходил только в ломбард, равнодушно ел, если было что состряпать, и так же равнодушно обходился без еды, когда выходили все припасы. Хотя вся повесть была заранее обдумана им во всех подробностях, он вдруг решил по-иному построить экспозицию, что удлинило ее еще на двадцать тысяч слов. Не было никакой необходимости так тщательно отделывать эту повесть, но иначе он работать уже не мог. Он писал словно в оцепенении, перестав ощущать весь окружающий мир, он обращался к творческим навыкам своей прошлой жизни, подобно тому как привидение бродит среди знакомых мест. Ему вспомнилось, что кто-то где-то сказал, что привидение – это дух человека, который умер, но сам не сознает этого. И вот на какое-то мгновение Мартин задумался: уж не происходит ли и с ним нечто подобное?
Наконец пришел день, когда «Запоздалый» был закончен. Агент магазина пишущих машинок пришел к Мартину и, сидя на кровати, дожидался, когда он кончит писать. «Конец», выстукал на машинке Мартин, и для него это был, в самом деле, конец. С чувством некоторого облегчения он увидел, как агент взял машинку и унес ее. После этого он упал на кровать. Он совершенно ослабел от голода. Он не ел уже тридцать шесть часов и даже ни разу не вспомнил о пище. Он лежал неподвижно на кровати, и какой-то туман постепенно заволакивал его сознание. В полусне он бормотал стихотворение неизвестного автора, которое часто читал ему Бриссенден. Мария, стоя за дверью, с тревогой прислушивалась к его монотонному бормотанью. Самые слова не имели для нее никакого смысла, но ее пугало, что Мартин говорит сам с собой.
Лира, прочь!
Я песню спел!
Тихо песни отзвучали.
Словно призраки печали,
Утонули в светлой дали!
Лира, прочь!
Я песню спел!
Я когда-то пел под кленом,
Пел в лесу темно-зеленом,
Я был счастлив, юн и смел,
А теперь я петь не в силе,
Слезы горло мне сдавили.
Молча я бреду к могиле!
Лира, прочь! Я песню спел!..
Мария не могла больше выдержать; она бросилась к печке, схватила миску супа, накрошила туда мяса и овощей и побежала к Мартину. Приподнявшись на локте, он начал есть, уверяя ее, что вовсе не бредит и что он совершенно здоров.
Когда Мария ушла, Мартин сел на кровать и долго сидел так, сгорбившись и бессмысленно глядя в одну точку. Внезапно ему попался на глаза номер журнала, присланный с утренней почтой! Это «Парфенон», подумал он, августовский «Парфенон», и в нем должна быть напечатана «Эфемерида». Ах, если бы Бриссенден был жив!
Он перелистал страницы журнала и вдруг остолбенел. «Эфемерида» была украшена пышным заголовком и виньетками на полях в стиле Бердсли; с одной стороны заголовка находился портрет Бриссендена, а с другой – сэра Джона Вэлью, британского посланника. В предисловии от редакции говорилось, что сэр Джон Вэлью недавно сказал, будто в Америке нет поэтов, и, печатая «Эфемериду», «Парфенон» как бы отвечает ему: «Нате-ка, получите, сэр Джон Вэлью!» Был изображен и Картрайт Брюс, как величайший американский критик, и приводились его слова: «Ничего подобного „Эфемериде“ еще не было у нас написано». Заканчивалось предисловие так:
«Мы еще не можем оценить все красоты „Эфемериды“; быть может, нам никогда не удастся вполне оценить их. Но, читая и перечитывая поэму, мы изумлялись необычайному словесному богатству мистера Бриссендена и не раз спрашивали себя, как и откуда мог мистер Бриссенден почерпнуть такой запас слов и так искусно скомпоновать их».
За этим следовала самая поэма.
«Хорошо, что ты умер, бедный Брис!» – подумал Мартин, уронив журнал на пол.
Все это было пошло и мерзко до тошноты, но настоящего омерзения Мартин не почувствовал. Ему бы хотелось рассердиться, но на это не хватало энергии. Он словно отупел. Кровь застыла в его жилах и не хотела больше ни бурлить, ни возмущаться. В конце концов, что тут особенного? Все это вполне соответствует обычаям буржуазного общества, которое так глубоко ненавидел Бриссенден.
– Бедный Брис! – пробормотал Мартин. – Он никогда бы не простил мне этого!
С усилием поднявшись, Мартин выдвинул ящик, где прежде лежала у него бумага для машинки. Порывшись в нем, он извлек одиннадцать стихотворений, написанных его другом. Он медленно разорвал их одно за другим и бросил в корзинку. Покончив с этим, он опять сел на кровать и устремил грустный взор в пространство.
Сколько времени просидел он так, он сам не знал; наконец из туманного пространства возникла перед ним яркая длинная белая полоса. Это было очень странно. Но, вглядевшись, Мартин увидел, что это линия прибоя у одного из коралловых рифов Тихого океана. Мгновение спустя Мартин разглядел в белой пене челнок, маленький, утлый челнок. Молодой бронзовый бог, опоясанный пурпурной тканью, сидел на корме, погружая в волны сверкающие весла. Мартин узнал его. Это был Моти, младший сын Тами – вождя туземцев, – стало быть, это происходило у берегов Таити, и за коралловым рифом лежала чудесная страна Папара, где возле самого устья реки была тростниковая хижина вождя.
Наступал вечер, и Моти возвращался с рыбной ловли. Он ждал большой волны, которая перенесла бы его через риф. Мартин увидел и самого себя сидящим в челноке, как он сидел не раз, ожидая сигнала Моти, чтобы бешено заработать веслами, как только встанет над ними бирюзовая громада волны. В следующий миг он уже не был зрителем; он на самом деле сидел в челноке и с ожесточением греб под дикие возгласы Моти. Они пронеслись вперед, среди грохота и шипения, обдаваемые брызгами, и вдруг очутились в тихой, неподвижной лагуне. Моти, смеясь, вытирал глаза, залитые соленой водой, а челнок скользил к коралловому берегу, где среди стройных кокосовых пальм стояла хижина Тами, вся золотая в лучах заходящего солнца.
Но видение вдруг затуманилось, и перед глазами Мартина снова возник беспорядок его тесной каморки.
Напрасно силился он снова увидать Таити. Он знал, что теперь в пальмовой роще раздаются песни, а девушки пляшут при лунном свете. Но он ничего не мог увидеть, кроме стола, заваленного бумагами, и тусклого, давно не мытого окна. Он со стоном закрыл глаза и погрузился в тяжелый сон.