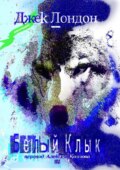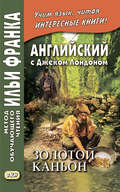Джек Лондон
Мартин Иден
Глава 31
Как-то случайно Мартин встретил на Бродвее свою сестру Гертруду; встреча была радостная и в то же время печальная. Ожидая на углу трамвая, Гертруда первая увидела Мартина и была поражена его худобой и мрачным выражением лица. Мартин и в самом деле был мрачен. Он возвращался после неудачной беседы с ростовщиком, у которого хотел выторговать добавочную ссуду под велосипед. Наступила пасмурная осенняя погода, и потому Мартин давно уже заложил велосипед, но непременно хотел сохранить черный костюм.
– Ведь у вас есть черный костюм, – сказал ростовщик, знавший наперечет имущество Мартина, – или вы заложили его у этого еврея Люпке? Если вы в самом деле…
Он так грозно посмотрел на Мартина, что тот поспешил воскликнуть:
– Нет, нет! Я не закладывал костюма. Мне он нужен.
– Отлично, – сказал ростовщик, смягчившись немного. – Но мне он тоже нужен. Без него я не могу дать вам денег. Ведь я занимаюсь этим делом не ради развлечения.
– Но ведь велосипед стоит по крайней мере сорок долларов, и к тому же он в полной исправности, – возразил Мартин. – А вы мне дали за него только семь долларов! И даже не семь! Шесть с четвертью! Ведь вы берете вперед проценты!
– Хотите получить еще денег, так принесите костюм, – последовал хладнокровный ответ, после чего Мартин ушел в полном отчаянии. Этим и объяснялось мрачное выражение его лица, которое так изумило и огорчило Гертруду.
Не успели они поздороваться, как подошел трамвай, идущий по Телеграф-авеню. Мартин взял сестру под руку, чтобы помочь ей сесть, и та поняла, что сам он хочет идти пешком. Стоя на ступеньке, Гертруда обернулась к ному, и сердце ее сжалось от жалости.
– А ты разве не поедешь? – спросила она.
И тотчас же сошла с трамвая и пошла рядом с ним. – Я всегда хожу пешком, для моциона, – объяснил он.
– Ну что ж, я тоже пройдусь немножко, – сказала Гертруда, – мне это полезно Я что-то себя плохо чувствую последнее время.
Мартин взглянул на сестру и был поражен произошедшей в ней переменой. Лицо ее было болезненно и бледно, вся она как-то отекла, а тяжелая, неуклюжая походка была словно карикатурой на прежнюю эластичную, бодрую поступь здоровой и веселой девушки.
– Уж лучше подожди трамвая, – сказал Мартин, когда они дошли до следующей остановки. Он заметил, что Гертруда начала задыхаться.
– Господи помилуй! И верно, ведь я устала, – сказала она. – Но и тебе тоже не мешало бы сесть на трамвай. Подошвы у твоих башмаков такие, что, пожалуй, протрутся, прежде чем ты дойдешь до Северного Окленда.
– У меня есть дома еще одна пара башмаков, – отвечал Мартин.
– Приходи завтра обедать, – сказала Гертруда неожиданно. – Бернарда не будет, он едет по делам в Сан-Леандро.
Мартин отрицательно покачал головой, но не сумел скрыть жадный огонек, сверкнувший у него в глазах при упоминании об обеде.
– У тебя нет ни пенса, Март, вот отчего ты ходишь пешком. Моцион, как же!
Она хотела презрительно фыркнуть, но из этого ничего не вышло.
– На, возьми.
И Гертруда сунула Мартину в руку пятидолларовую монету.
– Я забыла, что на днях было твое рождение, – пробормотала она.
Мартин инстинктивно зажал в руке монету. В следующий миг он почувствовал, что не должен принимать этого подарка, но заколебался. Ведь этот золотой кружочек означал пищу, жизнь, просветление духовное и телесное, подъем творческих сил. Как знать! Может быть, он напишет что-нибудь такое, что принесет ему много таких же золотых монет. Ему вспомнились две статьи, которые валялись под столом среди груды рукописей, так как не на что было купить марок. Печатные заголовки так и горели у него перед глазами. Статьи назывались «Жрецы чудесного» и «Колыбель красоты». Он еще никуда не посылал их, но знал, что это лучшее из всего написанного им в этом роде. Только бы купить марки. Уверенность в успехе внезапно охватила его, и быстрым движением он сунул в карман монету.
– Я тебе верну в сто раз больше, Гертруда, – проговорил он с трудом, потому что судорога сдавила ему горло, а на глазах блеснули слезы. – Запомни мои слова! – воскликнул он вдруг с необычайной уверенностью. – Не пройдет года, как я принесу тебе сотню точно таких же золотых кругляков. Можешь мне не верить. Ты должна только ждать. А там увидишь!
Гертруда и не думала верить. Ей стало не по себе. Помолчав, она сказала:
– Я знаю, что ты голодаешь, Март. У тебя на лице написано. Приходи обедать в любое время. Когда Хиггинботам будет уходить по делам, я сумею известить тебя. Кто-нибудь из ребят всегда может сбегать. А что, Март…
Мартин наперед знал, что скажет сестра, так как ход ее мыслей был достаточно ясен.
– Не пора ли тебе поступить на какое-нибудь место?
– Ты тоже думаешь, что я ничего не добьюсь? – спросил он.
Гертруда покачала головой.
– Никто в меня не верит, Гертруда, кроме меня самого. – Он сказал это с каким-то страстным задором. – Но я написал уже очень много хороших вещей и рано или поздно получу за них деньги.
– А почему ты знаешь, что они хороши?
– Да потому, что… – Все его познания по литературе, по истории литературы вдруг ожили в его мозгу, и он понял, что сестре не объяснишь, на чем основывается его вера в себя. – Да потому, что мои рассказы лучше, чем девяносто девять процентов всего того, что печатается в журналах.
– А все-таки послушай разумного совета, – сказала Гертруда, твердо уверенная, что правильно понимает его болезнь. – Да, послушай разумного совета, – повторила она, – а завтра приходи обедать.
Мартин усадил ее в трамвай и, побежав на почту, на три доллара накупил марок. Позднее, идя к Морзам, он зашел в почтовое отделение и отправил множество толстых пакетов, истратив все марки, за исключением трех двухпенсовых.
Это был памятный вечер для Мартина, ибо в этот вечер он познакомился с Рэссом Бриссенденом. Как Бриссенден попал к Морзам, кто его привел туда, Мартин так и не узнал. Он даже не полюбопытствовал спросить об этом Руфь, ибо Бриссенден показался ему человеком бледным и неинтересным. Час спустя Мартин решил, что он еще и невежа: уж очень он бесцеремонно слонялся из одной комнаты в другую, глазел на картины и совал нос в книги и журналы, лежавшие на столах или стоявшие на полках. Наконец, не обращая внимания на прочее общество, он развалился в кресле, точно у себя дома, вытащил из кармана какую-то книжку и принялся читать. Читая, он все время быстрым движением проводил рукою по волосам. После этого Мартин забыл о нем и вспомнил только в конце вечера, когда увидел его в кружке молодых женщин, которые явно наслаждались беседой с ним. Идя домой, Мартин случайно нагнал на улице Бриссендена.
– Хэлло! Это вы? – спросил он.
Тот пробормотал что-то не очень любезное, но все же пошел рядом. Мартин больше не делал попыток завязать беседу, и так они, молча, прошли несколько кварталов.
– Старый самодовольный осел!
Неожиданность и энергичность этого возгласа поразила Мартина. Ему стало смешно, но в то же время он почувствовал растущую неприязнь к Бриссендену.
– Какого черта вы туда таскаетесь? – услышал Мартин, после того как они прошли еще квартал в молчании.
– А вы? – спросил Мартин в свою очередь.
– Убейте меня, если я знаю, – отвечал Бриссенден. – Я там был в первый раз. В конце концов в сутках двадцать четыре часа. Надо же их как-нибудь проводить. Пойдемте выпьем.
– Пойдемте, – отвечал Мартин.
Он тут же мысленно выругал себя за свою сговорчивость. Дома его ждала «ремесленная» работа, кроме того, на ночь он решил прочесть томик Вейсмана, не говоря уже об автобиографии Герберта Спенсера, которую он читал с большим увлечением, чем любой роман.
«Зачем я пошел с этим человеком, который мне к тому же не нравится?» – подумал Мартин. Но его привлек не спутник и не выпивка, а все то, что было связано с этим – яркие зеркала, свет, звон и блеск бокалов, разгоряченные лица и громкие голоса. Да, да, голоса людей, веселых и беззаботных, которые добились жизненного успеха и могли с легким сердцем пропивать свои деньги. Мартин был одинок: вот в чем заключалась его беда. Потому-то он и принял с такой охотой приглашение мистера Бриссендена. С тех пор как Мартин покинул «Горячие Ключи» и расстался с Джо, он ни разу не был в питейном заведении, за исключением того случая, когда его угостил португалец-лавочник. Умственное утомление не вызывает такой потребности подкрепить свои силы алкоголем, как физическая усталость, и Мартина не тянуло к вину. Но сейчас ему захотелось выпить – вернее, очутиться в шумной атмосфере кабачка, где пьют, кричат и хохочут. Таким именно кабачком был «Гротто». Бриссенден и Мартин, развалившись в удобных кожаных креслах, принялись потягивать шотландское виски с содовой.
Они разговорились; говорили о разных вещах и прерывали беседу только для того, чтобы по очереди заказывать новые порции. Мартин, обладавший необычайно крепкой головой, все же не мог не удивляться выносливости своего собутыльника. Но еще больше он удивлялся мыслям, которые тот высказывал. Вскоре Мартин пришел к убеждению, что Бриссенден все знает и что это вообще второй настоящий интеллигент, повстречавшийся ему на пути.
Но у Бриссендена к тому же было многое такое, чего не хватало профессору Колдуэллу. В нем был огонь, необычайная проницательность и восприимчивость, какая-то особая свобода полета мысли. Он говорил превосходно. С его тонких губ порой срывались хлесткие, словно отчеканенные машиной фразы. Они кололи и резали. А в следующий миг их сменяли мягкие, нежные слова, образные, гармоничные выражения, таившие в себе блеск непостижимой красоты бытия. Иногда его речь звучала, как боевой рог, зовущий к буре и грохоту космической борьбы, звенела, как серебро, сверкала холодным блеском звездных пространств, кратко и четко формулируя истины последних завоеваний науки. И в то же время это была речь поэта, проникнутая тем высоким и неуловимым, чего нельзя выразить словами, но можно только дать почувствовать в тех тонких и сложных ассоциациях, которые эти слова порождают. Его умственный взор проникал в какие-то далекие, недоступные человеческому опыту области, о которых, казалось, нельзя было рассказывать обыкновенным языком. Но поистине магическое искусство речи помогало ему вкладывать в обычные слова необычные значения, которых не поняли бы заурядные умы, но которые, однако, были близки и понятны Мартину.
Мартин сразу забыл о своей первоначальной неприязни к Бриссендену. Перед ним было то, о чем до сих пор он только читал в книгах. Перед ним было воплощение того идеала мыслящего человека, который составил себе Мартин. «Я должен лежать у его ног», – повторял он самому себе, с восторгом слушая своего собеседника.
– Вы, очевидно, изучали биологию! – воскликнул он наконец. К его удивлению, Бриссенден отрицательно покачал головой.
– Но ведь вы говорите такие вещи, которые немыслимы без знания биологии, – продолжал Мартин, заметив удивленный взгляд Бриссендена. – Ваши заключения совпадают со всем ходом рассуждений великих ученых. Не может быть, чтобы вы их не читали!
– Очень рад это слышать, – отвечал тот, – очень рад, что мои поверхностные познания открыли мне кратчайший путь к постижению истины. Но мне в конце концов безразлично, прав я или нет. Все равно это не имеет значения. Ведь абсолютной истины человек никогда не постигнет.
– Вы ученик и последователь Спенсера! – с торжеством воскликнул Мартин.
– Я с юных лет не заглядывал в Спенсера. Да и тогда-то читал только «Воспитание».
– Хотел бы я приобретать знания с такой же легкостью, – говорил Мартин полчаса спустя, подвергнув тщательному анализу весь умственный багаж Бриссендена. – Вы настоящий догматик, вот что самое удивительное. Вы догматически устанавливаете такие положения, которые наука могла установить только a posteriori. (A posteriori (лат.) – исходя из опыта) Вы буквально на лету делаете правильные выводы. Ваше образование в самом деле довольно поверхностно, но вы с быстротой света пролетаете весь путь познания и постигаете истину каким-то сверхъестественным способом.
– Да, да. Это всегда смущало моих учителей, отца Иосифа и брата Дэттона, – возразил Бриссенден. – Но тут никаких чудес нет. Просто благодаря счастливой случайности я попал с ранних лет в католический колледж. Но вы-то сами где получили образование?
Рассказывая ему о себе, Мартин в то же время внимательно изучал наружность Бриссендена, аристократически гонкие черты его лица, покатые плечи, пальто с карманами, набитыми книгами, брошенное им на соседний стул. Лицо Бриссендена и его тонкие руки были, к удивлению Мартина, покрыты темным загаром. Едва ли Бриссенден много бывал на воздухе. Где же он так загорел? Этот загар не давал Мартину покоя, и он все время думал о нем, пока изучал лицо Бриссендена – узкое худощавое лицо, со впалыми щеками и тонким орлиным носом. В разрезе его глаз не было ничего замечательного. Они были не слишком велики и не слишком малы, карие, с несколько неопределенным оттенком; но в них горел какой-то удивительный огонь, и выражение было какое-то двойственное, странное и противоречивое. Суровые и неумолимые, они в то же время почему-то вызывали жалость. Мартину было бесконечно жаль Бриссендена; он скоро понял, откуда возникало это чувство.
– Ведь у меня чахотка, – объявил Бриссенден, после того как рассказал о своем недавнем пребывании в Аризоне. – Я жил там около двух лет; провел курс климатического лечения.
– А вы не боитесь возвращаться теперь в наш климат?
– Боюсь?
Он просто повторил слово, сказанное Мартином, но тот сразу понял, что Бриссенден ничего на свете не боится. Глаза его сузились, ноздри раздулись, лицо приняло какое-то орлиное выражение, гордое и решительное. У Мартина сердце забилось от восторга перед этим человеком. «До чего хорош!», – подумал он и затем вслух продекламировал:
– «Под гнетом яростного рока
Я не склоню кровавого чела».
– Вы любите Гэнли? – спросил Бриссенден, и выражение его глаз сразу сделалось нежным и ласковым, – ну, конечно, разве вы можете не любить его. Ах, Гэнли! Великий дух! Он высится среди современных журнальных рифмоплетов, как гладиатор среди евнухов.
– А вы не любите журналов? – осторожно спросил Мартин.
– А вы любите? – рявкнул Бриссенден с такою яростью, что Мартин даже вздрогнул. – Я… я пишу, или, вернее, пробую писать для журналов, – пробормотал Мартин.
– Ну, это еще туда-сюда, – более миролюбиво сказал Бриссенден, – вы пробуете писать, но вам это не удается. Я ценю и уважаю ваши неудачи. Я представляю себе, что вы пишете. Для этого мне не нужно даже читать ваши произведения. В них есть один недостаток, который закрывает перед ними все двери. В них есть глубина, а это не требуется журналам. Журналам нужен всяческий мусор, и они его получают в изобилии – только не от вас, конечно.
– Я не чуждаюсь ремесленной работы, – возразил Мартин.
– Напротив, – Бриссенден остановился на мгновение и дерзко оглядел все признаки нищеты Мартина – его поношенный галстук, лоснящиеся рукава, обтрепанные манжеты, затем долго созерцал его впалые, худые щеки. – Напротив, ремесленная работа чуждается вас, и так упорно, что вам ни за что не преуспеть в этой области. Слушайте, милый мой, вы, наверно, обидитесь, если я предложу вам поесть?
Мартин помимо воли покраснел, а Бриссенден торжествующе расхохотался.
– Сытый человек не обижается на подобное предложение, – заявил он.
– Вы дьявол! – раздраженно вскричал Мартин.
– Да ведь я вам ничего и не предлагал!
– Еще бы вы посмели!
– Вот как? В таком случае я вас приглашаю поужинать со мной.
Бриссенден, говоря это, привстал, как бы намереваясь тотчас же идти в ресторан.
Мартин сжал кулаки, кровь застучала у него в висках.
– Внимание! Ест их живьем! Ест их живьем! – воскликнул Бриссенден, подражая антрепренеру знаменитого местного пожирателя змей.
– Вас я и в самом деле мог бы съесть живьем, – сказал Мартин, в свою очередь дерзко оглядев истощенного болезнью Бриссендена.
– Только я того не стою.
– Не вы, а дело того не стоит, – произнес Мартин и тут же рассмеялся от всего сердца. – Признаюсь, Бриссенден, вы оставили меня в дураках. То, что я голоден, явление естественное, и ничего тут для меня постыдного нет. Вот видите – я презираю мелкие условности и предрассудки, но стоило вам сказать самые простые слова, назвать вещи своими именами, и я мгновенно превратился в раба этих самых предрассудков.
– Да, вы обиделись, – подтвердил Бриссенден.
– Обиделся, сознаюсь. Есть предрассудки, впитанные с детства. Хотя я многому успел научиться, а все-таки иногда срываюсь. У каждого свой скелет в шкафу.
– Но сейчас вы уже заперли дверцы шкафа?
– Ну конечно.
– Наверное?
– Наверное.
– Тогда идемте и спросим чего-нибудь поесть.
– Идемте.
Мартин хотел заплатить за виски и вытащил свои последние два доллара, но Бриссенден не позволил официанту взять их и заплатил сам.
Мартин состроил было недовольную гримасу, но тотчас успокоился, почувствовав, как Бриссенден мягко и дружелюбно положил ему руку на плечо.
Глава 32
На следующий день Мария была потрясена: к Мартину опять явился необычайный гость. Но на этот раз она настолько сохранила самообладание, что даже пригласила гостя подождать в гостиной.
– Вы не возражаете, что я вторгся к вам? – спросил Бриссенден.
– Я очень рад! – воскликнул Мартин, крепко пожимая ему руку, и, подвинув гостю единственный стул, сам сел на кровать. – Но как вы узнали мой адрес?
– Позвонил к Морзам. Мисс Морз сама подошла к телефону. И вот я здесь.
Бриссенден запустил руку в карман и вытащил небольшой томик.
– Вот вам книжка стихов одного поэта, – сказал он, кладя книгу на стол, – прочтите и оставьте себе. Берите! – вскричал он в ответ на протестующий жест Мартина. – На что мне книги? У меня сегодня утром опять кровь шла горлом. Есть у вас виски? Ну конечно, нет! Подождите минутку.
Он быстро встал и вышел. Мартин посмотрел ему вслед и с грустью увидел, как съежились над впалой грудью его когда-то, должно быть, могучие плечи. Достав два стакана, Мартин начал читать книгу. Это был последний сборник стихов Генри Вогана Марлоу.
– Шотландского нет, – объявил Бриссенден по возвращении, – каналья торгует только американским. Вот бутылка.
– Я сейчас пошлю кого-нибудь из ребят за лимонами, и мы сделаем грог, – предложил Мартин. – Интересно, сколько получил Марлоу за такую книгу?
– Долларов пятьдесят, – отвечал Бриссенден, – и то если ему удалось найти издателя, который захотел рискнуть.
– Значит, поэзией нельзя прожить?
В голосе Мартина прозвучало глубокое огорчение.
– Конечно, нет! Какой же дурак на это рассчитывает? Рифмоплеты – другое дело. Вроде Брюса, Виржинии Спринг или Сиджвика. Эти делают хорошие дела. Но настоящие поэты… Вы знаете, чем живет Марлоу? Преподает в Пенсильвании, в школе для мальчиков, а из всех филиалов ада на земле – это, несомненно, самый мрачный. Я бы не поменялся с ним, даже если бы он предложил мне за это пятьдесят лет жизни. А ведь его стихи блещут среди всего современного стихотворного хлама, как рубины среди стекляшек. А что о нем пишут критики! Черт бы побрал этих критиков!
– Вообще люди, не способные сами стать писателями, слишком много судят о настоящих писателях, – воскликнул Мартин. – Чего, например, не плели про Стивенсона!
– Болотные ехидны! – проговорил Бриссенден, с презрением стиснув зубы. – Да, я знавал одного, который всю жизнь клевал Стивенсона за его письмо к отцу Дамисну. Он его и анализировал, и взвешивал, и…
– И, конечно, мерил его меркой собственной жалкой жизни, – вставил Мартин.
– Хорошо сказано. Ну конечно! Все они треплют и поганят прекрасное, истинное и доброе, а потом еще поощрительно похлопывают вас по плечу и говорят: «Добрый пес, Фидо»! Тьфу! «Жалкие человеческие сороки», сказал про них на смертном одре Ричард Рильф.
– Они хотят клевать звездную пыль, – страстно подхватил Мартин, – хотят поймать мысль гения, летящую подобно метеору. Я как-то написал статью о критиках.
– Давайте ее сюда! – быстро сказал Бриссенден. Мартин вытащил из-под стола экземпляр «Звездной пыли», и Бриссенден тотчас начал читать, то и дело фыркая, потирая руки и забыв даже про свой грог.
– Да ведь вы сами частица этой звездной пыли, залетевшая в страну слепых карликов! – закричал Бриссендсн, дочитав статью. – И, разумеется, журналы это отвергли?
Мартин заглянул в свою записную книжку.
– Эту статью отвергли двадцать семь журналов. Бриссенден начал было хохотать, но тотчас закашлялся.
– А скажите, – прохрипел он наконец, – вы, наверное, пишете стихи? Дайте мне почитать.
– Только не читайте здесь, – попросил его Мартин, – мне хочется поговорить с вами. А стихи я вам заверну в пакет, и вы их прочтете дома.
Бриссенден ушел, захватив с собою «Сонеты о любви», и «Пэри и жемчуг». На следующий день он снова пришел к Мартину и сказал только:
– Давайте еще.
Он утверждал, что Мартин настоящий поэт. Оказалось, что он и сам пишет стихи.
Мартин пришел в восторг, прочтя стихи Бриссендена, и очень удивился, узнав, что тот ни разу не сделал даже попытки напечатать их.
– А ну их всех к чёрту, – сказал Бриссенден в ответ на предложение Мартина послать за него эти стихи в какой-нибудь журнал. – Любите красоту ради самой красоты, а о журналах бросьте думать. Ах, Мартин Иден! Возвращайтесь-ка вы снова в море. Поступайте матросом на какой-нибудь корабль. От души вам это советую. Чего вы здесь добиваетесь, в этих городских клоаках? Ведь вы же сами себя ежедневно убиваете! Вы проституируете самое прекрасное, что только есть на свете, вы приспособляетесь ко вкусам журналов! Как это вы на днях сказали? Да… «Человек – последняя из эфемерид»? Так на что же вам слава, последняя из эфемерид?
Ведь слава для вас яд. Вы слишком самобытны, слишком непосредственны и слишком умны, по-моему, чтобы питаться манной кашкой похвал. Надеюсь, что вы никогда не продадите журналам ни одной строчки. Нужно служить только красоте. Служите ей – и к черту толпу! Успех? Какого вам еще надо успеха! Ведь вы же достигли его и в вашем сонете о Стивенсоне, – который, кстати сказать, много выше гэнлиевского «Видения», – и в «Сонетах о любви», и в морских стихах! Разве радость творчества вы ни во что не ставите? Я-то ведь отлично понимаю, что вас влечет не успех, а самый творческий процесс. И вы это знаете. Вы ранены красотой. Это незаживающая рана, неизлечимая болезнь, раскаленный нож в сердце. К чему вам лукавить с журналами? Пусть вашей целью будет только одна красота. Зачем вы стараетесь чеканить из нее монету? Впрочем, все равно из этого ничего не выйдет. Можно не беспокоиться. Прочитайте журналы хоть за тысячу лет, и вы не найдете в них ничего равного хотя бы одной строке Китса. Забудьте о славе и золоте и завтра же отправляйтесь в плавание.
– Я тружусь не ради славы, а ради любви, – засмеялся Мартин, – Для вас любовь, по-видимому, не существует совсем. А для меня красота – прислужница любви.
Бриссенден посмотрел на него с восторженной жалостью.
– Как вы еще молоды, Мартин! Ах, как вы еще молоды! Вы высоко залетите, но смотрите – крылья у вас уж очень нежные. Не опалите их. Впрочем, вы их уже опалили. И эти «Сонеты о любви» воспевают какую-то юбчонку… Позор!
– Они воспевают любовь, – возразил Мартин и опять засмеялся.
– Философия безумия! – возразил Бриссенден. – Я убедился в этом, когда предавался грезам после хорошей дозы гашиша. Берегитесь! Эти буржуазные города погубят вас. Возьмите для примера тот притон торгашей, где мы с вами познакомились. Ей-богу, это хуже мусорной ямы. В такой атмосфере нельзя оставаться здоровым. Там невольно задохнешься. И ведь никто – ни один мужчина, ни одна женщина – не возвышается над всей этой мерзостью. Все это ходячие желудки, только желудки, руководимые якобы высокими идеями…
Он вдруг остановился и взглянул на Мартина. Внезапная догадка, как молния, поразила его. И лицо выразило ужас и удивление.
– И свой изумительный любовный цикл вы написали ради той бледной и ничтожной самочки?
Правая рука Мартина вцепилась ему в горло и встряхнула так, что у Бриссендена застучали зубы. Но при этом Мартин не прочел у него в глазах выражения страха: только какое-то любопытство и дьявольскую насмешку. И тогда, опомнившись, Мартин разжал пальцы и швырнул Бриссендена на постель.
Бриссенден долго не мог отдышаться. Отдышавшись он расхохотался.
– Вы бы сделали меня своим вечным должником, если бы вытряхнули из меня остатки жизни, – сказал он.
– У меня последнее время что-то нервы не в порядке, – оправдывался Мартин, – надеюсь, я вам не причинил вреда? Я сейчас приготовлю свежий грог.
– Ах вы, юный эллин! – воскликнул Бриссенден. – Вы недостаточно цените свое тело. Вы невероятно сильны. Вы прямо молодая пантера! Львенок! Ну, ну! Придется вам поплатиться за вашу силу.
– Каким образом? – с любопытством спросил Мартин, подавая ему стакан. – Выпейте и не сердитесь.
– А очень просто, – Бриссенден выпил и улыбнулся, – все из-за женщин. Они вам не дадут покоя до самой смерти, как не дают и сейчас. Я ведь не вчера родился. Душить меня довольно бесполезно Я все равно выскажу вам все до конца. Я понимаю, что это ваша первая любовь, но, ради Красоты, будьте в следующий раз разборчивее. Ну на кой чёрт вам эти буржуазные девицы? Бросьте, не путайтесь с ними. Найдите себе настоящую женщину, пылкую, страстную, такую, которая бы смеялась над всякими жизненными опасностями, играла бы и любовью и смертью. Есть на свете такие женщины, и они, поверьте, полюбят вас так же охотно, как и всякая ничтожная душонка, порожденная буржуазной средой.
– Ничтожная душонка? – вскричал Мартин с негодованием.
– Именно, ничтожная душонка! Она будет лепетать вам про моральные истины и добродетели, и при этом будет бояться жить настоящей жизнью. Она будет по-своему любить вас, Мартин, но свою жалкую мораль она будет любить еще больше. Вы хотите великой, испепеляющей любви, вам нужна свободная душа, яркая бабочка, а не серая моль. А впрочем, в конце концов, вам и это наскучит, если вы только, на свое несчастье, останетесь живы. Но вы недолго проживете! Вы ведь не вернетесь к своим кораблям! Будете таскаться по этим гнилым городам, пока не сгниете сами.
– Говорите, что хотите, – воскликнул Мартин, – вам все равно не удастся меня переубедить! Вы, в конце концов, правы для своего темперамента, а я прав для своего.
Они не сходились во взглядах на любовь, на журналы и на многое другое, но Мартин, тем не менее, чувствовал к Бриссендену не только простую привязанность, а нечто гораздо большее. Они стали видеться ежедневно, хотя Бриссенден не мог высидеть более часа в душной комнате Мартина.
Бриссенден никогда не забывал захватить с собою бутылку виски, а когда они обедали в каком-нибудь ресторанчике, он всегда заказывал шотландское виски с содовой. Он неизменно платил за обоих, и благодаря ему Мартин познакомился со многими тонкими блюдами, впервые изведал прелесть шампанского и букет рейнвейна.
Но Бриссенден всегда оставался загадкой. Аскет с виду, он в то же время обладал огромным темпераментом и обостренной чувственностью. Он не боялся смерти, с презрением относясь ко всем формам человеческого существования; но в то же время страстно любил жизнь до самых мельчайших ее проявлений. Он был одержим жаждой жизни, стремлением сгущать ее трепет, «шевелиться на своем крохотном пространстве среди космической пыли, из которой я возник», – сказал он однажды. Он злоупотреблял наркотиками и проделывал странные вещи только ради того, чтобы изведать новые ощущения. Он рассказал Мартину, как три дня подряд не пьет воды, чтобы на четвертый насладиться утолением жажды. Мартин так никогда и не узнал, кто он и откуда. Это был человек без прошлого, его будущее обрывалось близкой могилой, а в настоящем его сжигала горячка жизни.