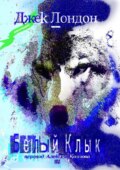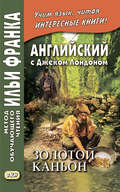Джек Лондон
Мартин Иден
– Хорошо, – вскричал он, – я брошу курить! Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя, дорогая!
Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко и покорно он идет на уступки, она подумала: если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах. Она не смогла их выговорить. Не решилась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала:
– Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверно, вредно курить и потом – нехорошо быть рабом, даже рабом привычки.
– Я буду вашим рабом, – улыбнулся он.
– Ну, в таком случае я буду повелевать.
Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания.
– Готов повиноваться вашему величеству.
– Хорошо. Вот вам моя первая заповедь: не забывайте бриться ежедневно. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку.
Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кое-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Руфь чисто по-женски гордилась тем, что заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу; ведь он обещал исполнять все ее желания.
Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором был подвешен велосипед, с огорчением увидела груду рукописей под столом: как много времени потрачено зря! Керосинка привела ее в восторг, но при дальнейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты.
– У вас тут нет ничего съестного! Ах вы, бедняжка, – воскликнула она с состраданием, – вы, наверно, голодаете!
– Я держу свою провизию у Марии, – солгал Мартин, – там удобнее. Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка!
Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее эстетическое чувство было оскорблено им. Но сердце, кровь, каждый фибр ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинуясь знакомой непонятной силе, она, вместо того чтобы отшатнуться от Мартина, прильнула к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее разум, знающий лишь внешние проявления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликовало. В такие мгновения Руфь начинала чувствовать всю силу своей любви к Мартину, потому что его могучие страстные объятия доставляли ей неизъяснимое наслаждение. В такие мгновения все казалось ей оправданным: измена привычным идеалам, нарушение всех основных принципов, даже молчаливое неповиновение отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь иногда казалась постыдной и ей самой, когда, вдали от него, она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда он был рядом, она любила его; правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь – властная и непобедимая.
– Этот грипп пустяки, – говорил Мартин, – правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки.
– А вы болели тропической лихорадкой? – спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях. Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но тут вдруг одна фраза привлекла ее внимание. Мартин перенес тропическую лихорадку в тайной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов.
– А каким образом вы туда попали? – спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным.
– Случайно, – отвечал Мартин, – я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я дезертировал со шхуны, доплыл до берега и отправился вглубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. Три дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами – вообще всем, что растет в джунглях. На четвертый день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие следы человеческих ног. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более трех футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут отразить нападение стотысячной армии Это был единственный путь вглубь острова. Часа через три я очутился в маленькой долине, среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло семь или восемь тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял куда попал. Довольно было одного взгляда.
– Что ж вы сделали? – спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная.
– А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, который правил, как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и боевые снаряды; кстати все канаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идену остаться и прожить там три месяца.
– Но как же вам удалось спастись?
– Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка Она была очень мила, бедняжка, и даже образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в миллион. Вот эта девушка меня в конце концов и освободила. Понимаете, ее мать давала деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища. И я сдержал эту клятву. Сейчас я в первый раз заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя было маленькое пятнышко. Больше ничего. Теперь уж она, наверно, умерла.
– Но как же вы не боялись! И какое счастье, что вам удалось не заболеть этой ужасной болезнью!
– Вначале мне было порядком не по себе, – признался он. – Но потом я привык. К тому же мне очень было жаль эту несчастную девушку, и я стал забывать о своем страхе. Она была так хороша и душой и телом, болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа.
– Бедная девушка! – прошептала Руфь. – Все-таки странно, что она вас так отпустила.
– Почему странно? – спросил Мартин, не понимая замечания Руфи.
– Да потому что она, наверно, любила вас, – продолжала Руфь так же тихо. – Ну скажите прямо: любила?
Загар давно сошел с лица Мартина благодаря постоянной работе и затворнической жизни, а в последнее время, от голода и болезни, он очень побледнел; теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его:
– О, не отвечайте, пожалуйста! В этом нет необходимости! – воскликнула она смеясь.
Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. Мартину вспомнилась буря, которую однажды пришлось ему пережить в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение урагана, ночного урагана при ясном небе и полной луне; волны, вздымающиеся в холодном лунном свете, Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и вспомнил, что она дала ему возможность бежать только потому, что любила его.
– Она была благородна, – сказал он просто, – она спасла мне жизнь.
Казалось, этим инцидент был исчерпан, но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. В следующий миг она уже снова взглянула Мартину в глаза, и на ее лице не было и следов промчавшейся бури.
– Я такая дурная, – жалобно сказала Руфь, – но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, и привыкну постепенно, но теперь я так ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков!.. Да, да, иначе и быть не может, – быстро продолжала она, не давая ему возразить. – Ну, бедный Артур уже делает мне знаки. Ему надоело ждать. Прощайте, мой дорогой. Есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения, – сказала Руфь уже в дверях, – я вам его пришлю.
Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее.
– Люблю, люблю, – шепнула она и только после этого ушла.
Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым. Толпа разочарованных ребятишек смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил все дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество, зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей В глазах Марии он возвысился на сто процентов, и если бы лавочник тоже видел эту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на три доллара и восемьдесят пять центов.
Глава 27
Солнце счастья взошло для Мартина. На другой же день после посещения Руфи он получил чек на три доллара от одного бульварного нью-йоркского журнальчика в уплату за три триолета. Еще через два дня одна чикагская газета приняла его «Искателей сокровищ», обещая уплатить десять долларов по напечатании. Цена была невелика, но ведь это было его первое произведение – первая попытка выразить на бумаге волновавшие его мысли. Наконец и его приключенческая повесть для юношества была принята одним ежемесячным журналом под названием «Юность и зрелость». Правда, в повести была двадцать одна тысяча слов, а ему предложили за нее всего шестнадцать долларов, что составляло примерно семьдесят пять центов за тысячу слов, да и то по напечатании, – но ведь это была только вторая его литературная попытка, и Мартин сам теперь отлично видел, сколько в ней недостатков.
Впрочем, даже в самых ранних его произведениях не было признаков посредственности. В них скорее было слишком много силы – избыточной силы новичка, готового стрелять из пушек по воробьям. Мартин был рад, что ему удалось хоть по дешевке продать свои ранние произведения. Он знал им цену, и ему понадобилось не так уж много времени, чтобы это узнать. Все надежды он возлагал на свои последние произведения. Ему хотелось быть не просто журнальным писателем. Он хотел вооружиться всеми приемами настоящего художественного творчества. Но силой жертвовать он не хотел. Напротив, он старался еще увеличить силу, обуздывая ее в то же время формой. И любви к реализму он тоже не утратил. Во всех своих произведениях он стремился сочетать реализм с вымыслом и красотами, созданными фантазией. Он добивался вдохновенного реализма, проникнутого верой в человека и его стремления. Он хотел показать жизнь как она есть, со всеми исканиями мятущегося духа.
Читая книги, Мартин установил, что существуют две литературные школы. Одна изображала человека каким-то божеством, совершенно игнорируя его человеческую природу; другая, напротив, видела в человеке только зверя и не хотела признавать его духовных устремлений и великих возможностей. Мартин не мог примкнуть ни к той, ни к другой школе, считая их слишком односторонними. По его мнению, возможен был компромисс, наиболее приближающийся к истине, который, не следуя школе «божества», не придерживался бы в то же время и животной грубости школы «зверя».
В рассказе «Приключение», прочитанном когда-то Руфи, Мартин попытался осуществить свой идеал художественной правды, а в статье «Бог и зверь» он изложил свои теоретические взгляды на этот предмет.
Но «Приключение» и все другие рассказы, которые он считал лучшими, продолжали странствовать из одной редакции в другую, а совсем ранним рассказам Мартин не придавал никакого значения и радовался лишь получаемому за них гонорару; не слишком высоко он расценивал и «страшные» рассказы, из которых два были только что приняты журналами. Рассказы эти представляли чистейшую выдумку, которой была придана видимость реального, в этом и заключалась их сила. Правдоподобное изображение нелепого и невероятного Мартин считал ловким трюком, и только. Такие произведения нельзя было причислять к большой литературе. Их художественная выразительность могла быть велика, но Мартин невысоко ставил художественную выразительность, если она расходилась с жизненной правдой. Трюк заключался в том, чтобы облечь искусственную выдумку в маску живой жизни, и к этому приему Мартин прибегнул в полдюжине «страшных» рассказов, которые писал до того, как достиг высот «Приключения», «Радости», «Котла» и «Вина жизни».
На три доллара, полученные за триолеты, можно было кое-как прожить до получения чека «Белой Мыши». Он разменял трехдолларовый чек у недоверчивого португальца, уплатив ему один доллар в счет долга и разделив два других доллара между булочником и торговцем овощами. Мартин был еще не настолько богат, чтобы есть мясо, и питался довольно скудно, как вдруг пришел долгожданный чек «Белой Мыши». Мартин не знал, как ему быть. Он ни разу в жизни не заходил в банк, а тем более по денежным делам, и теперь им овладело детское желание во что бы то ни стало разменять чек на сорок долларов в одном из больших оклендских банков. Но практический здравый смысл советовал ему разменять этот чек у бакалейщика и таким образом поддержать и увеличить свой кредит. С большой неохотой отправился Мартин к бакалейщику и, разменяв чек, расплатился с ним сполна. Он вышел от него с карманом, набитым деньгами, и отправился расплачиваться с другими своими кредиторами: расплатился с булочником и мясником, уплатил Марии за прошлый месяц и за месяц вперед, выкупил велосипед, костюм, заплатил за пишущую машинку. После всех этих платежей у него осталось в кармане всего три доллара.
Но и эта маленькая сумма казалась Мартину целым состоянием. Выкупив костюм, он тотчас же отправился к Руфи и по дороге не мог удержался от удовольствия время от времени позвякивать в кармане пригоршнею серебра. Как голодный человек не может отвести взоров от пищи, так Мартин, у которого давно не было ни цента в кармане, не мог выпустить монеты из рук. Он не был ни жаден, ни скуп, но деньги для него означали нечто большее, чем известное количество долларов и центов. Они означали успех в жизни, и чеканные орлы казались Мартину крылатыми вестниками победы.
Незаметно к Мартину вернулось его убеждение в том, что мир прекрасен. Он даже стал казаться ему еще прекраснее. В течение долгих недель это был темный и унылый мир; но теперь, когда все долги были выплачены, в кармане еще звенели три доллара, а в сердце крепла вера в успех, солнце снова показалось Мартину ярким и жгучим, и даже ливень, хлынувший внезапно, вызвал у него только веселую улыбку. Во время своей голодовки Мартин все время думал о тысячах голодных, разбросанных по всему миру; но теперь, когда он был сыт, мысль о них уже не тревожила его; теперь, полный своей любовью, он стал думать о бесчисленных влюбленных, живущих на земле. В его мозгу смутно зашевелились мотивы любовной лирики, и, увлеченный творческим порывом, он незаметно проехал на трамвае два лишних квартала.
В доме Морзов Мартин застал многочисленное общество. Из Сан-Рафаэля приехали к Руфи гостить две ее двоюродные сестры, и, воспользовавшись этим предлогом, миссис Морз решила привести в исполнение свой план – окружить Руфь молодежью. Осуществление коварного плана началось во время вынужденного отсутствия Мартина, и теперь военные действия были в полном разгаре. Миссис Морз задалась целью ввести в свой дом людей, делающих или сделавших карьеру. Таким образом, кроме кузин – Дороти и Флоренс, – в гостиной находилось: два университетских профессора: один – латинист, а другой – специалист по английской филологии; молодой армейский офицер, школьный товарищ Руфи, только что вернувшийся с Филиппин; молодой человек по фамилии Мельвилль, личный секретарь Джозефа Перквиса, главы объединенных трестов Сан-Франциско; наконец банковский кассир Чарльз Хэпгуд, моложавый мужчина тридцати пяти лет, воспитанник Стенфордского университета, член Нильского и Соединенного клубов, лидер республиканской партии, выдвинувшийся на последних выборах, – одним словом, молодой человек, многообещающий во всех отношениях. Из дам одна была художница-портретистка, другая – профессиональная музыкантша, и третья – со степенью доктора социологических наук, прославившаяся своей организационной деятельностью в трущобах Сан-Франциско. Впрочем, в плане миссис Морз женщины не играли особенной роли. Они являлись чем-то вроде необходимого аксессуара. Ведь нужно же было чем-нибудь привлекать в дом мужчин, делающих карьеру.
– Не горячитесь во время разговора, – шепнула Мартину Руфь, прежде чем познакомить его с присутствующими. Мартин вначале чувствовал себя очень неловко; к нему вернулся давнишний его страх повредить при движении что-нибудь из мебели или безделушек. Кроме того, его стесняло общество. Он никогда раньше не сталкивался сразу со столькими изысканными людьми. Особенно сильное впечатление произвел на него банковский кассир Хэптуд, и Мартин решил при случае познакомиться с ним поближе. Под внешней робостью в Мартине было все так же действенно его могучее «я», и он непременно хотел померяться силами с этими мужчинами и женщинами и узнать, чему научились они у книг и у жизни и чему он мог научиться у них.
Руфь часто посматривала на Мартина и была очень удивлена и обрадована той непринужденностью, с какой он беседовал с ее кузинами. Он в самом деле чувствовал себя непринужденно, но только пока сидел, ибо тогда мог не опасаться за свои плечи Руфь знала, что обе ее кузины умные и блестящие собеседницы, и удивлялась, слыша, как они, ложась спать, расхваливали Мартина. Сам он, привыкнув в своем кругу быть присяжным остряком и душою общества на всех вечеринках и воскресных пикниках, нашел, что и здесь тоже можно быть веселым и отпускать меткие словечки. А успех уже стоял у него за спиной, ободрительно похлопывая по плечу, и сулил удачи: вот почему Мартин, нисколько не смущаясь, смеялся сам и заставлял смеяться других.
Под конец вечера опасения Руфи все-таки оправдались. Мартин вступил в беседу с профессором Колдуэллом и, хотя не размахивал еще руками, но Руфь уже заметила особый блеск в его глазах, заметила, что голос его постепенно начинает повышаться, и краска приливает к щекам. Не умея владеть собой и укрощать свой пыл, Мартин представлял резкий контраст с выдержанным молодым профессором.
Но Мартин не придавал большого значения внешности. Он сразу увидел, как развит и как широко образован его просвещенный собеседник. Профессор Колдуэлл оказался к тому же не таким, как представлялся Мартину вообще всякий профессор английской филологии. Мартин непременно хотел заставить профессора заговорить о своей специальности, и хотя тот сначала от этого уклонялся, Мартину, в конце концов, удалось добиться своего. Мартин не понимал, почему в обществе не принято говорить на профессиональные темы.
– Ведь это же нелепо, – говорил он Руфи еще задолго до этого вечера, – почему нельзя говорить на профессиональные темы? Для чего же тогда людям и собираться вместе, как не для того, чтобы проявить себя с лучшей стороны. А самое лучшее у каждого человека всегда то, в чем он больше всего смыслит, на чем он специализировался, чему посвятил всю свою жизнь, о чем думает и даже мечтает днем и ночью. Вообразите, что мистер Батлер, подчиняясь общепринятым правилам, вдруг бы начал излагать свои взгляды на Поля Верлена, на немецкую драму или на романы д'Аннунцио. Все бы со скуки умерли. Я, например, если уж мне слушать мистера Батлера, предпочту, чтобы он говорил о своей юриспруденции. В конце концов в этой сфере он лучше всего. Жизнь так коротка, и мне всегда хочется взять от человека все самое лучшее, что в нем есть.
– Однако, – возражала Руфь, – есть такие вопросы, которые одинаково интересны всем.
– Нет, в этом вы ошибаетесь, – в свою очередь возразил Мартин, – каждый человек и каждая группа общества всегда подражают тем, кто выше их по положению. А кто занимает самое высокое положение в обществе? Бездельники, богатые бездельники. Они обычно и понятия не имеют о вещах, которые известны людям, занятым каким-нибудь делом. Им, конечно, скучно говорить о таких вещах, и вот они объявляют, что это – профессиональный разговор, который в обществе вести неприлично. И они же определяют то, о чем можно беседовать в обществе. Беседовать можно: о новой опере, новых романах, картах, бильярдах, коктейлях, автомобилях, яхтах, лошадиных выставках, ловле форели и так далее, – то есть, заметьте, обо всем, о чем бездельники обычно имеют понятие. В сущности говоря, это профессиональный разговор бездельников. Смешнее всего, что люди ученые, или претендующие на это звание, подчиняются в данном случае мнению глупцов и лентяев. Что до меня, то я непременно хочу взять у человека его самое лучшее. Называйте это профессиональными разговорами, вульгарностью, или как вам будет угодно.
Но Руфь не понимала Мартина. Его нападки на обще принятое она всегда считала просто проявлением его своенравия и упрямства.
Так или иначе, Мартин заразил профессора Колдуэлла своей серьезностью и заставил его заговорить на темы, ему близкие. Руфь, подойдя к ним, услыхала, как Мартин сказал:
– Но в Калифорнийском университете вы, вероятно, не решаетесь высказывать подобную ересь!
Профессор Колдуэлл пожал плечами.
– Я честный плательщик налогов и лояльный политик. Сакраменто назначает нас, и мы должны считаться с Сакраменто, должны считаться с правительством штата, с партийной прессой или даже с прессой обеих партий.
– Это ясно, но вы должны чувствовать себя, как рыба, вынутая из воды! – воскликнул Мартин.
– У нас в университетском пруду немного наберется таких, как я. Иногда мне кажется, что я в самом деле рыба, выброшенная на сушу, и я начинаю думать, что мне было бы лучше и вольнее где-нибудь в Париже, в кабачке Латинского квартала, где собирается богема и где пьют кларет. Я бы обедал в дешевом ресторане и высказывал отчаянно смелые взгляды на все мироздание. Мне иногда кажется, что по натуре я радикал. Но, увы, так много вопросов, в которых я совершенно не чувствую никакой уверенности. Я становлюсь робким, когда сталкиваюсь лицом к лицу с коренными проблемами жизни – человеческой жизни.
И, слушая его, Мартин невольно вспомнил «Песню о пассатном ветре»:
Жаркий полдень по мне,
Но во мгле при луне
Я готов паруса надувать
И, повторяя слова песни, Мартин глядел на профессора и находил в нем что-то общее с северо-восточным пассатом, неизменным, холодным и сильным. Он был так же ровен и надежен, и, однако, в нем было что-то смущающее. Мартин думал о том, что профессор, вероятно, никогда не высказывается до конца, так же как и северовосточный пассат никогда не дует изо всех сил, а всегда оставляет себе резервы, которыми, однако, никогда не пользуется. Воображение Мартина было по-прежнему ярким. Его мозг был как бы огромным складом воспоминаний и вымыслов, доступ к которым был всегда открыт.
Что бы ни произошло, Мартин мгновенно извлекал из этого своего склада что-либо сходное или, наоборот, противоположное и воплощал это в ярких видениях. Делалось это совершенно непроизвольно, и каждому событию реальной жизни неизменно сопутствовали картины, создаваемые фантазией. Как тогда ревнивый блеск в глазах Руфи напомнил ему бурю при лунном свете, так теперь профессор Колдуэлл вызвал перед ним картину океана: волны с белыми гребнями, обагренные заходящим солнцем, несутся, гонимые северо-восточным пассатом. Так ежеминутно возникали перед ним различные видения и не только не нарушали хода его мыслей, но, напротив, помогали разбираться в них. Эти видения были отголоском всего того, что пережил некогда Мартин, всего, что он видел и вычитал из книг, и они постоянно, наяву и во сне, теснились в его мозгу.
И вот теперь, слушая плавную речь профессора Колдуэлла – речь умного и образованного человека, – Мартин невольно вспомнил свое прошлое. Он видел себя на заре своей юности, настоящим хулиганом, в лихо заломленной стетсоновской шляпе и двубортной куртке, когда идеалом его были грубости и всякие безобразия, насколько они дозволялись полицией. Мартин не пытался что-либо смягчить или сглаживать в этих воспоминаниях. Да, в известный период своей жизни он был самым обыкновенным хулиганом, предводителем шайки, которая вечно воевала с полицией и терроризировала честных хозяев рабочего квартала. Теперь его идеал изменился. Он поглядывал вокруг себя, на благовоспитанных и хорошо одетых мужчин и дам, вдыхал атмосферу утонченной культуры, и призрак его юности в широкополой шляпе и двубортной куртке вперевалку шел к нему по ковру гостиной. Ведь это он, озорной предводитель уличной шайки, превратился в того Мартина Идена, который сидит теперь в мягком кресле и мирно беседует с профессором университета.
По правде говоря, Мартин никогда и нигде не чувствовал себя вполне на своем месте. Он просто хорошо приспосабливался к обстоятельствам, всегда был общим любимцем, потому что не отставал ни в работе, ни в игре и повсюду умел постоять за себя и внушить к себе уважение. Но никогда и нигде он не пускал корней. Вполне удовлетворяя своих сотоварищей, Мартин сам никогда не был удовлетворен. Его все время томило какое-то беспокойство, ему все время слышался голос, звавший его куда-то, и он странствовал по миру в поисках, пока не нашел, наконец, книгу, искусство и любовь. И вот теперь он находился среди всего этого – единственный из всех своих прежних товарищей, который запросто мог прийти в гости к Морзам.
Но все эти мысли отнюдь не мешали Мартину внимательно слушать профессора. Он видел, как обширны познания его собеседника, и время от времени чувствовал недостатки и пробелы в своем образовании, хотя благодаря Спенсеру ему все же были известны общие основы знания. Нужно было только время, чтобы заполнить пробелы. «Тогда посмотрим!» – думал он. Но пока он как бы сидел у ног профессора, слушая благоговейно и внимательно все, что тот говорил. Однако постепенно Мартин начал замечать и слабую сторону суждений своего собеседника, которая, правда, могла бы и не броситься в глаза, если бы не повторялась постоянно. И когда Мартин понял, наконец, в чем заключается эта слабая сторона, у него сразу исчезло чувство неравенства, которое он испытывал в начале беседы с профессором.
Руфь подошла к ним вторично, как раз в тот момент, когда Мартин начал говорить.
– Я скажу вам, в чем вы заблуждаетесь или, вернее, в чем слабость ваших суждений, – сказал он. – Вы пренебрегаете биологией. Она отсутствует в вашем миросозерцании. То есть я разумею подлинно научную биологию, начиная с лабораторных опытов по оживлению неорганической ткани и кончая самыми широкими социологическими и эстетическими обобщениями.
Руфь была совершенно ошеломлена. Она в продолжение двух лет слушала лекции профессора Колдуэлла, и он казался ей олицетворением мудрости.
– Я не совсем понимаю вас, – нерешительно сказал профессор.
– Я попытаюсь объяснить, – произнес Мартин. – Мне помнится, я читал в истории Египта, что нельзя понять египетское искусство, не изучив предварительно характер страны.
– Совершенно верно, – согласился профессор.
– И вот мне кажется, – продолжал Мартин, – что, в свою очередь, характер страны нельзя изучать без предварительного знания материала, из которого создавалась жизнь, и того, как она образовалась. Как мы можем понять законы, учреждения, нравы и религию, не зная людей, их создавших, и не зная, из чего вообще созданы сами эти люди? Литература, в конце концов, такое же создание человека, как египетское искусство. Разве во вселенной существует что-нибудь, не подчиняющееся всемирному закону эволюции? Я знаю, что история эволюции отдельных искусств разработана, но мне кажется, что она разработана чисто механически. Человек остается при этом в стороне. Великолепно разработана эволюция инструментов – арфы, скрипки, эволюция музыки, танца, песни. Но что можно сказать об эволюции самого человека, о тех органах, которые развивались в нем, прежде чем он смастерил первый инструмент или пропел первую песню? Вот об этом-то вы забываете, а это именно я и называю биологией. Это биология в самом широком смысле слова. Я знаю, что выражаюсь немного бессвязно, но я, можно сказать, пытаюсь сам выковать свою идею. Она пришла мне в голову, пока вы говорили, и мне трудно сразу найти ей четкое выражение. Вы упомянули о человеческой ограниченности, не дающей человеку возможности охватить все факторы. Вот вы как раз, – по крайней мере, мне так кажется, – упускаете биологический фактор, то есть именно самую основу всех искусств, главный материал, из которого построена, в конце концов, вся человеческая культура.
К изумлению Руфи, Мартин не был мгновенно уничтожен, и профессор даже взглянул на Мартина, как показалось Руфи, снисходительно, очевидно считаясь с его молодостью. Наконец после недолгого молчания профессор начал говорить, поигрывая своей золотой цепочкой.
– Вы знаете, – сказал он, – мне уже делал однажды подобные упреки один великий человек, ученый эволюционист Жозеф Леконт. Но он умер, и я думал, что никто не будет больше обличать меня, а вот теперь вижу в вашем лице нового обвинителя. Вероятно, – не могу не признать этого, – в ваших обвинениях есть доля истины, и даже очень большая доля. Я слишком ушел в классику и недостаточно следил за развитием естественных наук; быть может, это объясняется просто недостатком энергии и работоспособности. Вы, вероятно, очень удивитесь, если узнаете, что я никогда не был ни в одной лаборатории. Однако это факт. Леконт был прав, так же как и вы, мистер Иден, хоть я и не знаю – насколько.
Под каким-то предлогом Руфь отвела Мартина в сторону и шепнула ему:
– Вы совсем монополизировали профессора Колдуэлла. Может быть, еще кто-нибудь хочет побеседовать с ним.
– Простите, – смущенно пробормотал Мартин, – я заставил его разговориться, и это оказалось настолько интересно, что я забыл о других. Просто мне до сих пор не приходилось встречать такого умного и образованного собеседника. И, между прочим, знаете что? Я прежде думал, что все, кто посещает университет или занимает важное общественное положение, так же умны и образованны…