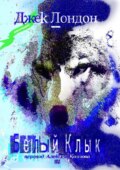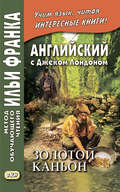Джек Лондон
Мартин Иден
Глава 7
Прошла неделя с того дня, как Мартин познакомился с Руфью, а он все еще не решался пойти к ней. Иногда он уже совсем готов был решиться, но всякий раз сомнения одерживали верх. Он не знал, спустя какой срок прилично повторить посещение, и не было никого, кто бы мог ему сказать это, а он боялся совершить непоправимую ошибку. Он отошел от всех своих прежних товарищей и порвал с прежними привычками, а новых друзей у него не было, и ему оставалось только чтение. Читал он столько, что обыкновенные человеческие глаза давно уже не выдержали бы такой нагрузки. Но у него были выносливые глаза и крепкий, выносливый организм. Кроме того, до сих пор он жил в стороне от абстрактных книжных мыслей, и мозг его представлял собой нетронутую целину, благодатную почву для посева. Он не был утомлен науками и теперь мертвой хваткой вцеплялся в книжную премудрость.
К концу недели Мартину показалось, что он прожил целые столетия – так далека была прежняя жизнь и прежнее отношение к миру. Но ему все время мешал недостаток подготовки. Он брался за книги, которые требовали многих лет специального изучения. Сегодня он читал книги по античной, завтра по новой философии, так что в голове у него царила постоянная путаница идей. То же самое было и с экономическими учениями. На одной и той же полке в библиотеке он нашел Карла Маркса, Рикардо, Адама Смита и Милля, и непонятные ему формулы одного опровергали утверждения другого. Он совершенно растерялся и все-таки хотел все знать, одновременно увлекаясь и экономикой, и индустрией, и политикой. Однажды, проходя через Сити-Холл-парк, он увидел толпу, окружившую человек пять или шесть, которые, по всей видимости, были заняты каким-то горячим спором. Он подошел поближе и тут в первый раз услыхал еще незнакомый ему язык народных философов. Один был бродяга, другой – профсоюзный агитатор, третий – студент университета, а остальные – просто любители дискуссий из рабочих. Впервые он услыхал об анархизме, социализме, о едином налоге, узнал, что существуют различные, враждебные друг другу, системы социальной философии. Он услыхал сотни совершенно новых для него терминов из таких областей науки, которые еще не вошли в его скудный обиход сведений. Вследствие этого он не мог следить за развитием спора и лишь чутьем угадывал идеи, скрытые в этих странных словах. Был среди спорщиков черноглазый лакей из ресторана – теософ, член профсоюза пекарей – агностик, какой-то старик, сразивший всех своей удивительной философией, основанной на утверждении, что все сущее справедливо, и еще один старик, пространно рассуждавший о космосе, об атоме-отце и об атоме-матери.
У Мартина Идена голова распухла от всех этих рассуждений, и он поспешил в библиотеку посмотреть значение десятка врезавшихся в его память слов. Уходя из библиотеки, он нес под мышкой четыре толстых тома «Тайная доктрина» госпожи Блаватской, «Прогресс и бедность», «Квинтэссенция социализма», «Война религии и науки». К несчастью, он начал с «Тайной доктрины». Каждая строчка в этой книге изобиловала многосложными словами, которых он не понимал. Он сидел на кровати и чаще смотрел в словарь, чем в книгу. Он вычитал столько слов, что, запоминая одни, забывал другие и должен был снова искать в словаре. Он решил записывать слова в особую тетрадку и в короткий срок исписал десятка два страниц. И все-таки он ничего не мог понять. Он читал до трех часов утра; у него уже ум за разум зашел, а все же ни одной существенной мысли он в тексте не уловил. Он поднял голову, и ему показалось, что вся комната ходит ходуном, как корабль во время качки. Тогда он выругался, отшвырнул «Тайную доктрину», потушил газ и решил заснуть. Не лучше пошло дело и с остальными тремя книгами. И не то, чтобы мозг его был слаб или невосприимчив: он мог бы усвоить все эти мысли, но ему не хватало тренировки и не хватало словесного запаса. Он, наконец, понял это и одно время носился даже с мыслью читать один только словарь, пока он не выучит наизусть все незнакомые слова.
Единственным утешением была для Мартина поэзия: он с восторгом читал тех простых поэтов, каждая строчка которых была ему понятна. Он любил красоту, а здесь он находил ее в изобилии. Поэзия действовала на него так же сильно, как и музыка, и незаметным образом подготовляла его ум к будущей, более трудной работе. Страницы его памяти были пусты, и он без всякого усилия запоминал строфу за строфой, так что скоро мог уже вслух произносить целые стихотворения, наслаждаясь гармоническим звучанием оживших печатных строк. Однажды он случайно наткнулся на «Классические мифы» Гэйли и «Век сказки» Бельфинча. Словно луч яркого света прорезал вдруг мрак его невежества, и его еще больше потянуло к поэзии.
Человек за столом уже знал Мартина, был очень приветлив с ним и дружелюбно кивал головой, когда Мартин приходил в библиотеку. Поэтому Мартин решился однажды на смелый поступок. Он взял несколько книг и, когда библиотекарь штемпелевал его карточки, пробормотал:
– Послушайте, можно вас спросить кой о чем? – Библиотекарь улыбнулся и ободряюще кивнул головой.
– Если вы познакомились с молодой леди и она просила вас зайти… так вот… когда можно это сделать?
Мартин почувствовал, что рубашка прилипла к его спине, вспотевшей от волнения.
– Да когда угодно, по-моему, – отвечал библиотекарь.
– Нет, вы не понимаете, – возразил Мартин. – Она… видите ли, в чем штука ее может не быть дома. Она ходит в университет.
– Ну, другой раз зайдете.
– Собственно дело даже не в этом, – признался Мартин, решившись, наконец, отдаться на милость собеседника, – я, видите ли, простой матрос, я не очень-то привык к такому обществу. Эта девушка совсем не то, что я, а я совсем не то, что она… Вы не подумайте, что я дурака ломаю, – перебил он вдруг сам себя.
– Нет, нет, что вы, – запротестовал библиотекарь. – Правда, ваш запрос не в компетенции справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь помочь вам.
Мартин посмотрел на него с восхищением.
– Эх, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело, – сказал он.
– Виноват…
– Я хочу сказать, что все было бы хорошо, если бы я умел так складно и вежливо говорить, как вы.
– А! – сочувственно отозвался библиотекарь.
– Когда лучше прийти? Днем? Только так, чтобы не угодить к обеду? Или вечером? А может, в воскресенье?
– Знаете, что я вам посоветую, – сказал, улыбаясь, библиотекарь, – вы ей позвоните по телефону и спросите.
– А ведь верно! – воскликнул Мартин, собрал книги и пошел к выходу.
На пороге он обернулся и спросил:
– Когда вы разговариваете с молодой леди – ну, скажем, мисс Лиззи Смит, – как надо говорить: мисс Лиззи или мисс Смит?
– Говорите «мисс Смит», – сказал библиотекарь авторитетным тоном, – говорите «мисс Смит», пока не познакомитесь с ней поближе.
Итак, проблема была разрешена.
– Приходите когда угодно. Я всегда дома после обеда, – отвечала по телефону Руфь на его робкий вопрос, когда он может возвратить ей взятые у нее книги.
Она сама встретила его у двери, и ее женский глаз сразу отметил и отутюженную складку брюк, и какую-то общую неуловимую перемену к лучшему. Но удивительнее всего было выражение его лица. Казалось, в нем переливалась через край здоровая сила и волной захлестывала ее, Руфь. Снова она почувствовала желание прижаться к нему, ощутить теплоту его тела и снова поразилась тому, как действовало на нее его присутствие. А он, в свою очередь, вновь ощутил блаженный трепет, когда она подала ему руку. Разница между ними была в том, что она внешне ничем не обнаруживала своего волнения, в то время как он покраснел до корней волос.
Он последовал за ней, так же неуклюже переваливаясь на ходу. Но когда они уселись в гостиной, Мартин, против ожидания, почувствовал себя довольно непринужденно. Она всячески старалась создать у него это ощущение непринужденности и делала это так деликатно и бережно, что стала ему еще во сто крат милее. Сначала они поговорили о книгах, о Суинберне, которым он восхищался, и о Броунинге, который был для него непонятен. Руфь направляла разговор, а сама все думала о том, как бы помочь ему. Она часто думала об этом после их первой встречи. Ей непременно хотелось помочь ему. Она чувствовала нежность и жалость к нему, но в этой жалости не заключалось ничего обидного: это было никогда не испытанное ею прежде, почти материнское чувство. Да и могла ли это быть простая, обычная жалость, если в человеке, ее вызывавшем, она настолько чувствовала мужчину, что одна его близость порождала в ней безотчетный девический страх, и заставляла сердце биться от странных мыслей и чувств. Опять возникло у нее желание обнять его за шею или положить руки ему на плечи. И по-прежнему это желание смущало ее, но она уже к нему привыкла. Ей не приходило в голову, что зарождающаяся любовь может принимать такие формы. Но ей не приходило в голову также и то, что чувство, охватившее ее, можно назвать любовью. Ей казалось, что Мартин просто заинтересовал ее как человек необычный, с огромными потенциальными возможностями, и что ею руководят чисто филантропические побуждения.
Она не понимала, что желает его, но с ним дело обстояло иначе. Мартин знал, что любит Руфь; и знал, что желает ее так, как никогда еще не желал в своей жизни. Он и прежде любил поэзию, как любил все прекрасное, но после встречи с ней перед ним открылись врата в огромный мир любовной лирики. Она дала ему гораздо больше, чем Бельфинч и Гэйли. Неделю тому назад он не стал бы задумываться над такой, например, строчкой: «Печальный юноша, он одержим любовью и в поцелуе умереть готов», но теперь слова эти не выходили у него из головы. Он восхищался ими, как величайшим откровением; он смотрел на Руфь и думал, что с радостью умер бы в поцелуе. Он чувствовал себя тем самым печальным юношей, который «одержим любовью», и гордился этим больше, чем мог бы гордиться возведением в рыцарское достоинство. Он постиг, наконец, смысл жизни и цель своего существования на земле.
Когда он смотрел на нее и слушал ее, его мысли становились смелее. Он вспоминал наслаждение, испытанное при пожатии ее руки, и жаждал почувствовать его снова. Порою он с жадным томлением смотрел на ее губы. Но ничего грубого и земного в этом томлении не было. Ему доставляло невыразимое наслаждение ловить каждое движение ее губ в то время, как она говорила, это не были обычные губы, какие бывают у всех женщин и мужчин. Они были не из плоти и крови. Это были уста бесплотного духа, и желание их поцеловать совершенно не было похоже на желание, возбуждаемое другими женщинами. Он, конечно, охотно прижал бы к этим небесным устам свои губы, но это было бы все равно, как если бы он приложился к образу самого господа бога. Он не мог разобраться в той своеобразной переоценке ценностей, которая в нем происходила, и не понимал, что в конце концов, когда он смотрит на нее, глаза его горят тем самым огнем, которым горят глаза всякого мужчины, жаждущего любви. Он не подозревал, как пылок и мужественен его взгляд, как глубоко он волнует ее всю. Ее девственная непорочность облагораживала для него его собственные чувства, и возносила их на высоту холодного целомудрия звезд. Он был бы потрясен, узнав, что его глаза излучают таинственное тепло, которое проникает в недра ее существа, и там зажигают ответный огонь. Смущенная, встревоженная его взглядом, она несколько раз теряла нить разговора и с немалым трудом вновь собирала обрывки мыслей. Обычно она не затруднялась в разговоре и теперь объясняла свое состояние исключительностью своего собеседника. Она была очень восприимчива ко всякого рода впечатлениям, и, в конце концов, не было ничего удивительного, что этот пришелец из другого мира смущал ее.
Она думала, как помочь ему, и хотела начать беседу в этом направлении, но Мартин сам пришел ей на помощь.
– Не знаю, могу ли я попросить у вас совета, – начал он и едва не задохнулся от радости, когда она выразила готовность сделать для него все, что будет в ее силах.
– Помните, я в тот раз говорил, что не умею говорить о книгах, о всяких таких вещах, ничего у меня из этого не получается. Ну вот, я с тех пор много передумал. Стал ходить в библиотеку, набрал там всяких книг, но только все они не для моего ума. Может, лучше начать сначала? Я ведь по-настоящему и не учился никогда. Мне пришлось работать с самого детства, а вот теперь я пошел в библиотеку, посмотрел на книги, почитал – и вижу, что раньше читал я совсем не то, что нужно. Понимаете, где-нибудь на ферме или в пароходном кубрике таких книг не найдешь, как, скажем, у вас в доме. Там чтение другое, и вот к такому-то чтению я как раз и привык. А между тем, скажу не хвастаясь, я не такой, как те, с кем я водил компанию. Не то, чтобы я был лучше других матросов и ковбоев, я и ковбоем тоже был, – но я, видите ли, всегда любил книги и всегда читал все, что попадалось под руку, и мне кажется, у меня голова работает на иной манер, чем у моих товарищей. Но дело-то еще не в этом. Дело вот в чем. Я никогда не бывал в таких домах, как ваш. Когда я к вам пришел на той неделе и увидел вас, и вашу мать, и ваших братьев, и как тут у вас все, – мне очень понравилось. Я раньше только в книжках читал про такое, но тут вот оказалось, что книги не врут. И мне понравилось. Мне захотелось всего этого, да и теперь хочется. Я хотел бы дышать таким воздухом, как у вас в доме, чтобы кругом были книги, картины и всякие красивые вещи, и чтобы люди говорили спокойно и тихо, и были чисто одеты, и мысли чтоб у них были чистые. Тот воздух, которым я всю жизнь дышал, пахнет кухней, вином, руганью и разговорами о квартирной плате. Когда вы встали, чтобы поцеловать свою мать, мне это показалось так красиво, – ничего красивее на свете я не видел. А я повидал немало и могу сказать – всегда видел больше, чем другие. Я очень люблю смотреть, и мне всегда хочется увидеть еще что-нибудь и еще.
Но это все не то. Самое главное вот: мне бы хотелось дойти до такой жизни, какою живете вы здесь, в этом доме. Жизнь – это ведь не только пьянство, драка, тяжелая работа. Теперь вот вопрос: как достичь этого? С чего мне начать? Работы я не боюсь; если уж говорить об этом, то я в работе любого перегоню. Мне бы только начать, а там буду работать день и ночь. Вам, может, смешно, что я с вами об этом говорю? Я, может, напрасно к вам обратился, но мне больше не к кому, по правде сказать, – вот разве к Артуру? Может, мне к нему и надо было пойти? Если я был…
Он вдруг замолчал. Весь его план зашатался при мысли, что надо было в самом деле спросить Артура и что он разыграл дурака. Руфь ответила не сразу. Она была поглощена тем, что пыталась связать воедино его нескладную речь и примитивные мысли с тем, что она читала в его глазах. Она никогда не видела глаз, в которых отражалась бы такая несокрушимая сила. Этот человек все может, – вот о чем говорил ей его взгляд, и это плохо вязалось с его словесной беспомощностью. К тому же ее собственный ум был так изощрен и сложен, что она не умела по-настоящему оценить простоту и непосредственность. И все же даже в этом косноязычии мысли угадывалась сила. Мартин представлялся ей великаном, силящимся сорвать с себя оковы. Ее лицо дышало лаской, когда она заговорила.
– Вы сами знаете, чего вам не хватает, – сказала она, – вам не хватает образования. Вам бы следовало начать сначала – кончить школу, а потом пройти курс в университете.
– Для этого нужны деньги, – прервал он ее.
– О, – воскликнула она, – я не подумала об этом! Но разве никто из ваших родных не мог бы поддержать вас?
Он отрицательно покачал головой.
– Отец и мать мои умерли. У меня две сестры: одна замужняя, другая, вероятно, скоро выйдет замуж. Братьев целая куча, я младший, – но они никому никогда не помогали. И все давно уже разбрелись по миру искать счастья, каждый сам по себе. Старший умер в Индии. Двое сейчас в Южной Африке, один плавает на китобойном судне, а второй разъезжает с бродячим цирком – он акробат на трапеции. Вот и я такой же. С одиннадцати лет я сам себя содержу, с тех пор как умерла мать. Так что придется мне и тут самому доходить до всего. Я только хочу знать, с чего начать.
– Вам, во-первых, надо бы заняться языком. Вы иногда выражаетесь (она хотела сказать «ужасно», но удержалась) не совсем правильно.
Лоб его покрылся испариной.
– Я знаю, что иногда отпускаю такие словечки, которых вам не понять. Но эти-то я хоть знаю, как выговаривать. Я держу в голове кое-какие слова из книг, но я не знаю, как они произносятся, потому-то и не говорю их.
– Дело тут не только в словах, а в общем строе речи. Можно говорить с вами откровенно? Вы не обидитесь на меня?
– Нет, нет! – воскликнул он, благословляя в душе ее доброту. – Жарьте! Уж лучше мне узнать все это от вас, чем от кого-нибудь другого!
– Так вот. Все, что нужно, вы найдете в грамматике. Я многое отметила в вашем разговоре, от чего вам надо отвыкать. А грамматику я вам сейчас принесу.
Когда Руфь встала, Мартину вспомнилось одно правило из книги об этикете, и он неуклюже поднялся со своего места, но тут же испугался – не подумала бы она, что он собирается уходить.
Руфь принесла грамматику и придвинула свой стул к его стулу, причем Мартин подумал, что, вероятно, нужно было помочь его придвинуть. Она раскрыла книгу, и головы их сблизились. Ему трудно было следить за ее объяснениями – так волновала его эта близость. Но когда она начала объяснять тайны спряжений, он забыл все на свете. Он никогда не слыхал о спряжениях, и это первое проникновение в таинственные законы речи заворожило его. Он ниже пригнулся к книге, и вдруг ее волосы коснулись его щеки.
Мартин Иден только один раз в жизни терял сознание, но тут он подумал, что сейчас это случится снова. Дыхание захватило у него в груди, а сердце забилось так сильно, что, казалось, вот-вот выскочит. Никогда она не казалась ему столь доступной. На одно мгновение через бездну, их разделявшую, был перекинут мост. Но его чувства не стали от этого менее возвышенными. Она не опустилась до него. Это он поднялся за облака и приблизился к ней. Его любовь, как и прежде, была полна религиозного благоговения. Ему почудилось, что он вторгся в святая святых некоего храма, и он осторожно отвел голову, чтобы избежать этого прикосновения, действовавшего на него, как электрический заряд. Но Руфь ничего не заметила.
Глава 8
Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, проглядывал руководства по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из «Лотоса» не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами, а многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основы языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать метры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Одни новейший трактат рассматривал поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый двадцатилетний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и быстротой, несвойственной рядовым студентам.
Когда Мартин оглядывался на известный ему мир – на мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и мужеподобных женщин, – этот мир представлялся ему очень маленьким; и все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его всегда стремился к единству; однако он сначала все же был удивлен, когда установил связь этих двух миров. Он воспарил над старым миром благодаря возвышенным мыслям и чувствам, почерпнутым из книг. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, к которому принадлежат Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины разделяют этот возвышенный образ мыслей и живут согласно ему. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности что-то смутное томило и волновало его, но он никогда не понимал, что ему нужно, пока не встретил Руфи. И теперь его томление сделалось острым и болезненным, он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви.
За эти недели он раз шесть встречался с Руфью, и каждый раз свидание с ней вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком пытлив, чтобы удовлетвориться дробями, кубическими корнями, разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем, – они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. В этом голосе были спокойствие и музыкальность – великие, богатые плоды культуры и духовного благородства. Слушая ее, он невольно вспоминал крикливые голоса женщин диких племен и портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц. Тотчас же его воображение начинало работать, он видел целые вереницы этих женщин, и по сравнению с ними ореол чистоты, окружающей Руфь, сверкал еще более ослепительно. Но он не только любил слушать ее голос, ему бесконечно приятна была мысль, что Руфь понимает читаемое и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах, – так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всепроникновения; глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самоё жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь и что любовь – самое великое в мире. И перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда, – опьянения, ласки женщин, игра, задор физической борьбы, – и все это казались невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь.
Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где события обыденной жизни всегда претворялась в нечто нереальное и прекрасное; ей не приходило в голову, что этот грубый матрос завладевает ее сердцем, и что в один прекрасный день назревающее в ней чувство разольется по всему ее существу огненными волнами. Она не знала, каково пламя любви на самом деле. Все ее представления были исключительно теоретическими и самое слово «любовь» вызывало в ней образы кроткого сияния звезд, легкой зыби на спокойной поверхности моря, легкой росы на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в прохладной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических порывах любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой; глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери была для нее идеалом любовного единения, и она спокойно ждала, где-то в будущем, дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такое же мирное сосуществование с любимым человеком.
Таким образом, на Мартина Идена она смотрела, как на новинку, как на странное, исключительное существо, и этой новизне приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Такие же чувства испытывала она, когда смотрела в зверинце на диких зверей или когда видела бурю и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях, и было, несомненно, что-то космическое и в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он весь был в рубцах и шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределом ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и ей льстила мысль, что он ей так покорен. Ею руководило желание приручить дикаря – и только. Желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что ей хочется сделать из него подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять и того, что то космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга и все живое побуждает стремиться к соединению.
Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она открывала в его душе такие стороны, о которых не могла и подозревать, и они раскрывались день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Броунинга и бывала иногда поражена его неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Его рассуждения казались ей наивными, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносивший его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какою-то непонятной силой. Потом она играла ему, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам музыки, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам; он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки джазов и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру, и увертюра к «Тангейзеру», особенно после объяснений Руфи, ему нравилась больше всего. Увертюра эта как бы являлась прообразом его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в теме Венерина грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов; и казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу.
Иногда он задавал вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В пении он слушал только ее самое и сидел неподвижно. И снова ему вспоминались при этом визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности она в первый раз имела дело с живой человеческой душой, и такой податливой и гибкой, что ей доставляло наслаждение формировать ее; Руфи казалось, что она лепит душу Мартина, и она делала это с самыми лучшими намерениями. А кроме всего, ей доставляло удовольствие находиться в его обществе. Он больше не пугал ее. Сначала он действительно вызвал смутный страх в ее потревоженной душе, но теперь этот страх улегся. Она, сама того не подозревая, уже чувствовала какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много занималась в университете, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да, ей нужна была сила, и он великодушно делился с него. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях – уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией.
Руфь прекрасно знала Броунинга, но она никогда не думала, что игра с человеческой душой так опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь.
– Вот возьмите мистера Батлера, – сказала она однажды, когда и с грамматикой, и с арифметикой, и с поэзией было покончено, – ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, прохворав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне, так что мистер Батлер – его зовут Чарльз Батлер – остался совершенно один. Его отец по происхождению австралиец, и у него нет в Калифорнии родственников. Он поступил в типографию, – он мне несколько раз об этом рассказывал, – и на первых порах зарабатывал три доллара в неделю. А теперь он зарабатывает до тридцати тысяч в год. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю, ценой любых лишений. Конечно, он стал скоро зарабатывать больше трех долларов, и по мере того как увеличивались его доходы, увеличивались и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. Семнадцати лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалованье, но он был честолюбив. Он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца – подумайте! – рассыльным на четыре доллара в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих четырех долларов ухитрялся откладывать.
Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. Его лицо оживилось интересом к судьбе мистера Батлера, но брови были слегка нахмурены.
– Верно, туговато ему приходилось, – сказал он. – Четыре доллара в неделю! С этого не разгуляешься. Я вот плачу пять долларов в неделю за квартиру и стол и, ей-богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть…
– Он сам себе готовил на керосинке, – прервала она его.
– Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах, а это уж значит – хуже нельзя.
– Но подумайте, чего он достиг теперь! – вскричала она с воодушевлением. – Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности!
Мартин посмотрел на нее сурово.
– А вы знаете, что я вам скажу, – возразил он. – Едва ли вашему мистеру Батлеру так уже весело жить теперь. Он так плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к чёрту не годится.
Она отвела глаза, не выдержав его взгляда.
– Пари держу, что у него катар.
– Да, – согласилась она, – но…
– И наверное, – продолжал Мартин, – он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его тридцати тысяч. И наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?