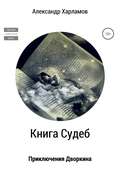Александр Харламов
Высшая мера
На крыльце нашего барака было пусто. Именно так…Именно нашего…Я и не заметил, как свыкся с этой мыслью за последние несколько дней, что находился в лагере. И если в первые сутки это дощатое строение показалось мне чужеродным, холодным и неприветливым, то сегодня тусклый свет керосиновой лампадки в стеновых щелях обрадовал меня и манил своим обманчивым теплом и неким подобием уюта. Человек – странное существо. Он привыкает, приспосабливается ко всему. Наверное, поэтому ему удалось дальше всех шагнуть по лестнице эволюции, превратившись в нечто разумное.
Легко взбежав по ступенькам, я распахнул с трудом покосившуюся дверь, влажную изнутри и покрытую крепкой толстой коркой льда снаружи, осыпав целую лавину налипшего снега себе под ноги. В лицо ударил слабый душок тепла, идущего от буржуйки в воровском углу и стойкий запах горелого керосина. Его выделяли на сутки чуть больше капли. Топливо старались экономить, поэтому топили лампу лишь к вечеру, пока не вернулись с работ, потом длинное вытянутое помещение будет освещать лишь огонь из приоткрытой топки буржуйки, но даже этот робкий, еле заметный огонек давал знакомое ощущение одомашненности, какого-то уюта, которого так не хватало в среде суровых гулаговских лагерей.
Игнорируя вопросительные взгляды дежурного, оставленного на протопку в бараке, я запрыгнул на свои нары, слегка поморщившись от прорезавшей запястье боли. Все же острое лезвие финки вора задело, видимо, что-то важное, не позволяющее в полной мере работать рукой. В медпункт обратиться что ли? Мысль о врачебной помощи вернула меня к Валентине…Как она там? Что делает? Работает еще? Или бредет домой? Может стоило дождаться ее возле медпункта и проводить? Нет…Соглядатаев на зоне полно, ей разговоры лишние не нужны, не дай Бог, дойдет до Коноваленко. Воспоминание о бывшем начальнике харьковского управления не вызвало ожидаемой волны ревности, лишь злость и обиду, что именно из-за него, они втроем оказались в ТемЛаге. А из-за него ли? Или из-за собственной глупости? Можно же было бы просто поговорить с ним, объяснить все…Понял ли бы он все тогда? Вряд ли…Если уж не понял сейчас, оказавшись на краю цивилизации, во глубине лесов, засыпанных по самые верхушки елей снегом.
Отогреться не выходило. Дрова экономили тоже. Все знал, что после адского трудового дня, каждый из сидельцев тащит на себе по ветке, чтобы не околеть ночью в сорокоградусный мороз, каждый старается выжить.
Замерзшие налипшие на телогрейку снежные хлопья, попав в относительно теплое помещение начали таять. Вниз закапало, как с сопливого водопровода. Раздеваться не хотелось. Я поджал колени поближе к груди, стараясь сложиться в комочек, греясь теплом собственного тела.
– С рукой что?– скосился дежурный по бараку на мою кисть, замотанную платком в красных пятнах. Это был мужичок из банды Федора, простой работяга, попавший в Темлаг из-за какой-то глупости. Сколько их таких сломала система? Миллион, два? А много ли их вернется к своим семьям, к своим полям?
– Шальная пуля…– усмехнулся я, поворачиваясь спиной к проходу, давая понять, что обсуждать что-то не желаю.
– Как знаешь…– он приоткрыл топку и пошевелил там еле тлеющие угли, не давая им погаснуть, мгновенно вспыхнувшие сотнями светлячков.
– Давай шевелись, быдло!– раздался на крыльце визгливый голос Щеголев. Кто-то ойкнул от боли. Дверь распахнулась и в барак влетел, спотыкаясь от хорошего пинка, один из сидельцев. Бревно, которое он нес в руках полетело куда-то под нары, а сам он рухнул на земляной пол, ударившись лицом о край стола.– Шевелись, я сказал!– следом появился Василь Васильевич, залепленный снегом так, что из-под снежной маски виднелись только злобные узкие сумасшедшие глаза.– Не намерзлись за день, твари? Шевелись, кому говорю! Иначе еще три часа строевой на плацу вам устрою…
Торопливо гремя околевшими кирзачами, один за другим в барак забегали мои сокамерники. До узкой, будто игрушечной печки, сбросили принесенные дрова, потом к своим нарам. У нар застывали, словно восковые фигуры, ожидая финальной вечерней поверки.
Кряхтя, я спрыгнул вниз, чувствуя, как неприятно чвакнуло в промокшем сапоге.
– Клименко!– рявкнул Щеголев, досмотрев меня в полумраке барака.– Доложить о прохождении медосмотра!
– Осужденный Клименко, 1917 года рождения, статья 58 часть б, срок десять лет без права переписки!– охрипшим голосом проговорил я заученную формулу наизусть.– Медосмотр пройден, замечаний нет! Готов приступать к работе.
– А это?– кивнул на разрезанную руку Василь Васильевич, мгновенно заметив неладное.
– Сержант Головко пояснит,– не стал я вдаваться в подробности, ища глазами своих товарищей Льва Данилыча и отца Григория.
– Ну ладно,– поморщился Щеголев,– все на местах?
Предпоследним в барак тяжело дыша забрел красный, как рак, наш батюшка. В руках у него ничего не было. Полы рясы промокли и висели тяжелым кулем у ног. Он то и дело хватался за сердце, открытым ртом ловя воздух. Ни по нем были такие марш-броски, ни для него тяжелый мужицкий труд. Позади него, подталкивая товарища в спину, зашел Качинский, бледный, кажется, еще более похудевший, чем был, но с все тем же озорным блеском в глазах.
– Теперь все…– удовлетворенно кивнул Щеголев, смахивая с плеча налипший снег.– Что я вам могу сказать, твари? Херов работаете, бывшие кулаки и господа…Херово! Так мы с вами и к следующей пятилетке недельную норму не выполним. А значит что?– он прошелся вдоль строя, закинув руки за спину.– А значит надо что-то с этим делать…Вас наш самый гуманный советский суд простил, дал возможность исправиться, а не расстрелял, как последнею падаль…Верно?– остановился Щеголев напротив Качинского, уперев ему свой тяжелый взгляд узких мышиных глаз куда-то в переносицу.– Верно…– так и не дождавшись ответа от бывшего офицера, он двинулся дальше вдоль строя.– А потому, вы не имеете права морального этот самый народ подвести! Вот, что я вам скажу, быдло нечесанное! Как нам быть? Спросите вы меня…человека, которого собственно и поставили для того здесь, чтобы сделать из вас настоящих людей! Все очень просто…Если не получается выполнять норму в рабочий день, то его надо увеличить!
По строю заключенных пронесся вздох разочарования. Мы подспудно думали, что Щеголев готовит какую-то гадость, но то, чего додумался его извращенный садисткий мозг, стало для нас настоящим открытием.
– Завтра…– он взглянул на часы.– Подъем переносится на четыре утра! Да…Вы останетесь без завтрака, но, послушайте…– снова вернулся он к Качинскому.– Хватит уже! Пора забывать свои барские замашки. Время у нас теперь другое! Новое время! А вы все о булочке с кофием мечтаете…Не для того мы революцию делали, чтобы вы тут барствовали! Да?– улыбнулся он Льву Данилычу, похлопав его по плечу.– По шконкам, твари!– неожиданно рявкнул он, мгновенно изменившись в лице, будто судорога пробежала по его пухлым щекам.– И попробуйте мне завтра норму не выполнить! Вообще с вырубки уходить не будете!
Громко топая хромовыми сапогами, он быстро вышел из барака, оставив после себя ощущение чего-то мерзкого, гнилого. Стали разбредаться кто куда. День казался здесь нескончаемым. И хотя темнело рано, а рассветало поздно, как в любой неволе, минуты и часы тянулись удивительно долго. Истопник прямо сырыми дровами стал набивать плохо прогретую печь. Задымило до рези в глазах, запахло копченным дымком. Мы втроем уселись на шконке отца Григория, еле стоявшего на ногах.
– Ну и сука нам досталась,– выругался Качинский, чем меня несказанно удивил. Надо же, воспитанный человек, интеллигент, бывший офицер, а ругается, как последний дворник. Видимо, долгое скитание по лагерям дает о себе знать, даже на таких, казалось бы железных людях, как Лев Данилыч,– на чужом х..ю хочет в рай выехать, сука!– процедил он, дуя на обмороженные пальцы.– Мы ему сегодня не только дневную, годовую норму сделали, а ему все мало…Трудовому народу…Обязаны…Да чхать трудовому народу на нас и нашу работу!– сплюнул Качинский.– Довели страну до ручки!Народу, там на воле сейчас нужно одно, чтобы пришли не за ним, а за соседом! Чтобы норму выполнять не здесь за бесплатно, а там за копейки, которые платят лишь для того, чтобы ты мог выжить.
– Лев Данилыч…– попытался поспорить я с ним.
– Заткнись, Саша!– неожиданно грубо ответил он.– Заткнись за своей кремлевской пропагандой! Иначе я тебя придушу сейчас вот этим окоченевшими от холода пальцами. Посмотри на батюшку! Что с ним? Старика чуть до инфаркта не довели! Об этом мечтали, когда делали революцию? Этого блага хотели для народа? Ладно, я старый контрик, а вы? Ты комсомолец, чекист без страха и упрека…Или Федька, севший за мешок пшеницы, которую украл с колхозного амбара, чтобы дети с голоду не опухли. Что вы здесь делаете в этом аду? А? Такого будущего вы хотели для своих детей? Монархия им мешала? Да при монархии вы бы жили припеваючи где-нибудь в Сибирском поселке, драли местных крестьянок и жрали самогон от пуза. А здесь?
– Лев…– начал было я.
– Что Лев? Мы стали жить в стране, где человеческая жизнь стала разменной монетой, а люди стали быдлом, с мнением которого не стоит и считаться! Разве не так?
– Я…
– Ты!– упер он мне в лоб свой мозолистый палец.– ты и такие же как ты, верят в эту идеологию, пока не попадут в такой маленький импровизированный ад, как тот, в котором находимся мы. И лишь после этого к вам приходит осознание того, что именно вы натворили в семнадцатом году.
– Баланду принесли!– закричали из-за двери. Это-то и спасло меня от вопроса, на который у меня не было ответа. Еще всего лишь год назад я б с уверенностью поспорил бы с Качинским. Да что там! Я бы и руки ему бы не подал. Но посмотрев на систему изнутри, я вдруг понял, что теперь, пройдя все круги ада, даже мне все мои аргументы кажутся смешными и нелепыми.
– Налетай, братва!– подручные Кислого первыми гордо продефилировали к двери. Им по статусу было положено первым снимать пробу с блюд. О каком равенстве может идти речь, если даже здесь, в лагере, люди были разделены ступенями строгой иерархической лестницы?
– Что сегодня на ужин?
– Говорят свежего поросенка запекли?
– Щеголев лично постарался!– усталость многих, как рукой сняло. Вялые после долгого трудового дня люди зашевелились, заговорили, даже где-то послышались смешки.
– Опять луковый суп!
– Это там где вместо лука луковая водица?
Я молча схватил свою миску, став безропотно в очередь, захватив между делом и плошку отца Григория, все еще не отошедшего от работы.
– Поспеши, братва, всем может не хватить! Уж больно вкусным супец-то вышел! Наваристый!
Один из зэков бодро разливал по тарелкам жидкую баланду. Посмеяться было с чего. Давно остывший, покрытой какой-то мутной пленкой, суп мало напоминал суп. Среди бледно-желтой водицы плавали одинокие три кусочка лука и картофельные очистки.
– А хлеб?
– Хлеб трудящимся положен!– отозвались в очереди.– А Щеголев сказал, что поработали мы сегодня херово…
Я дождался пока и мне плеснули половник мутной жизни в обе плошки. Недовольный Качинский топтался позади, старательно отводя взгляд. Ему было стыдно за ту вспышку гнева, которая случилась пару минут назад. Я это чувствовал и лезть не стал. Переночует со своими мыслями наедине, сам заговорит.
– Давай шустрей,– подогнали меня из очереди,– желудок от голода сводит.
Стараясь не расплескать и без того малую часть супа, которую выделили нам на двоих с отцом Григорием, я медленно прошел к нарам. Следом с серьезным видом шагал Качинский. Молча подал еду батюшке и сел рядом на краешек нар, выудив ложку из кармана телогрейки. Здесь ее всегда старались носить с собой. Ложка в лагере было неким ценным артефактом, за которым охотилось охочее на поживу ворье. Из ложки можно было заточить нож, ею можно поделиться с другом, а значит тот кто имел больше одной автоматически переходил в разряд местных аристократов. Это была своего рода психология. Никто не хотел унизить себя до такой степени, чтобы лакать из миски, бдто какой-то пес. Их и без того тут за людей не считали, еще не хватало самому опускаться до этого уровня. Потому ложки берегли, старались либо носить с собой, либо прятать в таком месте, в котором шустрое ворье их найти не могло. Лично я носил ее с собой.
– Да…– промолвил я, зачерпывая мутную жижу и выливая ее обратно. Вместо лука желтые, почерневшие от сырости очистки, прибитые морозом, вместо картофеля крахмал и очистки. Запах стоял отвратный.
– Спаси Господи!– широко перекрестился отец Григорий, прихлебывая отвратное варево.– Конечно, не кутья, но есть можно! Благодарите Всевышнего за то, что подарил нам возможность хоть как-то питаться…
Я с сомнением воспринял это утверждение, но всего же заставил себя проглотить эту мерзость, ничего не ощутив кроме неприятного холодка, скатившегося в пищевод тугим комком, который настойчиво не хотел растворяться где-то внутри, норовя поползти обратно, то и дело подкатывая к горлу. Обернулся на Качинского, который довольно шустро наворачивал ложкой, цокая звонко уже о дно тарелке. И это было, пожалуй, самое удивительное. Потомственный дворянин, граф или барон, кто он был, ловко управлялся с почти что помоями, закидывая их за обе щеки, да еще и причмокивая от удовольствия.
– Что смотришь?– заметил он мое удивление.– Странно, да?
Я кивнул.
– Я в четырнадцатом в окопах не такую гадость умудрялся есть! Организму надо питаться, чтобы двигаться. Двигаться надо, чтобы жить! Арифметика проста, чем больше ты поел, какой бы дрянной пища не была, тем больше ты протянешь. А раз тут , более приемлимой пищи не предвидится, то следует пользоваться тем, что есть…
– Эх други мои…– вздохнул отче, оставляя пустую посуду в изголовье нар.– Знал бы я вас раньше…Как моя матушка готовила…Какие рыбные дни у нас были! Котлетки из омуля выходили у моей Марфы Васильевны просто объедение. Вот бы пригласил бы вас на обед, да попотчевал, как следует, в миг забыли бы об этом всем кошмаре…– он обвел барак рукой, будто разом хотел изгнать всех отсюда, переместившись в свой уютный домик при поместной церкви, где в печурке трещат дрова, а счастливая Марфа Васильевна накрывает на стол, суетясь вокруг.
– Ничего, отче,– улыбнулся Качинский, похлопав священника по плечу,– лет через десяток может и покормишь. И Марфа твоя стол нам такой накроет, какой свет не видывал!
Отец Григорий неожиданно всхлипнул и отвернулся, пряча скатившиеся по небритым щекам слезинки.
–Ты чего?– нахмурился я.– Десять лет не такой большой срок. Дни пролетят и не заметишь.
– Не выйдет, ребятушки у нас обеда у Марфы Васильевны моей…Не выйдет…– плечи взрослого мужика вздрагивали в такт прерывистым рыданиям взахлеб.
– Братва, а поп наш ревет!– донеслось с соседних нар.
– Пошел вон!– рявкнул я, придвигаясь к отче, обнимая того за плечи.
– Да брось, Григорий Иваныч…Десять лет…
– Нет больше моей Марфы Васильевны…Прибрал Господь к себе…
Мы с Качинским переглянулись. Он мгновенно спрыгнул сверху, занимая место рядом. Нельзя было дать сломаться человеку! Только услышишь хруст, спасай! Тут надломленным места нет, не сдюжат местных условий.
– Уже не верю я ни в Бога, ни в черта отче,– начал Лев Данилыч,– жизнь отучила, но если там,– он указал на потолок нашего разваленного сарая-барака,– что-то и есть, уверен, что ей лучше, чем нам тут…
– Они приехали ночью…Мы уже спали! – отец Григорий повернулся к нам заплаканным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Только сейчас я заметил, что он намного старше выглядит, чем есть на самом деле.– Дверь была закрыта. Они тарабанили в нее, пока я не встал. Пятеро в форме, молодые, подтянутые…Как ты,– он указал на меня. И от чего-то в этот момент мне стало жутко от такого сравнения, что-то было в голосе отца Григория такое, что заставило по спине пробежать ледяному холодку.– Начался обыск. Весь дом перевернули вверх дом, а мою…мою Марфу…Ее впятером, поочереди, у меня на глазах…Как бесы! А я ничего не мог сделать. Только выть, по-волчьи выть…Не знаю сколько длился этот кошмар! Час, два…Я все помню, как в тумане! Когда меня уводили, она все еще лежала нагая в коридоре и только ногами с трудом шевелила и стонала, тихо так…протяжно…
– Ой…ой…ой…– он по-бабьи прикрыл рот ладошкой, чтобы снова не завыть, как в тот страшный вечер. Слезы градом катились по его щекам, и он не мог, не хотел их останавливать. И от этого становилось жутко. Мы с Качинским молчали, чувствуя себя неуютно.
– А потом на следствии, мне сказали, что она умерла в ту ночь, а двух девчонок наших Наташку с Ольгой в приют для детей врагов народа, как щенят отдали…Не приготовит Марфуша нам рыбки больше…
Я готов был провалиться в этот момент сквозь землю. Я понимал, что все люди разные, что на местах часто бывают в нашей системе перегибы, что сволочей везде хватает, но все слова отца Григория жутким упреком хлестанули по моему сердцу, словно кнутом. Да что же это за день-то такой, сначала Качинский, потом отче…
– В раю она, Гриш, в раю мученницей попала…– выдавил из себя Лев Данилыч, сжимая кулаки, словно готов был в этот момент оторвать головы этой солдатне, сотворившей такой кошмар над беззащитной женщиной.
– Нет ее просто…Нет, Лёва! – вытер слезы отец Григорий.– Я сегодня только осознал, что нет её и рая нет, и Его нет!– он махнул рукой на потолок, словно снимая паутину.– Разве ж, если б он был, до допустил такое с моей Марфушей? Разве смог смотреть на такое спокойно…– отче кивнул на мою полупустую миску.– Как бесы издеваются над нами! Дал бы им волю превратить нас в бессловесное стадо? Не дал бы…А раз так, то нет Его боле, и служение мое бессмысленно Ему.
Он пошевелился и через голову снял мокрую рясу. Бросил на пол, оставшись в одном грязном исподнем.
– Нет больше веры на земле русской! Продали мы ее…– одним движением он выпростал из отворота рубашки крестик на веревке и рванул, что есть силы вниз, оставляя на белой от мороза шее красный тонкий рубец.– Нет ее!– и отбросил его куда-то в угол, глубоко разрыдавшись.
Наступила такая оглушительная тишина, что даже дружки Кислого в своем углу притихли. Барак был маленький, и все невольно стали свидетелями нашего разговора. Я обернулся, удивившись задумчивым лицам сокамерников. Каждый в этот момент думал о своем, о несправедливости, о времени больших перемен, в котором мы живем, о системе, которую не сломать. О жизни, которая за этой колючей проволокой, стала не дороже выброшенного отцом Григорием дешевого медного крестика.
– Ну-ка пропусти!
– Мотя, не положено! Щеголь меня убьет!– прервал тишину чей-то разговор доносившийся из-за двери.
– Седой раньше убьет, если долг карточный не вернешь!– коротко обрубили любые возражения за дверью, которая тут же распахнулась и на пороге появился небольшого роста вор в яловых сапогах и расшитой рубахе косоворотке под новенькой телогрейкой. Позади него топтался наш вертухай – лопоухий юнец, восемнадцати лет отроду, прозванного за тонкую талию и визглявый по-женски голосок спицей.
Вор осмотрел барак, ища кого-то глазами. Раз,другой, третий, пока не остановился на мне. Улыбнулся, блеснув в нашем полумраке золотыми фиксами, и уточнил:
– Ты Чекист будешь?
В тот момент я даже был рад тому обстоятельству, что выйду из нашего барака, уж слишком тяжким грузом на меня легло бремя ответа за грехи организации, в которой раньше служил.
– Я!
– Семечку ты в обед поломал?– поморщился Мотя, как от зубной боли.
– Он первый с ножом кинулся,– пожал плечами я, чувствуя, как неприятный холодок страха закрадывается в мое сердце.
– Это Седому расскажешь! Семечка тебе предъяву кинул, ответить придется…Идем!
И не дожидаясь моего согласия, вор двинулся прочь, отодвинув широким плечом ноющего позади Спицу:
– Мотя, куда пойдем? А если Щеголь с проверкой нагрянет? Ночью любые передвижения по лагерю запрещены. Да он меня в ШИЗО сгноит!
Но вору было глубоко плевать, не обращая внимания на стенания вертухая, он по-кошачьи мягко ступал по мокрому свежему снегу, уходя куда-то вглубь лагеря. Там где находился административный корпус. Пожав плечами, я двинулся за ним, расслышав за спиной голос одной из шестерок Кислого:
– Допрыгался Чекист! За вора его на перо посадят в раз!
– Заткнись!– рявкнул Качинский, но дальнейшего я уже не разобрал. Спица закрыл за мной дверь в барак и отчаянно зашептал на ухо:
– Ты только побыстрее, если что…А? Щеголь придет, мне головы не сносить, а мне до дембеля три недели осталось!
Что мне было ему ответить? Что сам не знаю вернусь или нет? Или пообещать, что все же вернусь?
Я промолчал и чуть ускорил шаг, чтобы побыстрее догнать ушедшего уже далеко вперед Мотю. Тот шел, не оглядываясь, уверенный, что я следую за ним попятам.
Мы шли, абсолютно не скрываясь, по главному проулку ТемЛага. С вышек за нами наблюдали вертухаи, посты безопасности провожали нас долгим внимательным взглядом, одни сочувствующим, другие насмешливым, но не один из них не попробовал нас остановить или окликнуть. В который раз я убедился, что власть воров в местах не столь отдаленных намного сильнее, чем власть администрации.
Отбой уже прошел. После десяти часов любые передвижения по лагерю запрещены. За нарушение расстрел на месте, а тут…Мотя вел меня куда-то вглубь административных зданий, с некоторыми вертухаями даже здороваясь. Прошли мимо медпункта, архива, нескольких столовых для комсостава и свернули за высокий двухэтажный сруб котельной.
Здесь я еще побывать не успел. Почерневшее от копоти крыльцо, забитые фанерой окна и прогуливающийся зэк на входе встретили нас у здания котельной.
– Все тихо?– уточнил Мотя, кивнув часовому. Именно так я понял его функцию.
– Как в аптеке…Или в морге!– хохотнул паренек, которому от силы можно было дать лет двадцать. Окинул меня подозрительным взглядом, но не задал не единого вопроса. Пропустил нас, распахнув дверь перед Мотей дверь. Что уж говорить, люди Седого, в отличии от местных вертухаев, были вышколены на совесть, хоть и в армии никогда не служили.
– Отвечать коротко и по существу,– обернулся ко мне в предбаннике Мотя, блеснув в полумраке золотыми фиксами,– не спорить, ближе чем на три шага не приближаться. Ну и не начуди, очень тебя прошу, Чекист. Там народа очень много успеем спеленать и…сам понимаешь! Шансов никаких.
Я кивнул, внутренне собираясь. Рука ныла, но в принципе жить захочешь, можно и ей помахаться. А насчет шансов…Тут Мотя не прав. Шанс есть всегда! Посчитаем, осмотримся, а там и посмотрим у кого не шансов. Я не боялся. Терять мне было уже нечего…Оставалось только дорого продать свою жизнь в случае чего…
В лицо ударило тепло. После легкого вечернего морозца оно стало почти обжигающим. Тут дрова не экономили. В углу комнаты расположился огромный котел с целой системой датчиков давления, раскаленный почти до красна. Рядом с ним высокая гора угля с воткнутой в нее совковой лопатой. На столе керосиновая лампа чадит, отпуская причудливые тени по выбеленным стенам комнаты. У приоткрытой дверцы котла на корточках в накинутой на голое тело фуфайке огромного роста зэк ворочает кочергой горящие угли. За столом, накрытом для позднего ужина худощавый старик с серыми, будто седыми глазами. Его жилистые тонкие руки сплошь усыпаны синими гроздьями татуировок разных размеров и форм. Рядом с ним, баюкая ушибленную мной руку, сидел Семечка, морщась от каждого неловкого движения.
От запаха печеной картошки свело желудок. Вечно голодный он одобрительно заурчал, чувствуя запах человеческой пищи. С трудом я проглотил накативший комок.
– Привёл…– доложил Мотя, отходя мне за спину Вроде как случайно, но таким макаром, чтобы я не смог ломануться в двери.
Седой спокойно достал из голенища сапога наборной финский нож и ловко порезал огромную картофелину на три равных части. Освободившись от плотной кожуры, она задымила, все больше распаляя мне аппетит.
– Чуть не допёк!– неодобрительно покачал головой вор, забрасывая в рот картошку.
– Дольше подержишь, спалим!– пожал плечами тот, что сидел у приоткрытой дверцы котла.– Температура, вон какая!
– И то в цвет! – согласился Седой, поворачиваясь неспешно ко мне.– Ну что скажешь, фраерок? Ты по что Семечку на больничку отправил? Он пришел ко мне правду искать! Говорит иду по дорожке, никого не трогаю…А тут, дай закурить, на гоп-стоп по беспределу, только и помнит, как по сусалам отхватывал! А беспредела у меня в лагере я не допущу!
– А что же он правду пошел искать не к «хозяину»?– улыбнулся я через силу. Хотя понимал, чо хожу по лезвию ножа и в любой момент могу с него соскользнуть.
– Ты мне тут не шуткуй! Ты человека покалечил по беспределу. Он предъявляет тебе. Жизнь твою требует взамен! А ты шутки шутишь…– повысил голос Седой. Незаметно, еле слышно Мотя позади меня придвинулся поближе. Его дыхание я уже чувствовал у себя за плечом. И правда, никаких шансов…
– Я, конечно, в ваших делах не спец…Но как-то по-детски это выглядит, не по-пацански, уж извините. Я ему морду набил, а он жаловаться старшему прибежал, помогите, защитите, беспредел твориться… Был бы мужиком, сам бы разбираться стал, пусть даже, когда руку залечит.
Наступила тишина. Седой внимательно смотрел мне в глаза, ничего не отвечая на мою гневную тираду. От его взгляда мурашки не то, что побежали по спине, а ноги подкосились от страха. Харизматичный был мужик, что не говори…А потом он вдруг совершенно искренне рассмеялся, снимая повисшее в воздухе напряжения. Хлопнул довольно по плечу сидящего рядом Семечку, заставив того болезненно поморщиться и радостно сообщил:
– Я говорил, что у него очко не сыграет, Малина? А ты ссыкнет, ссыкнет…
Огромный увалень, пекущий картошку, молчаливо пожал плечами, продолжив выуживать из углей ароматно дымящиеся картофелины.
– Не зря Семечка на больничку загремел! Не зря…Присаживайся, Чекист, побазарить надо!– пригласил Седой меня к столу, пододвигая нарезанную ломтями картошку. От близости еды свело желудок, но я мужественно терпел, не желая быть чем-то должным ворам.
– Ты уже понял, наверное, что все это была подстава?– уточнил Седой, когда я присел напротив него на колченогий грубо сколоченный табурет. Мотя облегченно выдохнул, выходя из-за моей спины, присаживаясь рядом с Малиной к котлу, грея озябшие руки с мороза. Только сейчас я заметил, что в руках вора была тонкая, как игла заточка, которой он в любой момент мог мне продырявить спину пока стоял позади, если бы что-то пошло не так.
– Догадывался…– кивнул , стараясь отвлечься хоть немного от запаха картошки.
– Теперь бьешь голову, зачем нам вся постанова была нужна?– понятливо усмехнулся Седой.– Ответ простой, Чекист…Проверка эта была на вшивость. Сыграет у тебя очко перед опасностью или нет, фартовый ты фраер, хоть и мусор или так…Понты колотишь!
– Зачем? Неужели в воры меня решили короновать?– чуть успокоившись, съязвил я.
– Шутник!– одобрительно кивнул Мотя.
– Короновать? – рассмеялся счастливо Седой.– За то, что по мордасам Семечке съездил? Не велик подвиг, скажем прямо. Он у нас щипач, к драке совсем не приучен, так что особо нос-то не задирай! Дело в другом…
Я промолчал, ожидая продолжения. Излишнее любопытство здесь не ценят. Придет время сами все расскажут.
– На свободу хочешь?– неожиданно резко спросил Седой, переходя с игриво-доброжелательного тона на серьезный.
– Кто ж не хочет?– пожал я плечами, уже просчитав куда клонит вор.
– Вот и мы хотим! Есть у нас план, как срок себе скостить, да только профиль у нас неподходящий, опыта в таких делах маловато, а ты парень боевой, с образованием военным, разбираешься в таких вещах…Подскажешь, как лучше сработать, чтобы все в цвет прошло.
– За это мы тебя с собой возьмем,– улыбнулся Мотя,– а как с тайги выберемся, так ты налево, мы направо и все довольны! Как ты на это смотришь?
Что и сказать…предложение было довольно заманчивым! Десять лет казались теперь нескончаемо длинным сроком, а при нынешнем каторжном труде, даже с моим молодым организмом, еще пока не до конца истощенным, я не выдержу и его половины. Но что-то меня останавливало. Может то, что побег мне предлагали именно воры, которым верить априори было нельзя, а может во мне говорил все еще недобитый Качинским и отцом Григорием чекист? Не знаю…
– Надо подумать,– выдавил я из себя, понимая, что этой фразой, возможно, подписываю себе смертный приговор.
– Чего тут думать?!– возмутился Мотя.– Когти рвать отсюда надо и вся делов!
– Говорил же ссыкнет…– пробормотал будто про себя Малина.
– Чекист он и в Африке чекист,– махнул здоровой рукой Семечка.
– Ша! – рявкнул Седой, стукнув кулаком по столу так, что зазвенело в ушах.– И долго думать надо?
– Дня два…
– Иди…– успокоившись, произнес снова тихо Седой.– Только о нашем разговоре должны знать только мы. Свистнешь в администрацию…
– Я понял, не дурак.
– Надеюсь, Чекист! Мне бы очень не хотелось тебя убивать,– спокойно, будто о чем-то обыденном, сказал вор.– Мотя проводи его до барака. Не хватало, чтобы патруль его в ШИЗО закрыл за нарушение режима.
– Так Ковригин сегодня амнистию штрафникам всем дал, к годовщине революции!
– Проводи…
– Понял, не дурак!– вор отбросил в сторону недоеденную картошку и легонько подтолкнул меня к выходу.– Пойдем, Чекист, прогуляемся под луной. А знаешь какие у нас звезды в Одессе? Вот такие…И близко близко над морем, рукой достать можно.
Он еще что-то рассказывал про свой родной город, болтая без умолку всю дорогу, но я его уже не слышал толком. Все мои мысли были лишь о том, что не было печали, купила баба порося. Теперь кроме ссоры с Качинским, драки с Кисловым, присутствием здесь Валечки, у меня появилась новая и довольно серьезная проблема…Как отказаться от предложения воров и остаться в живых.
ГЛАВА 21
То, что происходило между Андреем Коноваленко и Ирочкой Бергман сложно было назвать любовью. Животный инстинкт овладевал ими обоими каждый раз, как только они оставались вдвоем. Страсть, всепоглощающая похоть захватывали их разум и толкали на самые непредсказуемые безумства.
Вот и сейчас…Едва Бергман зашла в белом халате к нему в кабинет со стопкой каких-то личных дел, слегка покачивая бедрами прошла к столу. Коноваленко снова почувствовал, как желание охватывает его сознание. Эта женщина будто была соткана из похоти…подумалось ему. Эти взгляды, сводившие его с ума, полуоткрытые полные губы, крутые широкие бедра, аккуратная грудь только одним своим видом кричали: « Ну возьми же меня!»
Вот и сейчас, он не стал ждать пока она разложить бумаги у него на столе. Грубо схватил ее за грудь и впился в нее губами, покрывая шелковистую кожу поцелуями. Бергман застонала и вся подалась вперед, отдаваясь, словно в омут с головой, ласкам Андрея. Его руки зашарили по ее телу и с удивлением отметили, что под белым халатиком ничего-то и нет. Всего лишь на секунду он оторвался от женщины, чтобы поинтересоваться: