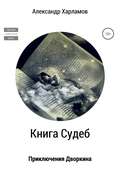Александр Харламов
Высшая мера
Валя потянулась к единственному окну, чтобы закрыть форточку, сквозь которую тянуло сквозняком, но фрамуга, отсыревшая за столько времени, сгнившая на креплениях, осталась у нее в руках. Сержант виновато пожал плечами и кое-как приладил ее обратно.
– Завтра пришлем бригаду,– торопливо пообещал он, ожидая разноса от жены высокого начальник,– она тут поправит все, щели заделает, да и дров подколет…Не лето, значит, на дворе…
Валя кивнула задумчиво прогуливаясь по комнате. Все ее мысли были далеко отсюда, рядом с Глебом, мамой, Сашкой…Все окружающее казалось ей лишь глупым смешным сном, который под утро кончится, она проснется, и как будто ничего этого и не было… Все останется лишь кошмаром, страшным ночным кошмаром, о котором она забудет, как только засветят первые лучи солнца.
Сержант втащил в комнату два чемодана, осторожно уложил их на кровать, в ответ гневно скрипнувшую всеми своими пружинами, словно обвиняя солдата в том, что он разбудил ее после стольких лет сновидений.
– На довольствие вас уже сегодня поставят,– замялся мужчина, не зная, как свернуть беседу и поскорее уйти. Жена нового хозяина Темниковского лагеря казалась ему странной. Чудная какая-то…Думал он, глядя на красивое улыбающееся лицо. Ходит, смеется чему-то своему, а барака, будто бы не замечает. И все равно ей, где придется жить, и плевать на дырявые стены и отломанную форточку. Нет, у нее в ее мире ничего такого,– так что можете, товарищ военврач вместе с мужем в нашей столовой, значит, откушать…Ничего особенного, но вкусно и подомашнему!
– Спасибо!– кивнула Валентина, продолжая загадочно улыбаться чему-то своему.
– Ну, я, значит пойду тогда…– замялся на пороге сержант.
– Постойте!– словно спохватилась Валентина.– Не могли бы вы растопить печь…Здесь зябко!– она поезжилась, кутаясь в пуховый платок, наброшенный на плечи, будто бы для красоты.
Головко вздохнул и побрел в сени. Набрал охапку поленьев, выбирая березовые, чтобы дольше тлели, давая большие угли. Быстро зачиркал спичкой, продув дымоход и разложив, как положено дрова. Через десять минут потянуло дымком, а еще через пять в печи приятно и подомашнему затрещало.
– Вы дрова подбрасывайте изредка! Через пару часов тут, как в бане будет, несмотря на щели, значит,– кивнул он на светящиеся полоски, сквозь которых пробивались солнечные зайчики у самого пола.
– Спасибо!– повторила Валентина, молчавшая все это время, безмолвно наблюдавшая за работой сержанта.
– Я, значит, пойду…– кивнул на дверь сержант, отряхивая руки. Валентина только сейчас заметила, как непохожи на обычные и удивительны его пальцы, крупные, красные с мороза, раздавленные тяжелой крестьянской работой, как сосиски, с потрескавшейся кожей на складках, глубокими бороздами морщин и линий. Настоящие трудовые руки!
– Скажите, а что случилось с прошлым начальником лагеря?– уточнила женщина, хотя примерно знала ответ.
– Я не могу…
– Я никому не скажу!– мгновенно прервала Головко Валя.
– Расстрелян,– буркнул недовольно сержант.
– Я так и думала! Всегда одно и тоже…
Запах ладана стал явственней. Сладковатый запах смерти заклубился на пороге, и только сбежавший от странной жены начальника Головко слегка разбавил его морозным стылым воздухом из приоткрытой двери. Она обреченно села на пыльный табурет, подперев обеими руками голову. Медленно сняла с себя берет. После долгой дороги, нервотрепки последних дней захотелось уснуть, закрыть глаза и не проснуться или проснуться где-то далеко отсюда.
В сущности Валентина понимала, что виновата. Виновата во всем случившимся, виновата…но глупое сердце тоскливо ныло, только представив в памяти образ влюбленного лейтенанта, который никак не хотел выходить у нее из головы. Клименко забрал ее покой, заставил поверить, что она тоже может быть счастливой, кому-то нужной…И это полностью изменило ее мир.
Два чемодана так и остались у порога неразобранные. Коноваленко бросила на них косой взгляд, но заниматься домашними хлопотами не могла. Все падало из рук. Грустно…За окном повалил снег. Крупными мягкими пушистыми хлопьями он устилал чищенные дорожки лагеря, налипал на стекла, рисуя причудливые узоры, тут же примерзая. Мороз крепчал.
– Разрешите, товарищ военврач!– в дверной проем заглянула совсем молодая, усыпанная веснушками физиономия солдата срочника с читыми, как его совесть синими погонами, от вида которых Влаентину уже начинало подташнивать.
Она встрепенулась. Встала. Длинное пальто – подарок мужа на прошлый день рождения широкими полами подмело пыльный пол.
– Слушаю!
– Старший лейтенант госбезопасности Ковригин попросил, как только устроитесь, немедленно прибыть на карантин! Там этап новый пригнали. Осмотреть их требуется, да карточки оформить.
Как гинеколог будет осматривать мужчин, лечить их от обычных прозаических болезней, Валентина мало представляла, но все же кивнула.
– Для начала проводите меня в медпункт. Мне нужен халат и инструменты…– все же она когда-то проходила лечебное дело, некоторое время до знакомства с Андреем работала на скорой помощи и кое-что помнила по прошлой жизни. В крайнем случае, послушать легкие и записать пульс, она сумеет. Коноваленко двинулась за солдатиком, который оказался шустрым и ловким. Винтовка на плечо была чуть меньше его самого, но глаза горели юношеским задором и интересом. Как у Сашеньки…Подумала с грусть женщина, двигаясь между бараками за парнем.
Темнело…Ото рва слышались крики, кто-то перечислял фамилии, шла вечерняя поверка. Валя оглянулась, рассмотрев, как на ближнем к их служебному жилью, домом назвать это язык не поворачивался, огороженном плаце сгрудились неровным строем несколько десятка женщина разного возраста. Тонкие платки, лишь отдаленно напоминающие пуховые, жиденькие телогрейки и кирзовые сапоги, в которых ноги стыли по такой зиме почти мгновенно. О каком здоровье в таких условиях может идти речь? Подумала Валентина, решив, что нехватки работы у нее не ожидается. Да, может это было и к лучшему. Все же лучше, чем сидеть дома, мучаясь несбыточными надеждами и мечтами.
У крыльца в административный корпус солдатик остановился.
– Товарищ военврач, медицинский кабинет прямо и налево. Предпоследняя дверь по коридору, прямо напротив кабинета вашего мужа! Разрешите идти на вечернею поверку?
– Идите!– махнула рукой Валя, которая успела продрогнуть от сырого пронизывающего ветра, бушующего на улице. Несмотря на не сильно низкую температуру, было холодно. Мокрый снег, валивший стеной,мгновенно намерзал на все вокруг. Вздохнув, Коноваленко поднялась на крыльцо, толкнув дверь в корпус.
Темно. Коридор ничем не освещался. Со страхом, с детства боящаяся темноты женщина шагнула внутрь и тут же загремела какими-то досками, споткнувшись о поленницу дров.
– Черт побери!– ругнулась она, перешагивая через поваленное топливо.
На шум в конце коридора выглянула худощавая светловолосая, короткостриженная женщина, с тонкими чертами лица, неприятной холодной улыбкой и тонкими губами. Голос у нее оказался чуть томным, хрипловатым, словно прокуренным.
– Кто там? Кого на ночь глядя принесло?– покричала она в темноту.
– Военврач Коноваленко!– отозвалась Валентина, пробираясь к свету.
– Ой, – всплеснула руками женщина в белом медицинском халате,– вы наш новый доктор!
Она тут же бросилась к ней, помогать. Подхватила под руку, провела вперед. Иначе Валентина непременно что-то себе сломала бы в полумраке коридора.
– А вы я вижу…– осмотрела Валечка ее, когда они подошли к свету. Тусклому фонарю, висящему над дверью медпункта, как лампочка Ильича.
– Осужденная Бергман! Статья 58-я. Срок десять лет! Временно была направлена на работу в медпункт лагеря для оказания практической помощи военврачу.
– Имеете медицинское образование?– смерила ее взглядом Валентина, быстро окинув с ног до головы, как будто оценивала товар на рынке. С неудовольствием отметив, что и губы, подведенные свежей свеклой, размазались в уголках, халат помялся, да и след от чьей-то грязной мужской пятерни на бедрах остался. От женщины слегка пахло спиртным и…Этот запах секса сложно перепутать с чем-то другим. Валентина поморщилась, но промолчала, прокрутив это все у себя в голове.
– Да, гражданин военврач! Медицинское училище в городе Николаеве.
– Украина? – скривилась Валентина.– Я совсем недавно оттуда, из Харькова с мужем приехали…
Показалось ей, или при упоминании мужа глаза Бергман блеснули злорадством? К черту! Показалось! Андрей где-то на территории, дотошный, внимательный к мелочам, он скорее всего знакомится с новой работой.
– В Харькове я была проездом. Этапом…– потупилась Ирина.
– Ну, хорошо!– ободряюще улыбнулась ей Валентина, чувствуя, что своей фразой про Украину разбередила в медсестре не самые приятные воспоминания.– Как тебя зовут?
– Осужденная…
– По имени?– прервала ее Валя.
– Ирина…
– А меня Валентина Владимировна. Нам еще вместе работать и работать! Не объявлять же каждый раз, что ты осужденная, право слово? Сколько ты уже отбыла здесь?
– Недолго…Три года,– с грустью проговорила Бергман.
– Вот видишь, еще семь лет! – улыбнулась Коноваленко.– Только у тебя есть хотя бы призрачная надежда выйти, а у меня ее похоже нет…– с грустью заключила она.– Так что у нас с инструментами, медикаментами? А то приказано неким Ковригиным осмотреть этап…
– Все там!– затараторила Ирина, провожая Коноваленко внутрь медпункта.– Ковригин – наш замполит. Молодой, а противный, скажу я вам, человек. Сам неопытный, им сержанты, как хотят крутят, но из политически правильных и благонадежных…Ой…– умолкла он, поняв, что ляпнула что-то не то.
– Говори, я сама с мужем из неблагонадежных…– со вздохом проговорила Валя, осматривая убогую обстановку медпункта, минимум лекарств и мебели. Одела халат, в который можно было три раза укрыться. Рассмеялась.
– Этап это надолго! – со знанием дела сообщила Ирина, собирая в небольшой потертый саквояж фонедоскоп, трубку и пару градусников.– Смотря еще сколько зэков прибыло. Бывало до ночи карточки их оформляешь…
Валя подумала, что это именно то, что ей сейчас надо. Загрузить себя работой по самую макушку, чтобы не думать, не мечтать и не видеться с мужем. Можно даже тут себе постелить…Прикинула она, глядя на узкую кушетку, сбитую из плохо оструганных досок. Главное матрац потеплее найти.
– Ты мне поможешь с оформлением!– то ли приказала, то ли попросила Валентина.– Я еще не в курсе всего…
– С удовольствием, Валентина Владимировна!– радостно подтвердила Бергман.– Я для этого здесь и нахожусь, чтобы помогать вам! У нас еще есть санитарка – Маруська из пятого отряда, но сегодня попросилась отлежаться. Температурит!
– Ну-ну…– кивнула Валентина, направляясь к двери.
– Завтра будет, как штык, уверяю вас, Валентина Владимировна!– преувеличенно подобострастно пообещала Ирина.
– Губы вытри…– проходя мимо, проговорила будто бы невзначай Коноваленко.– Помада размазалась.
Бергман густо покраснела и рукавом мазнула по щекам. Валя молча взяла у нее из рук саквояж и кивнул на умывальник.
– Я подожду на крыльце. Черт его знает, где у вас тут карантин находится.
ГЛАВА 12
Все вокруг, все в лагере было для меня в новинку. Даже то, что заключенным самим приходилось закапывать трупы своих сокамерников, повергло меня в настоящий, не сказать шок, но придало определенной жути этому месту, куда я попал.
Жизнь по ту сторону решетки оказалась на поверку точной копией происходящего за ней. Тут властвовала строгая иерархия, делящая людей на четыре примерно одинаковых по своей численности сорта. Первый – это местная элита, некое подобие ЦК партии, роль которой исполняли воры в законе и близкие к ним фартовые. Вторые – это люди попроще, сидевшие первый, в крайнем случае второй раз, выбравшие для себя нейтральную манеру поведения, простые работяги с завода, крестьяне от сохи, не имевшие желания делить людей на элитных и низшего сорта, те которые пахали на исправительных работах с утра до ночи, делая выработку не только за себя, но и за того парня, который ходил здесь в так называемом «отрицалове». Третий сорт людей – это те, кому не посчастливилось заработать хоть толику авторитета в лагере, попавшие сюда по статьям презираемым в уголовном мире, будь то изнасилование, педофилия и прочие извращения. Таких сразу загоняли «под шконку». Они были некой прокаженной кастой, к которой нельзя было притрагиваться, разговаривать, принимать от них что-либо и всячески унижаемые. Таких было немного, но в каждом бараке, в каждом ШИЗО присутствовал такой, тоскливо смотрящий на остальную часть камеры из-за свеого уголка подле параши – ведра, которое выполняло в камере роль сортира. И четвертая часть обитателей хмурых бараков Темниковского лагеря ГУЛАГА – это работники сего учерждения, ставшие по воли своей профессии заложниками этой территории, огороженной колючей сеткой на нескольких гектарах бесплодной, неурожайной и неприветливой земли. Многие хотели вырваться отсюда, строили карьеру, планы, считали, что это всего лишь ступенька для чего-то большого, но по факту среди этих сосен и многовековых дубов, в тишине саранских болот пропадали, как и сотни тысяч своих подопечных, имея разницу лишь в том, что в огромном глубоком рву, наполовину заполненном талой водой, их тела не закапывали, устанавливая над каждой могилой деревянный крест с латунной табличкой, кое-как выгравированной в местной мастерской.
Обо всем об этом мне по пути в ШИЗО рассказал Качинский, которому за долгое время следствия по его делу, пришлось побывать в лагерях разного значения и формации. Арест его то отменяли, принося извинения, то снова начинали бесконечные допросы, от которых Лев Данилович устал и согласился написать чистосердечное признание.
– В какой-то момент, Саш, я решил, что так будет проще. Пусть срок идет хоть…Десять лет не так много, но и не так мало, чтобы оттягивать неизбежное. Может быть ты удивишься, но я все еще храню в душе надежду, увидеть свободное небо.
Он поднял вверх голову, на секунду остановившись, жмурясь от мокрых серо-грязных снежинок, падающих с неба плотным дождем, и лицо его озарилось блаженной, почти счастливой улыбкой. Будто свободное небо уже висело надо головой.
– Чего замерли, как бараны, значит!– рявкнул позади сержант Головко. Мы шли в третьей шеренге, позади на нас наскочили, создалась толкучка.– Давай шевелились!
Сержант схватил Качинского за рукав телогрейки и грубо потянул вперед. Строй сломался. Конвоир зычно матерился, пытаясь навести порядок.
– Шевелись, голь перекатная!
Расстерянные, испуганные люди кое-как собрали себя в нечто подобие строя. За всем этим Кислый наблюдал с нескрываемым удовольствием и презрением, находясь чуть в стороне от всех.
– Чего стоишь лыбишься, значит?– заметил его Головко, заталкивая каждого на место.– Ну-ка бегом в строй! Или в ШИЗО захотел?
– ШИЗО нам дом родной, гражданин начальник!– лениво сплюнул на снег Кислов, занимая место со своими корешами в конце колонны.– Ты своими бубенцами на свою Матрену дома звенеть будешь, а здесь уважаемые арестанты идут.
– Я тебе сейчас покажу арестанта знатного, сука!– рявкнул Головко, замахиваясь автоматом на вора в законе. Тот ловко ушел в сторону, пропустив удар совсем рядом с головой, что еще больше взбесило Головко. – Ты чего борзеешь, вошь лагерная? Ты на кого бочку катишь?
Кислый ощерился, приготовившись драться. Присел на полусогнутых, готовый к нападению. По его мягким, почти кошачьим движениям, было легко понять, что шансов у Головко никаких. Правая рука вора иногда склонялась чуть ниже, поглаживая голенище кирзового сапога, готовая мгновенно вырвать находившуюся там финку.
– Только подойди, сука мусорская!– прошептал зло вор, не сводя глаз с сержанта, опешившего и не ждавшего такой реакции от зэка, привыкший к тому, что они в основном покорны и бесправны.
– Ты это брось, Кислов, значит!– не очень уверенно уже сказал Головко.– Тебе с зоны не соскочить! Только срок себе новый, значит, наживешь…
– А мне места понравились, хочу тут лишний трояк покорячиться, начальник…– Кислый дернулся в сторону, сделав обманное движение, заставив отшатнуться в стороны и сержанта, и зрителей.
– Если сейчас нападет,– прошептал мне на ухо с горечью Качинский,– всем в ШИЗО париться минимум месяце…
– Зачем он это?– нахмурился я. Даже дураку было понятно, что из лагеря. Напав на конвоира не сбежать…Кругом вышки с пулеметами, охрана на КПП.
– Самоутверждается так…– вздохнул Лев Данилович.– Мы, Саша, попали в такое общество, где каждый пытается сразу показать то, на что он способен, чтобы авторитет свой поддержать. А мы страдай…
– Трояком не отделаешься, Кислов!– покачал головой Головко, с перепуга перестав твердить через слово «значит».– Вышка без суда и следствия…
– А мы рискнем…– я уловил его резкое движение в сторону, краем глаза. Оно не оставляло шансов сержанту-увальню почти никаких шансов. Мгновенное, воздушное перемещение Кислого влево от противника, должно было принести за собой смертельный удар, если бы я в последний момент не выставил вперед ногу и сломал стройное, как росчерк пера движение вора. Тот вспоткнулся, потерял темп и тут же получил оглушительную зуботычину от Головко.
– Вот и все…– вздохнул сержант гневно пнув вора под ребра. – Делов-то…
Он, конечно, видел, как я подставил Кислову подножку. Бросил на меня короткий взгляд, в котором легко читалось спасибо. Подошел к обездвиженному вору, поймавшему могучий удар справа мужицкого кулака.
– С-сука…– процедил он. – В карцере сгною, тварь…
Оставшиеся в стороне от ссоры зэки переглядваались между собой, мысленно просчитывая чем это всем им грозит. Тут уж каждый за себя, своя рубашка ближе к телу, никакого чувства плеча и товарищества, только грубый расчет и шкурные интересы.
Прихлебатели Кислого наблюдали за всем со стороны. Я поймал на себе гневный взгляд одного из них, но сделал вид, что не заметил его. Мало мне проблем с Кисловым, теперь еще и с этими.
– Чего замерли, бараны?– будто бы очнулся Головко, хмуря косматые брови.– Кому сказано, шагом марш в карантинный барак! И без того на месте топчемся целый день.
Вокруг, действительно, начинало смеркаться. Длинные вытянутые тени многовековых сосен вытянулись вокруг лагеря в плотный забор. На сером небе засветилась луна, все еще бледная, но уже достаточно хорошо различимая. Подморозило. Промокшие ноги мгновенно почувствовали перемену погоды. Набрякшие от талого снега кирзачи стали колом, будто выструганные из дерева. Я переступил с ноги на ногу, пытаясь вернуть ногам былую чувствительность.
– Шевелись, значит!
Подгонять этап больше не требовалось. Даже самые уставшие спешили спрятаться от промозглого сырого ветра куда-то в помещение. Строй двинулся внутрь территории лагеря, оставив бесчувственное тело Кислова на покрывшимся коркой снегу. Поймав мой взгляд, Головко добродушно пояснил:
– Подберут солдатики, не переживай, не замерзнет! Такую сволочь так просто не изничтожить, значит! За нападение на сотрудника ему ШИЗО положено на месяцок. Посидит в четырех стенах, одумается, значит…
Я кивнул, догоняя вырвавшегося далеко вперед Качинского, по одному виду которого можно легко определить, что моих действий он не одобряет и против заигрывания с администрацией лагеря.
– Я понимаю, Александр,– произнес он тихо, как только я его догнал и занял место по правую руку в неровном строю от него, – что в ваших действиях в отношении Кислова говорил офицер НКВД…
– Бывший…– поправил его я, нахмурившись.
– Пусть и бывший,– легко согласился Качинский,– но такого вам воровское сообщество может и не простить…Таких тут называют ссученными! За такое полагается смерть!
– Я…
– Не надо оправдываться!Чисто по-человечески я вас понимаю…Но как зэк зэку скажу…Ходите и оглядываетесь. Ваша смерть бродит уже у вас за плечами.
Это было сказано таким загробным и серьезным тоном, что я невольно обернулся. По спине побежали мурашки. За всю свою недолгую карьеру в НКВД я был наслышан о могуществе воровской братии. Ходили слухи об их почти нереальном могуществе, что достать они могут любого обидчика хоть из-под земли. Связываться с ними не особо хотелось, особенно тогда, когда прекрасно понимаешь, чем то все может закончится. О воровском мире в НКВД ходили легенды. Я усиленно попытался вспомнить все о чем мне говорили старшие товарищи, рассказывая байки о том, как настоящие воры ограничивают себя во всем, подобно отшельникам-монахам. Им нельзя иметь семью, детей, ничего, что могло хоть как-то привязать их к чему-либо, извратив, сломав, заставить подчиниться воле оперативников. То, что самый обычный человек называет счастьем, воры признавали слабостью, и какая же воля должна была быть у них, чтобы отказаться от этого, какая вера в идеалы?
Я шагал следом за Качинским, меся промокшими ногами грязно-бурый снег, превратившийся в кашу. В ношенных сапогах хлюпало, а пальцы уже и не чувствовали колкого пронизывающего насквозь холода.
– Вот они…– аккуратно дернул меня за край телогрейки Лев Данилович, кивая куда-то в сторону.
На деревянном, почерневшем от постоянной непогоды крыльце сидели трое зэков, густо исписанных синими татуировками так, что в полумраке сгущавшихся над нами сумерек, они казались какими-то нереальными существами. Один из них, почти седой мужчина, в новеньком бушлате, скроенном и подогнанном точно по размерам, словно шившимся в дорогом ателье, сидел чуть повыше других, дымя ароматной самокруткой, и внимательно осматривая наш неровный строй перепуганных и до смерти уставших людей, от которых за версту несло крепким потом, вонью давно немытого тела и стойким запахом несвободы.
– Кто?– уточнил я Качинскому на ухо. Слегка повернув голову. Наши глаза с главарем встретились. Его ядовитый, полный необоснованной злобы взгляд скользнул по моему лицу, будто оценивающе, как сквозь прицел винтовки.
– Воры…Они на работы общие не ходят. За них бригада, такие мужики как мы с тобой, да Федор со товарищами норму делаем…Запрещено им работать, вера не позволяет.
– Какая еще вера?– не понял я, отводя глаза в сторону, стараясь сделать так, чтобы это не выглядело трусостью. Тут надо было, как с волками, отвел взгляд, вся свора на тебя и бросилась. Смотришь прямо и открыто, ничего не боясь, волки признают в тебе настоящего достойного противника и обойдут.
– Обычная, воровская!– пожал плечами Качинский.– Сейчас только она и осталась…– с грустью добавил он, коснувшись груди, где, как я уже успел заметить висел тщательно скрываемый от посторонних глаз православный крестик на сухой пеньковой веревочке.
Мне оставалось только промолчать. Не мог я его понять, оценить и посочувствовать неприятию новой власти. Для меня выращенного в Советской России Россия императорская была чем-то далеким, эпохальным, но уже историческим…Для Льва Даниловича – огромным и, наверное лучшим, пластом его жизни.
– Пошевеливайся!– Головко завел нас за угол, где располагался карантиный барак. – Вход строго по одному! Там доктор вас осмотрит и примет решение…– он едко усмехнулся.– Сразу вас расстрелять или немного помучаетесь.
Строй рассыпался в стороны. Густой пар от взмыленных от долгого перехода людей клубами поднимался вверх в иссине-черное, затянутое плотными снеговыми облаками небо. Мы с Качинским присели в уголке на куче сваленных бревен, закурили, ожидая своей очереди. Молчали. Устав от разговоров за время долгой дороги этапа. Хотелось уже какой-то определенности, распорядка, забыться, прилечь где-то, дав уморенному телу немного роздыха.
– Заключенный Клименко!– позади нас стоял Головко. Все такой же бодрый и невозмутимый, будто не было у него длинного перехода от станции, драки с Кисловым и нудного брожения по лагерю.
– Заключенный Клименко,– вскочил я со своего места, наученный прошлым горьким опытом,– одна тысяча девятьсот…
– Будя…– махнул рукой сержант, прервав мой доклад в самом начале.– Пойдем, значит, со мной. Дело у меня есть к тебе…
Я расстерянно оглянулся по сторонам, словно ища поддержки у Качинского. Но тот усиленно делал вид, что не замечает откровенного интереса сержанта ко мне, наслаждался последними крохами самосада, оставшимимся еще с СИЗО, дымя в кулак.
– Так карантин же, гражданин начальник…
– Пойдем! Тут сторожка неподалеку. Разговор серьезный. А от карантина я тебя освобождаю…– хмыкнул сержант, направляясь куда-то влево, в бесконечный лабиринт бараков и административных зданий Темлага. Пришлось следовать за ним, хотя даже сил шевелиться уже не было.
Спустя пару минут мы свернули еще куда-то, где в зарешеченном окне тускло светилась керосиновая лампа. Не постучав, Головко прошел внутрь, в импровизированных сенцах обметя веником хромовые сапоги от налипшего мокрого снега вперемешку с грязью. Немного стесняясь, я прошел за ним, стараясь выглядеть, как можно незаметнее.
В сторожке был лишь солдат-срочник, склонившийся над листом какой-то отчетности. Со старательностью первоклашки, он, словно на уроке чистописания, он выводил какие-то цифры, сводя дебет с кредитом. Увидев Головко мгновенно вскочил, вытяунвшись по стойке «смирно». С чувством легкого превосходства, я увидел стоящую в углу винтовку, оставленную совершенно без присмотра. До нее было рукой подать. При всей моей подготовке мне хватило бы полминуты, чтобы разобраться и с сержантом и раззъявой срочником. Усилием воли я сдержался. А что потом? Ну захвачу я их в заложники, и? Наша система исправительных учреждений столь жестока и беспринципна, что не задумываясь пожертвует двумя своими винтиками для сохранения системы, а дальше просто «вышак» и… Жалко только мать…Скрипнув зубами, я отвернулся от оружия. Головко безусловно все просчитал и заметил этот взгляд.
– Волчонок…– одобрительно осклабился он, доставая из ящика стола завернутый в промасленную газетку «Правда» кусок домашнего сала и корку хлеба.– Молодец, что не бросился,– похвалил он, нарезая сало толстыми ломтями, от запаха которых у меня резко подвело желудок,– никаких шансов…Одним сержантом больше, одним меньше…Система, таких как мы не жалеет.
Это уж точно! Согласился мысленно я, не сводя глаз с крупных, как сосики заскурузлых пальцев, ловко орудующих с продуктами.
– А это лишний раз подчеркивает, значит, что умный ты паренек, Клименко. Ешь!– подвинул он ко мне поближе нарезку.
С трудом проглотив комок слюны, я наблюдал за ним, так и не притронувшись к еде. Хотя с голодухи хотелось есть до ужаса.
– Раз умный, значит понимаешь, что Кислов теперь не успокоится, пока головушку твою на циркулярке не отрежет и всем на всеобщее обозрение не выставит…Воры – твари мстительные…– Головко с удовольствием вонзился крепкими желтыми от курева зубами в мягкую мясную прослойку, захрустел луковицей.– Ходи и оглядывайся! Но я человек, значит, добро помню…Выход хочу тебе предложить…
Я мысленно напрягся, подспудно ожидая чего-то подобного. Ох, не зря Лев Данилыч меня отругал за мой опрометчивый поступок. Ох, не зря!
– Место тебе тепленькое выговорим, значит…Хочешь в каптерке, хочешь в кочегарке, хочешь в столовой. Спасем одним словом! Мы своих не бросаем, значит…
– А взамен?– нахмурился я, уже представляя к чему подводит этот хитрый хохол, мнящий себя самым умным на свете.
– Что где услышишь, увидишь…Ты нам тихонько, дай знать!– улыбнулся Головко, заканчивая со своим куском сала.– Оно и тебе легче срок мотать, и нам подспорье, значит. А администрация таких людей, как ты любит, УДО им оформляют раньше срока, поблажки всякие. Ты не смотри на нашего Ковригина. Он мужик неплохой, добро помнит, как и я, значит…
После такого поворота кусок с салом в горо не лез. Меня вербовали, вербовали в стукачи и сексоты, при чем особенно не стесняясь в средствах и методах. Пойти на такое, означало подписать себе смертный приговор не только со стороны воров, но и мужичья, которое пока в стройные ряды моих врагов еще не записалось и держалось нейтрально.
– Я подумаю…– выдавил из себя я, опуская глаза в пол.– Разрешите идти, гражданин начальник?
Головко молчал, уставившись своим рабоче-крестьянским тяжелым взглядом мне в переносицу. И этот взгляд не предвещал мне ничего хорошего. Уж это я чувствовал всеми фибрами своей испуганной души.
– А сало что ж?– кивнул он на нарезанные ломти, к которым я так и не притронулся.
– Благодарствую, устал с дороги нынче! Кусок в горло не лезет…– выпалил я, пряча глаза.
– Ну-ну…– ехидно улыбнулся Головко.– От карантина, как и обещал, значит, я тебя освобождаю, доложишь своему бригадиру, а над предложением моим советую все же подумать…Времени, пока воры очухаются, а Кислов выйдет из ШИЗО у тебя совсем немного.
Я кивнул выбегая в сени, чувствуя, как горит от стыда мое лицо. А может это был не стыд и за долгий переход его просто обветрело? Но чувстовал я себя, дорогой проституткой, которую почти купили на всю ночь за кусок сала. А ведь готов был Клименко, подлая твоя душа? Знал на что идешь? Только обосрался от страха в последний момент, как гимназистка перед минетом. Тьфу ты! Корил я себя, шагая в сторону карантинного барака.
ГЛАВА 13
ТемЛаг был особым местом, как и множество лагерей ГУЛАГА, в нем удивительно причудливым образом были собраны, как самые лучшие представители нашего общества, образованные, умные, сообразительные люди, так и его отбросы, вроде маньяков, убийц, воров в законе, установивших в исправительной системе тридцатых годов строгую иерарическую систему своих собственных ценностей, особый порядок взаимоотношений и общения. Именно этому порядку, воровскому, а не административному было подчинена лагерная жизнь Темлага. Еще впереди был переломный момент, когда вернувшихся с войны солдат пачками отправляли в колонии, чтобы подавить систему. Еще далеко была «сучья война», еще правили бал воры в законе, густо исписанные татуировками, ботающие на особом языке, таком притягательном и опасном одновременно.
Один из таких воров по кличке Седой сидел на корточках подле пылающего в котле огня в кочегарке, подставляя теплым струям воздуха свои стылые с мороза ладони, наслаждаясь обжигающим жаром, идущим от пламени. Рядом с ним, чуть поодаль накрывали небольшой стол его верные «шестерки» Малина и Мотя. Один из них ловко нарезал расписной финкой луковицу, второй чистил картошку, насвистывая что-то бравурное, домашнее, что-то из прошлой жизни.
– Что этап?– немного согревшись, проговорил Седой, отходя от огня подальше, усаживаясь к столу на сложенные друг на друга колотые полена.
– Как обычно…– пожал плечами Мотя – высокий арестант в короткой, с чужого плеча телогрейке. – Работяги, политические…
– Кислый с этапом пришел,– добавил Малина, являющийся полной противоположностью своего напарника, маленький, ловкий, подвижный, словно шарики ртути и смертельно опасный. В его тонких пальцах финка даже не играла, пела в такт с движениями кисти.