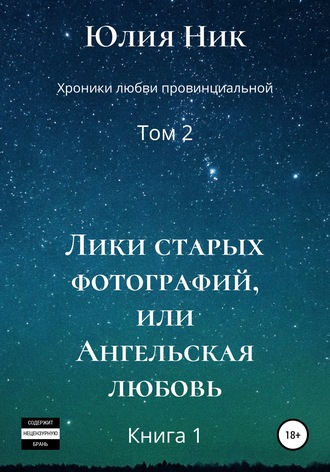
Юлия Ник
Хроники любви провинциальной. Том 2. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь
За лето, как ни странно, на такой «пахоте» с заготовкой сена, дров и большим огородом, засаженным луком, капустой и картошкой, Степка округлялся и румянел в щеках, хорошел. А тело у него становилось жилистым и крепким, загорелым и неутомимым.
Ларик не мог пожаловаться на себя, морская пехота тоже не балду била на службе, конечно, но таким двужильным, как Степка, Ларик не был. Вальяжнее он был, что-ли? Ларик много размышлял, думал, читал, мечтал перед сном.
Степка перед сном мечтал мало, пока голова к подушке летела – он уже успевал крепко заснуть с чистой совестью. Казалось, что он с самых босоногих пор точно знает, что ему нужно, и упорно к этому шел, посмеиваясь. Он просто знал – и всё! Там, в будущем, после института его ждёт то, что он хочет.
А Ларик не знал не то, что будет там где-то далеко, он не знал, что и завтра-то с ним будет? Его несло потоком, на который он сам не оказывал ни малейшего влияния.
Единственное, что придавало ему сил – это поддержка родителей, эпизодически они звонили ему, хотя Ларик был зол на отца из-за фамилии, но отвечал на их вопросы охотно. И ещё они присылали переводы на имя Эльки для него. Они ему до сих пор не очень доверяли. Это его обижало, но так… незначительно. Больше смех вызывало. И ещё – Элька. Его любимая родная сестра, вот кто хорошо его чувствовал и всегда понимал. И уж точно никогда не оставит в беде.
Ну и Алька, конечно. Он и познакомился-то с ней по созвучию имен. Элька – Алька… Уже два месяца прошло, а она не отвечала на его письма. Последнее письмо Ларик отправил с уведомлением о вручении. Письмо вручили.
Ларик через день бродил по заводским окраинам, рассматривая уже полинявшие объявления о постоянном приеме на работу сварщиков, электриков, слесарей, токарей, литейщиков, сантехников, водителей автокаров, шофёров и разнорабочих. Про него здесь тоже было написано в последней строчке: «чернорабочих». Это его раздражало. Постепенно он и это забросил – безвыходно ходить вдоль проходных заводов. Он и не думал раньше, что их так много в этом сером огромном промышленном городе, случайно образовавшемся, тяжело работавшем, с плохо развитой инфраструктурой, как сейчас говорят, пыльном и не очень красивом. Даже улицы в нём были строгими прямыми и параллельно-перпендикулярными и совсем не интересными, безо всяких романтических приятных закутков, как в любых других городках, Керчи, например. Только прямо и только перпендикулярно. Как в Чикаго, продуваемом насквозь. Где-то Ларик вычитал, что его родной Челябинск некогда звали русским Чикаго – так быстро и резво рос этот «внеплановый» городишко, случайно оказавшийся на случайно повёрнутой в его сторону железнодорожной ветке главной Восточно-Сибирской магистрали страны при царе Горохе.
У Ларика душа рвалась к небу. Но в этом городе и небо было серым, дымным, пыльным. Трава на газонах тоже была пыльная – в этом году дождей почти совсем не было. А Ларику казалось, что и самой жизни в этом городе для него уже нет. Отец позвал его в Казахстан, доосваивать недоосвоенную целину… Куда-то в Сибирь собирались ехать молодые ребята на какой-то БАМ…
Нет. Ларик решил здесь дождаться письма Альки, а потом уж принимать решение. Понятно, что надо было решаться на что-то кардинальное. Он только одно знал, что на Украину он не вернется. Его раздражали там беззлобные, но ехидные подколки местных ребят про москалей и кацапов. Не срасталось там между народами что-то, и не ему это сращивать. Вообще ему там всё нравилось, особенно летом, когда его экипажу удавалось после похода побыть в родной гавани: разнеживающая, почти неестественная красота моря, люди праздничные и весёлые, довольные курортной жизнью в этих малоэтажных тихих, почти сонных городках, оживающих только под вечер, когда спадал зной. Но за Крым было обидно как-то. Не спросясь, подарили. Это Ларик сам не очень помнил, но со слов отца знал. В этом вопросе Ларик был согласен с отцом и Николаем Элькиным.
У них в семье имена странным образом повторялись, переплетаясь в поколениях. В ходу были названия Коля старший и Коля младший, например.
Глава 5. Мститель
Письмо пришло вчера, когда он уже совсем отчаялся получить его и планировал грузчиком заработать деньжат на поездку в Крым, о чём он и уведомил Альку в своём последнем письме.
Ларик долго не распечатывал письмо, ощущая там листочек. Нюхал запах, пытаясь уловить Алькин запах и её настроение. Но пахло только типографской краской от размазанных штампов. Письмо шло пять дней. Не долго. Письмо было очень коротким и, более чем, понятным: «Ларик, не пиши мне больше. Я никогда к тебе не приеду. Наша встреча была ошибкой, ты хороший парень, но не для меня. Я всегда любила только моего теперешнего мужа. Он помощник капитана на крейсере, у нас всё хорошо, наконец-то. Уже два месяца, как я жду ребенка. Прощай».
Всё серое небо этого проклятого города с его пылью, чахлыми деревьями и травой на пыльных газонах опрокинулось на Ларика всей своей душной тяжестью. Стало трудно дышать, и горло перехватила боль сухого спазма.
Ларик валялся на диване в пустой квартире, следил за мухами, мелкими и назойливыми, гоняющимися друг за другом под люстрой. Эти мухи почему-то всегда крутились в своей нескончаемой карусели под чем-то. Под лампой, под люстрой. Давно вышел срок, после которого непрерывный стаж оборвался… И ничего страшного не произошло. Ну, оборвался… И – что? Небеса не рухнули.
«А нам всё равно, а нам все равно…» – неслось из какого-то окна. Чей-то катушечный магнитофон какого-то идиота осчастливливал округу, громко горланя на весь квартал.
Ларик спрятал голову под подушку и зажал уши. Ему не хотелось слышать ничего. Ему хотелось умереть, испариться отсюда, где было всё так грязно: «Вот почему она исчезала на несколько дней иногда. Ездила к своему старпому, – не поверил Ларик тогда её соседу, смазливому черноглазому парубку. Думал, врёт он всё. Сам к ней подкатывает. – Значит не врал, жалел просто».
За окном стало тихо, бабки во дворе часто приструнивали не в меру разошедшихся меломанов: « Детям же спать мешают, оглоеды!»
Ничего не хотелось. Ларик выпил воды, вышел на балкон, внизу справа на балконе сидел тот, Настюшкин обидчик. Увидев, или почувствовав взгляд Ларика, трусливо убрался в комнату, это зло развеселило Ларика: «Боишься, кабан… правильно боишься сволочь. Может, проехаться? Давно не катался, заодно и Эльку увижу, – рядом с ней Ларику всегда было спокойно. – Чо-то я, как маленький совсем, за «мамкой» гоняюсь», – невесело подумал Ларик, но мысль об Эльке его расслабила. –Давно там не был. Картошку надо окучить в последний раз».
В доме у бабушек было шумно. Мальчишки целыми днями проводили на улице, их вечно приходилось мазать раствором соды или соком петрушки от комариных укусов, чтобы не чесались с рёвом по ночам.
Эля готовила еду, освободив бабушек от такой заботы, но нахально поручила им сыновей, от которых она иногда уже «вешалась», как она говорила, мальчишки были неугомонными. А бабушки спокойно с ними справлялись. Пацаны постоянно чем-то были заняты. Бегали исключительно босиком, сначала смущались новых босолапых ощущений, потом втянулись в такую офигительную свободу. Они то поленья в баню таскали, то траву в тачку грузили и кое-как везли её к курам и рассыпали там по всему куриному загончику, наблюдая, как куры лапами назад и в стороны разгребали эти копны свежей травы, выискивая в ней мушек, червячков и прочую нечисть. А ещё мальчишки наперегонки собирали яйца, раскиданные несушками где попало. Настя никак не могла понять, почему куры так легкомысленно относятся к своему потомству? Потом Васька и Егорка, набегавшись, натоптавшись и напечатлевшись всем увиденным, за обе щеки уминали без капризов поставленный перед ними «полезный и не сладкий» обед и мгновенно засыпали с вымытыми ногами на бабушкиных полатях, и никакие разговоры взрослых не могли их разбудить часа три.
Элеонора была в восторге, а бабули только посмеивались. Они в этой жизни уже кое-что понимали. И на вечер готовили внучкам очередное посильное занятие: край марли подержать при процеживании молока, яйца взбить для теста и кулича. Надо и щепочки в печь в бане положить для растопки, воды курам дать, ведро пустое принести, чтобы пойла коровке приготовить на дойку. И кошке в миску молока налить, и собачью миску принести, чтобы в неё каши наложить с крошками оставшейся еды, и молоком сдобрить.
Да мало ли дел найдется, когда вокруг столько жизни рядом с тобой мурлычет, кудахчет, мычит и тявкает?
Настя, как только её привезли на её новое «пмж», сразу приступила к работе уборщицы в школе, и до пяти часов она терла, отмывала от извести коридоры и классы вместе со старшеклассниками, которые отрабатывали, положенные им всем, летние трудовые часы в школе. Заодно и знакомились. Руки у Настюши стали грубыми и красноватыми от постоянной воды. Резиновые перчатки выдавали редко, да и рвались они быстро. От извести в подушечках пальцев даже образовались глубокие язвочки и болели. Но Настя была довольна всем и лечила раны свои подсолнечным маслом, как её малярши научили. Пенсию за отца, полученную ею впервые самостоятельно, она сразу отдала бабушкам на питание. Теперь перед ней встала задача добыть денег на дрова и сами дрова. Для неё открыли одну из дальних комнат, которые надо было зимой отапливать второй печью. В другой открытой комнате поселилась Элька с мальчишками. Иногда приезжал Николай и устраивал с ними весёлую возню по всему двору.
Между делом Настя принесла из общей совхозной известковой ямы ведро извести, которое еле донесла, чуть спину не сломала – ей очень хотелось как-то ощутимо отблагодарить старушек, исполнить их стародавнюю мечту о побелке малухи.
Из малухи все вещи вынесли наружу, перины и подушки для просушивания положили на солнце, мебель из малухи, что можно было, вынесли на веранду, остальное сместили на центр крошечной комнатушки, подготовили её к побелке. Отныне и это стало Настиным рабочим местом. Поужинав, она начинала шпаклевать трещины и сколы старой побелки, как это ловко делали маляры в школе. Малуху уже лет двадцать никто не обновлял по-хорошему. В доме царила чисто женская атмосфера, изредка нарушаемая приездами Николая, но он быстро уезжал, переночевав с семьёй, отпуск летом в этом году ему не дали.
Когда Настя увидела мотоцикл во дворе, она радостно рассмеялась про себя. Она всегда была рада Ларику, искренне считая его своим ангелом-спасителем. И её радовала та суматоха и беспорядок, которые немедленно воцарялись в доме с его приездом. Хотя он ничего такого и не делал, но всё, весь женский хоровод, начинал вращаться вокруг него. Это происходило само собой. Настя уже это заметила и в прошлый раз и чётко осознала, что любимый мужчина всегда раздвигает домашний женский мир и поселяется посередине него, совершенно не прилагая никаких усилий к этому, как лев в львином прайде.
Теперь завтрак начинался, можно сказать, с уборки посуды после ужина – с вечера решалось, чем будут кормить Ларика утром. Добавились обильные яичницы, жареная картошка, сало и куриное мясо, Ларик сам рубил головы петухам на плахе, предварительно их усыпив, чтобы не бегали потом без головы по двору. Настя, чтобы ничего такого не видеть, убегала в комнату и прятала голову под подушку.
– А как же, милая? Всё так в жизни. Все едят кого-нибудь. Без этого – никак. Какая же у него мужская сила будет, если мяса не поест? – посмеивалась Пелагея.
Впрочем, Ларик был не таким уж мясоедом, больше ребятишки спорили, кому ножку, кому крылышко в этот раз достанется. Хорошо, что у каждого петуха было две ноги и два крыла. В деревне жизнь животных несёт всегда утилитарный смысл, любование ими – недопустимая и ненужная роскошь в сельском быту. «Телячьи нежности вся эта жалость ненужная, –говорила Пелагея – всех жалеть сердца не хватит. И жить-то надо как-то?»
Женщины довольствовались творогом, оладушками со сметаной, кашей и компотами из сушеных ягод шиповника, вишни и сухих яблок.
А Ларик вновь облачился в старые тренировочные трико и старенькую майку, которые ему тщательно выстирала одна из бабушек, и целый день пропадал в огороде, вывозил навоз в кучу, чинил деревянные короба для грядок, окучивал картошку и на время отодвинул бабушку Пелагею от занятий пчёлами.
Снимать крышки ульев и работать с рамками – не лёгкая работа, но семьи священников никогда не жили без пчёл, как и без коровы, кроме самых разорительных лет. Руки Ларика, даже спустя несколько лет после совместной с дедом работы, как бы сами всё делали, укладывали мешковину, прикрывая рамки, поддымливали дымарём, если пчелы начинали слишком нервничать, глаза мгновенно отыскивали на рамке то, что искали. Ларик даже не задумывался, о том, как многому научился он ещё ребенком, постоянно бывая рядом с дедом. Он почти механически делал всё, что было нужно. Пчелы роились, у соседа уже несколько роёв слетело. А Ларик, достав соты, находил быстро маток и удалял их, пока не вылупились и не растащили весь рой. Надоело соседских сметать с кустов и деревьев.
Настя с суеверным ужасом наблюдала, как Ларик, помогая соседу, аккуратно сметает пчёл в коробку, голыми руками разыскивая среди них матку. Но ему самому всё это сейчас не приносило ни малейшей радости, или хотя бы удовлетворения. Просто надо было что-то делать, он это и делал.
На Настю, к её радости, Ларик внимания совсем не обращал. Она чувствовала себя не очень удобно, незваной гостьей, так сказать, но что же ей тут можно было сделать? Она просто старалась быть незаметной и занимать, как можно меньше «пространства». Но когда она видела Ларика, её душа уходила в пятки от счастья просто видеть его. И она молила Бога только о том, чтобы никто другой этого не заметил.
Если бы она внимательнее была к тому, как переглядываются мельком между собой бабуленьки, она была бы смущена. Но Настя восторженно принимала новые обстоятельства жизни, радовалась им и была невнимательна, тихо и счастливо смеясь в подушку перед сном. А потом блаженно засыпала в этой довольно большой комнате, с высокой и широкой кроватью с железными шишечками на спинке, с домоткаными половиками неестественной чистоты, с занавесками-задергушками с выбитыми на них узорами «ришелье» и с самодельным ковриком на стене у кровати из красивых кусочков шерстяных обрезков, оставшихся от чего-то, выложенных чьей-то рукой в яркий тёмный разноцветный узор восьмиугольных звёзд и квадратов.
В углу её комнаты стоял старенький фанерный шифоньерчик, со сказочно красивым павлиньим пером, воткнутым в рамку крошечного зеркальца на уровне Настиной головы. Абажур, из тонкого зеленого кашемира с вязаными медальонами на каждой грани и длинными кистями по краю, давал мягкий зелёный успокаивающий свет в вечерней комнате. Абажуру было лет сто, не меньше, и обычно Настя засыпая, разглядывала его перед сном и придумывала жизни тех, давно умерших людей, кому он светил до неё.
Ларика, как он не упирался, поселили в комнате Алипия. Малуха была сейчас в разобранном состоянии, там колдовала Настя, советуясь по всем вопросам с бабушками, но делала всё сама – как экзамен сдавала.
Ларик плюнул на это безнадежное дело: «Пусть мажет тут хоть всё, раз ей неймется», – и поселился в комнате деда, засыпая под неяркий свет лампадки, иногда, по церковным праздникам, тускло мерцающей в углу.
Масло тоже экономили, доставать его было трудно. Больше лампадка не вспыхивала и не трещала. Под подушкой деда лежал мешочек с хрустящей на ощупь травой, Марфа называла её «чабрец», этот запах как-то умиротворял Ларика, иногда, резко повернувшись, Ларик чувствовал и от своих волос этот запах, тонкий и успокаивающий.
Бабушки только переглядывались между собой, с Лариком что-то произошло. Ну не смена же фамилии отцом так на него повлияла? Сам Ларик с фамилией не спешил, вообще об этом не говорил. И о работе он не говорил – вот это Эльку сильно волновало. Ларик от разговоров всегда уходил, отдал бабушкам все деньги, что родители ему прислали, и мог часами лежать и смотреть в небо, зарывшись в сено на сеновале.
Всё разъяснилось, когда Николай молча подал жене конверт из города Керчи, выброшенный со всем содержимым в мусорное ведро. Ларик просто забыл его вынести, и Николай, зашедший полить цветы тёщи, вынужден был заняться им, увидел конверт и полюбопытствовал: не нужное ли это письмо случайно попало в ведро?
Элька не была бы Элькой, если бы не прочитала его. Женщины пошептались между собой и ещё больше стали ухаживать за Лариком.
Но он этого не замечал. Ему иногда больше всего хотелось бы, чтобы во время грозы, которые вдруг стали часто случаться, молния ударила прямо в него и убила бы, чтобы перестало так болеть всё внутри. Чтобы забыть о ней…
–… и она ждёт ребенка?… Значит, она была уже тогда с тем?! – от этих мыслей голова Ларика готова была расколоться вдребезги, и он брал лопату, пилу, топор, тяпку или лом и шел копать, пилить и колоть, выкорчевывать то, что было отложено до лучших времён. Хоть чем бы заниматься, только бы не думать о ней, кареглазой, смелой, дерзкой и великолепной… И чужой. Совсем чужой. И всё то, что с ним там было – это было обманом, ложью и… мерзостью? Ларик их всех возненавидел, оптом.
– Как это возможно?! Любить одного, а на берегу в бухточке… и потом смеясь есть помидоры, откусывая с того же края, и горбулку… И в Керченских пещерах зимой целоваться до бешеного стука крови в висках! И так можно?! – Алька снилась ему почти каждую ночь. И каждый раз по-разному. Иногда он просыпался, дрожа от гнева, а иногда смеясь и ловя её, ловко увёртывающуюся от его рук в волнах моря. И на лице его, когда он просыпался, были не брызги моря, а солёные слёзы, и тело сотрясалось от рыданий. И в такие минуты он всё был готов ей простить. С отчаянием он понимал, что и сейчас снова бы ей поверил, даже понимая, что она врёт ему всё, лишь бы почувствовать её рядом с собой.
Вот только ей это было абсолютно и бесповоротно безразлично.
Кто сказал, что любовь – величайшее чудо и самое желанное чувство?
Кто сказал, что это болезнь, от которой никто не хочет излечиться?
Какая глупость – все эти затертые слова!
Он понял, что его любовь – это одна сплошная боль, и эта боль выталкивала из него всё хорошее, умное и доброе. Он никого не хотел видеть, слышать. Он ничего не хотел делать. Если он что-то и делал, так только для того, чтобы уединиться и не встречать глупые сочувствующие взгляды. Любовь, обманувшая его, расплющила его, рассыпала, развеяла, отобрала всё, что было ему дорого и ценно. Он ощущал своё тело пустым и ветхим. И как же он презирал себя, что позволил вот так себя использовать, как запасной вариант, как болеутоляющую таблетку. Намекали же ему, а он ей верил. Он любил её, он и хотел её!
И жаждал её убить. Или себя.
Ларик стал понимать самоубийц, которые покончили с собой из-за любви.
Это же просто невозможно жить, испытывая такой стыд пренебрежения, такую ненависть к ней и к её… тому счастливому. И одновременно испытывать такую жажду её любви! И такую огромную потерю, от которой всё омертвело и опустело, потеряло всякий смысл.
– И не такая уж большая проблема, а может быть, и единственное избавление от мук – этот ножичек, который полоснет, и всё… Нет, слишком много крови и больно всё-таки…. А может… петлю приладить вон на той балке? – и Ларик, лёжа на сеновале, внимательно стал рассматривать старую, но крепкую балку, неизвестно кем так крепко сработанную, – … вот думали ли вы, что теперь ваш потомок будет на ней болтаться? – злорадно спрашивал он кого-то неведомого и такого рукастого.
Он представил, как будут плакать мама, Элька. И отец. И Николай. Бабушки будут молиться и сожалеть, что надоедали ему, не хотели дать ему жить по-своему. И Настька тоже будет реветь, наверное, малярша самозваная.
Совершенно случайно Ларик вспомнил давнишний полустертый временем в памяти эпизод из детской жизни. Он был совсем маленьким, когда однажды всю школу поразила ужасающая новость: восьмиклассник застрелился из самодельного самострела, сделанного из авторучки, из-за девчонки в параллельном классе, и записку оставил, чтоб все знали, и она тоже. Ларик даже имя её вспомнил: Таня. Не захотела она «дружить» с тем пацаном.
Всей школой хоронили. Убитая горем мать того пацана, рыдая, попросила показать ей «эту девочку». Показали, вытолкнув вперед, а мать увидев её… рассмеялась! «Сыночка, и вот из-за этой нескладушки-неладушки ты с собой покончил и меня на всю жизнь убил?!» – и потеряла сознание, упала прямо перед той Таней. И Таня тоже от переживаемого ужаса потеряла сознание. Ларик вспомнил её старые серые подшитые валенки на неловко подвернувшихся худеньких ногах и старенький, материн, наверное, платок на голове у девочки. Холодно тогда было, замерзли все, пока закопали того парня. Потом перевели эту девочку в другую школу, а потом и вовсе семья уехала в другой город.
– Но тот парень, конечно, отомстил, получается. Но какой же он дурень глупый? И в жизни-то ничего не попробовал. А я? Алька на похороны точно не приедет, и ещё скажет: «Что с дурака возьмёшь!» – она такая. Безжалостная, – И Ларик заплакал, как-то облегченно даже, поняв, что никакой никому мести не получится. – Бессмысленно и театрально всё. Даже презренно. Ну, в чём та Таня виновата была?! Испортил девчонке детство и мать почти убил. А другие мужики как? Вообще не заморачиваются? И как мужики могут так – бегать от одной к другой, когда им изменили, когда всё так болит? Когда всё высохло и потеряло смысл… – он, конечно, слышал мужские побасенки, что клин клином вышибать нужно…
– Что? Просто тупо освобождать тело от ноющей боли, охватывающей колени жаром, когда она вот так встаёт перед тобой? Алька… у неё такие тонкие смуглые, «восточные», как говорила она, пальцы… и так водят по губам… – Ларик зажмурился и стиснул до скрипа зубы.– А может и мне… так попробовать? А что, клин же клином вышибают? Все же так делают, и я – мужик, как все? – пробилась, наконец, злая мысль сквозь боль и раздирающее грудь рыдание, которая предполагала какие-то действия с его стороны. Мстительные действия.
Абсолютно обессиленный он потом долго не мог заснуть, лежал в темноте, уперев в потолок бессмысленный взгляд.
– Да, девок навалом, и многие косятся и оглядываются, – нашептывал ему голос. – Не только в рыжих штанах же дело? Их улыбки… Она также улыбалась, до самого последнего дня… только за это стоит им всем мстить – за эти их лживые дебильные улыбки.
И, пожалуй, ему очень начинала нравиться эта мысль – мстить им всем за его разорённый мир первых чувств, первой и единственной на всю жизнь любви. Это-то он уж точно знал, что любви у него больше быть не может. И вся его любовь погибла навсегда, испепелив душу чёрным пламенем ревности и гадливости, и вся она досталась той, из Керчи.
Ему стало неприятно произносить её имя.
Ларик решил мстить. Земля и ад разверзались перед ним, но ему страшно совсем не было.
В какой-то ещё другой ад он не верил, он, как ему казалось, жил в нём сейчас.
В наши дни.
Илларион медленно шел к дому, выбрав кружной путь, через главную улицу, чтобы пройти мимо Степанова дома. Давно не виделись. Всё дела да дела. Молодец он, Степан Игнатьевич, такую тяжобу вытянул, ребят около собрал. Вытянули они «Лавсок» свой. И людей вытянули. Впряглись тогда, аж жилы трещали. Он, Илларион, с другого краю оставался всегда. Другое дело делал. Степан иногда горько шутил, «Ты, Ларик, как комиссар у нас. Держишь народишко в надежде. Иногда только ты и тянешь этот воз на себе, иной раз сами себе, ведь, не верим. Молотим, как заведенные, а оглянуться-то страшно. Ты уж тяни, друг, народ-то, давай уж. Они без нас слабоваты пока. Мы ж тертые с тобой».
Илларион и думать никогда не думал, что он что-то там тянул. Просто делал, что и любой другой на его месте бы делал. Крестил, отпевал, венчал, причащал. Ходил в дома усовещивать и поддерживать. Народ собирал на помощь, когда надо было позарез это кому-то. Всякое за эти годы бывало. И будет ещё много чего.
– Ларик! Заходи, идём квасом угощу. Людмилка квас просто охрененный делает. С хреном! Давай, заворачивай! – Степан, издалека завидя друга, вышел к калитке, искусно выкованной Митькой.
Илларион погладил рукой кованное кружево, отмечая про себя красоту работы: «Возродили кузню. Мало, что возродили, на «высокохудожественный уровень» вытянули, как хвалится Митька при каждом удобном случае. А что? Нормально. Одно название перед селом выкованное и установленное, как визитка работает. Не сидят ребята без дела».
Людмила шла уже навстречу мужу и Иллариону, неся в руках кувшин с квасом и глиняные бокалы. Уселись в беседке, стоявшей посредине общего с задними соседями из «дворянского гнезда», сада. Уже и сетки повесили от комаров, к вечеру от них спасу не было, тепло пришло. Пёс Степана Алдар, вильнув хвостом, приветствуя старого знакомого, тяжело вздохнув, снова разлёгся в беседке, прячась от комаров
– Что у Степки-то твоего продвигается дело? – Степан Игнатьевич взглянул на Иллариона.
– Да куда ему деваться? Продвигается. Но сам понимаешь, не просто это всё. По закону упрекнуть её не в чем. В трудном она, мол, положении. Вот и отдала на время.
– А где она-то сама?
– Да кто ж знает? Вроде как уехала отдыхать. За границу. Не запрещено никому сейчас.
– И сколько уже её нет?
– Два месяца. Потому и отдают. На время. Приедет – его снова заберут. Опекунский совет, понимаешь. Они стараются сохранить материнство её, они априори на её стороне. Или чего удумали? Знаешь же, сколько государство валит на каждого сироту? А ещё чего доброго и «запродать» за бугор наметились. Говорят, выгодные там сделки проворачиваются. А Степка – папа только по воскресеньям. Но уже и им стало кое-что понятно, что мы мальчонку не отдадим. Но не сразу у него сейчас получится забрать его. Да что говорить? Намучаемся ещё.
– Может откупиться от неё?
– Предлагал он. Но пока она ещё в мать играет. Надоест, – тогда что-нибудь сдвинется с места. Да мы рады, что хоть так дали, на месяц пока. Лиха беда начало. Завтра приехать должны. Забыл уже нас, наверное, маленький же ещё. Отца узнаёт, тот часто у него бывает. через день, да каждый день…
– Вот, ведь, фигня какая! – Степан возмущенно хлебнул кваса. – Ну, кто доказал, что мать обязательно лучше для ребенка, чем отец? Ну, кто доказал? Но за матерью приоритет, это точно ты говоришь, изначально. А потом бегай, доказывай, что ты не верблюд. Да что далеко-то ходить? Вон, наша королевна, возьми. Если бы не Людмилка, ещё неизвестно, что бы из ребятишек получилось. Ну, нет у неё инстинкта материнского. Не любит детей – и всё тут. Кукушка. Повезло нашим с бабушкой.
– Степа, ну зачем ты так? Всё-таки она о них заботится. И дом содержит в порядке…
– Люд, ты меня лучше не зли. Ладно? – Степан сердито посмотрел на жену. – Это не «в порядке», Люда! Это… это карцер чистоты. Понимаешь? Карцер. Да ладно. Надоело из пустого в порожнее переливать. Что Егорка-то твой думает делать? Второй месяц балду бьёт.
– А он-то тебе зачем? – Илларион усмехнулся. Он знал, что на каждого трудоспособного мужика у Степана свой план составлен.
– Как зачем? Неужто, ты и его на колокольню загонишь?
– А чем тебе моя колокольня не нравится? Я не вечный. Думаешь, люди уже другими стали? И не нужны мы им? – Илларион, наклонив голову, с усмешкой смотрел на друга.
– Да ничерта они другими не стали. Ты прав. Просто есть разные породы людей. Одни только потреблядством способны промышлять, другие только делать.
– Ну, так оно. А всё же надо этим промысловикам тряпичным помогать и другое видеть. Ну, такая жизнь на земле, другой нет. Не уставай усовещать. Капля – она камень точит. Но куда Егора потянет – не знаю. Молчит.
– А ты-то как решился тогда? До сих пор ума не приложу. Открой тайну.
– Обойдешься, сын мой. Своих скелетов в шкафу почисти.
– Ох-оххо-ох, как страшно. Не, Ларик, ну правда, для меня тайна сия велика есть. Уж сейчас-то можно?
– Нет, Степка. Нельзя. Это за семью печатями лежит. И отстань ты, Христа ради, от меня.
– Да я всю жизнь мучаюсь, не из-за меня ли ты тогда так решил рясу нахлобучить на такого-то красавчика? Бабы, поди, обрыдались? – Степан ехидно хохотнул.
– Не из-за тебя. Хотя я тебе должен много. Ну, на том свете сочтемся уже ?
– Не знаю. Сочтемся ли? – Степан Игнатьич, с усмешкой уставился на старый шрам на скуле Иллариона. – Я просто так не дамся.
Оба как-то неловко улыбнулись и отвернулись друг от друга, любуясь вечером. Удивительно это свойство человека оставаться молодым в душе до конца дней своих. Даже желания и эмоции испытывать те же. Теоретически. Только теперь в людях они уже могли сразу разобраться, не ошибаясь. А тогда…
Июль докатил до августа свои жаркие валы изнуряющего лета. Дожди с грозами были, но редко, на полях колоски стояли, как сиротинки, редко и чахло, в совхозе готовились к очередной битве за урожай. Собрать надо было всё до последнего зернышка. Степка заранее договорился, что летнюю практику он будет проходить в родном совхозе, где он давным-давно знал все колки и перелески, бугры и болотинки. А в эти последние свободные деньки Степка «пахал» на личном «хозяйстве», от его рук зависела вся его семья нынешняя – мать и двое братьев. И деньги, заработанные на уборочной, тоже тут останутся.
– Тетрадей для конспектов надо подкупить, да ботинки починить, ещё год протянут, кожа-то хорошая. Некрасивые – да это фиг с ними, лишь бы до весны доходили, не подвели, – так по-мужицки обстоятельно прикидывал Степка возможности своего гардероба, смётывая с меньшими сено в стог. – Дрова сами в поленницу уложат, умеют уже ровный круг выкладывать.
В их институте многие ребята тянулись на учёбу из последних сил. Были, конечно, и здесь «сынки», но и они не особо выпячивались. Ребята из «политеха» были гораздо бойчее и выглядели почти все богато и стильно. Городские же почти все?
– И чо сюда лезут? У них своих девчат хватает. Нет, сюда прутся. А в селе учителей не хватает, гадство! – и так рассуждал не только Степка, но и многие его приятели по институту, испытывая тоску, когда в «педе» на вечерах девчонки выбирали тех, других. Городских и франтоватых. На последнем вечере, посвященном дню Восьмого Марта, Степке удалось захватить внимание Людочки, с филфака.
Закидывая вилами сено на стог, Степка, невольно улыбнулся, вспомнив коротко стриженую, смешливую девчонку. Гуляя в парке после последнего экзамена, договорились, что встретятся в следующем году, как только появятся в институте. Он в своём, после уборочной, а она в своём, после сентябрьской «страды», куда студентов ежегодно отправляли на уборку всего, что выросло за лето. Встретиться решили обязательно, недалеко же друг от друга учатся, через пару кварталов всего.


