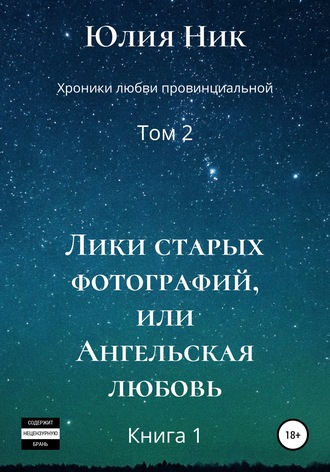
Юлия Ник
Хроники любви провинциальной. Том 2. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь
Не думал Ванятка, что проклятия сбываются…
– Чёрт, Леон, какого чёрта они такие пьяные? Ну мы-то же с тобой ничего? Ещё и считаем этих дураков. А? Леон? Ромка тоже ещё торчком торчит, только почему-то головой всё время трясет.
– Ларик, ты иди, иди, вот видишь, тут расчищено, а тебя на газон всё тянет, мне тебя, бугая такого не дотащить будет, если упадешь. Мы, хоть, правильно идём-то?
– Мы? Идём? – Ларик поднял голову к небу, повернулся назад. – Видишь, Леон, Полярную звезду.
– Вижу и что.
–Она прямо над моим домом, мы не заблудимся. Я когда с каменоломни возвращался, – она там всегда была.
– Ясно. Нам до каменоломни твоей до утра не дойти. Адрес помнишь?
– Конечно, помню. Доватора. Улица Доватора, ещё революционер такой был. Генерал. Странно, у генерала и такая уличная фамилия была… – Ларик пытался делать очень серьёзное лицо, но с него в это время почему-то слетала шапка.
– Чего ты голову задираешь всё время, Ларион? – поднимая шапку, ворчал Леон.
– Я не задираю, я представляю, как мы будем тожественно стоять перед сияющей рампой, и все будут нас приветствовать стоя. Но сейчас-то мы с тобой почему лежим-то?
Роман Лавров с Андрюшкой Строгиным с трудом подняли их обоих и крепко взяли под руки. Этих двоих на букву «Л» терять было никак нельзя, вся надежда только на них и оставалась. Мороз не просто крепчал, он уже уши у всех завернул под шапки.
А уши – это последнее, что настоящие мужики от мороза прячут
Дом Ларик узнал издалека: «Вон он, мой домик миленький. Квартирка номер четырнадцать», – он шел домой на автопилоте, что характерно для многих русских мужиков.
Они, видимо интуитивно, выбирают какой-нибудь ориентир, например Полярную звезду, идут в противоположную от него сторону. И всегда доходят.
Дошли вроде все, некоторых доволокли. Предстояло самое сложное – подняться тихо на четвертый этаж. Тихо. Чтобы никто не вызвал вытрезвитель. Это Ларик, Леон и иже с ними, стоявшие ещё на ногах, понимали определённо и буквально. Город – это вам не деревня, где под любым забором тебе может быть вытрезвитель, если дорогу не нашел после свадьбы друга или соседа. Да и упивались до вытрезвителя в деревне только на свадьбах.
Поэтому когда кто-то из них падал на этих чертовых скользких ступенях Ларикова подъезда, – то падал молча, чтобы враги не услышали. И только в самом конце громко матерился. Враги их услышали, но выходить из квартир не стали. Всем известно, что с пьяными, тихо падающими и громко матерящимися мужиками, лучше не связываться. Пусть пройдут по своей муравьиной тропе мимо, тем более, что движением руководил сын хозяина квартиры номер четырнадцать. Запуская всех в квартиру, он их почему-то считал, как в детском садике.
Утром никто из них сразу на ноги встать не смог. Сначала надо было опознать, чья нога или рука лежит на твоём лице, и где ты тут сам? И только Ларик и Леон спали, как люди, не на полу на паласе и на ком придется, а раздевшись и под одеялами, на родительских кроватях. И Роман Лавров с Андреем Строгиным диванчик себе аккуратно раздвинули в Элькиной комнате
– Ба, ребяты! Да тут у нас интеллигенты прикорнули. Давай воду! Тоже пить хотят, поди? – на Ларика и Ворота было вылито по стакану воды.
–Тьфу ты, алкоголики, отвалите! Какого черта! Дайте поспать! – Ларик повернулся на другой бок.
–Куда спать?! Шесть уже. Первый автобус в семь. Вы как хотите, а мне на работу надо, – как всегда Строгину надо было больше всех – орава дома, мал-мала меньше.
– Всем на работу. Давайте хоть по кружке чаю выпьем? – заныл Ванятка.
– Вот ты самый маленький, а как насчёт пожрать – так первый. И куда в тебе продукты деваются, бесполезный ты мужик!
– Насчёт «бесполезный» – это только моя Раечка сказать объективно может. Кстати, в основном туда и девается всё. Толку-то что от росту, если в нужном месте не хватает? – Ванятка всегда ярился, когда о его росте и аппетите шутить начинали.
– Слушайте, а все тут? – это Роман забеспокоился.
– А чего это ты спохватился? Ты их вчера считал? – спросил Ворот у Ларика.
– Считал. Шестнадцать, вроде помнится. – А чо?
– Чо-чо? Нас же семнадцать было! – Роман схватился за тулупчик, забыв надеть штаны для начала.
– Не, я помню – шестнадцать нас было, в квартиру вошло шестнадцать. Я уже почти отрезвел к тому времени.
– Вы ополоумели, что ли? – Роман изменился в лице, недаром он что-то почувствовал. – На улице на градуснике сегодня минус тридцать четыре завернуло. Кого нет-то?
– А ну, встать, как в хоре стоите, – это было самым правильным решением. Сразу стало понятно, что не хватает Сергуни. Он был самым пьяным после ресторана, плетью висел на Ванятке.
– Вот теперь: «полный пи*дец», – констатировал Ворот, быстро натягивая на предусмотрительно надетые шерстяные трико и брюки. Одевайтесь все, искать надо, может и живой ещё, часов пять прошло. Ларик, фонарики есть?
– Были где-то, – не попадая от волнения в штаны Ларик прыгал на одной ноге, сразу и резко протрезвевший,
– Ищи быстро. На улице самая темень ещё. Давайте, давайте одевайтесь быстро, каждая минута на счету, Роман, ты что? Решил яйца отморозить? Штаны-то найди, – Ворот командовал, как будто всегда только тем и занимался, что разыскивал отставших пьяных приятелей. Все уже надели ботинки и сапоги, а Ларик всё возился, рыща на полках в поисках фонарика.
– А это чьи сапоги стоят? – спросил Строгин, привыкший своих пацанов по обувке считать.
– Это Подсвечника ботинки.
– Я не про эти, эти я сам знаю чьи, я про вот эти, – Строгин показал рукой на аккуратно стоящие на полочке для обуви видавшие виды сапоги со сломанной молнией.
– Это? Да это Сергунины и есть, сдаётся мне… – Ванятка обомлел: «Я чо, вместо Сергуни только его сапоги принес?! И так вот поставил?!»
– А это у тебя спросить надо, чо ты принёс. Ты его волок?
– Не только я. Ещё с другой стороны кто-то помогал.
– Кто?
– Да почём я знаю, кто? Все по очереди помогали. Только эти вот, – Ванятка показал рукой на Ворота, – всё время в обнимку шли, отщепенцы.
– Ага, теперь мы и виноваты, – Ворот был в неистовстве. – Мы для устойчивости под руку просто шли… вчетвером. Ларик, да где ты там? Сергуня, оказывается, и без сапог к тому же. Засудят меня нафиг с вами. Да засудят – это-то х*й с ним! Этому идиоту ноги же отх*ячат замороженные! Чтобы я с вами ещё раз…. Это ж вся моя е*отень из-за вас к пи*дям собачьим зах*ячилась!
В это время из ванны, где Ларик на полке искал запропастившийся, как назло, фонарик, раздался дикий вопль, грохот и потом придушенный крик. Все рванули в ванную.
Ларик лежал в ванной, на нём лежала полка и все чемоданчики и коробки со всякой обычной копившейся долгие годы на всяких полочках в ящичках хренью. У Ларика были выпучены от ужаса глаза, а под ним что-то барахталось выло и хрипело, как собака Баскервилль на привязи. Ворот и Роман выдернули из ванны обалдевшего от неожиданного падения Ларика, а под кучей барахла кто-то судорожно икнул и застонал. Когда разгребли упавшее, обнаружили в ванне, на куче собранного неизвестно откуда шмотья, замотанное в махровую простыню голое тело, уткнутое мордой в сливное отверстие дна ванны. Судя по «счастливой двойной» макушке – это был Сергуня.
– Сибарит, однако, – заметил Ворот, давясь от хохота. А Сергуня уже снова спал. Одежду он аккуратно повесил на стиральную машинку. Он вообще был аккуратистом.
Мужики вывалились в комнату, держась за животы, и почти беззвучно ржали до слёз и колик в животе, расслабляясь после шока неминучей беды. В дверь позвонили. Все замерли.
– Это соседка нижняя, больше некому тут со сранья шарахаться, – сказал Ларик, вытирая слёзы. – Ну конечно! Как эта мымра могла пропустить случай навести порядок, когда все нормальные люди ещё спят, а тут такой гром и ор?! – тихо ругаясь про себя, Ларик пошёл открывать.
Да, это была соседка снизу из десятой квартиры. Чтобы «продлить себе жизнь», она вставала каждый день в пять утра и ложилась спать, чтобы правильно вырабатывался какой-то там «витамин жизни», в девять часов вечера. И таким образом сокращала жизнь всех соседей вокруг, потому, что у неё слух был, как у кошки, и чуть стоило музыке погромче в телевизоре зазвучать, как она начинала оглушительно стучать по батареям, будя всех, уже уснувших.
– Вот на кой фиг она так рано спать ложится? Всё равно не спит, – возмущался Ларик, прикручивая регулятор на телевизоре, по просьбе мамы.
– Ларик, это ты? Что тут у тебя происходит? – и, отодвинув властной рукой в сторону этого выросшего на её глазах лоботряса, соседка бесцеремонно вошла в гостиную. Увидев столько валяющихся на полу и тихо ржущих полуодетых мужиков с красными от смеха лицами, задохнувшись от стоящего в комнате сивушного смога, она, взвизгнув в ужасе, выскочила за порог: «Боже, как расстроится Лирочка!» – шипела она, капая себе успокоительное на своей кухне.
Согрели чаю, открыли форточку, достали банку с вареньем, нашлось печенье и сахар. В семь утра Ворот позвонил в правление, чтобы их там не теряли, так как по распоряжению райисполкома им будут шить по два костюма, и в ателье вчера не успели сделать все замеры, так что они прибудут не ранее двух часов дня. Даже Строгин успокоился, раз Ворот взял весь огонь на себя. Да и что ему его не взять, когда у него такой щит, с чернобуркой на голове, имеется.
– Слушай, Ларик, а как у тебя шестнадцать-то получилось? – язвительно спросил его Ванятка, самый пострадавший,
– Так я же себя не считал. Чо мне себя-то считать? – ответил, поперхнувшись Ларик и довольно захохотал.
По правде говоря, хорошо, что иногда родители бывают далеко и не знают, по какому льду скользит их сынок с друзьями. Нервы целее остаются. Обошлось же? В молодости тело иногда вовлекает своего хозяина в такие, невообразимые и невозможные в нормальном психическом состоянии приключения, что по прошествии лет диву даёшься: «И как я выжил тогда, не погиб, не пристукнули, не взорвался, с ума не сошел?»
А потому, может, и выжил, что сумел довериться умному инстинкту, а не глупому экзальтированному уму? И выжил, и поумнел… немного.
С шитьём костюмов к мужикам пришла уверенность, почти мистическая, что теперь-то уж точно всё получится, и Ларик с Ираидой душу, конечно, из них вытряхнут, но хор сделают отменным. Даже несмотря на вопли Пятакова.
Нет, директор совхоза Пятаков Захар Архипович, был не против художественной самодеятельности.
– Ни боже мой! – как говорил он, чтобы ему и правда поверили, что он не против хора.
Он был против разбазаривания квалифицированной рабочей силы и использования её не по назначению.
– Вы поймите, это же пятнадцать классных специалистов! Кого я на их место поставлю? А зарплату им кто будет платить? Вы? – резонно спрашивал он кого-то по телефону. Услышав ответ, Пятаков сник. Да и что другое можно было услышать из уст председателя райкома?
– Да, понятно. Да понятно, что такое раз в сто лет празднуем! Хорошо, мы подумаем, но и вы нам помогите. Наша заявка сколько уже в отделе снабжения исполкома лежит? Посевная через четыре месяца! Вы понимаете, что вы меня без ножа режете? И ещё! Вы нам со стройматериалами обещали помочь. Чем я новый универмаг достраивать буду? Ну,… так ещё пойдёт, – не слишком быстро соглашался Пятаков, лихорадочно вспоминая, что ещё можно сейчас выцыганить, пока секретарь немного сдал на попятную. – Но ты там себе это отметь, – резко переходя на «ты», когда чувствовал явную слабину, заявлял твёрдо Пятаков, – я на следующей неделе подъеду за подписью. А ты как думал? Вы меня поимели, ну и я вас. Да разговаривал я с нашим парторгом, дружно мы с ним живём, изворачиваемся тут, как ужи на сковородке. Были МТС – мы заботы раньше не знали… Да не критикую я линию партии, просто думаю, как комбайн вот мне купить, на какие такие шиши? Ага, щас! Кредит! За кредиты тоже платить надо. Ну и всё! – Пятаков хлопнул трубкой по телефону.
– Много вас там начальников на нашу голову. Навытяжку сейчас можно и не стоять. Раньше, если бы не продналог, хлебом бы засыпались, теперь скотину кормить нечем, только кукуруза ваша нас и спасёт. Как же! Щас! Ладно, хоть от подворья отвязались, – тихо и бессильно ворчал Захар Архипович. Столько над ним пронеслось всяких реформ и модернизаций, что он давно понял, надо отсидеться по мере возможностей, переждать, перетерпеть все эти вихри усовершенствований, слияний и разделений, а то долго он так не протянет, а так хотелось с удочкой бы на бережку посидеть на пенсии иногда. А с хором? Ну что? Блажь очередная. И откуда у Воротова такие связи? И костюмы им пожалуйста, и клуб под орех отделали, и инструменты с книгами привезли. Одна приятная надежда поселилась в сердце Пятакова – несколько девчонок крепенько к себе солдатиков-танкистов привязали. А это ж – трактористы готовые! Пятаков в каждом мужике прежде всего работника видел, потом уже человека.
Директор из принципа не ходил слушать хор: «Ещё наслушаюсь! Тут голова и так трещит: и за репетицию зарплату выдай, и отпусти по первому требованию. Всё обеспечь. А посевную – это уж как водится – никто не отменял. Прям, как «рязанский герой», царство небесное дураку. И без славы бы обошлись!
Уж хотите петь, так шли бы в музыкальное училище какое. А так только время напрасно тратят, балду бьют. И кто за всё это расплачиваться будет? А придётся. Это уж, как пить дать, придётся!»
Забыл постаревший Захар Архипович, что везде бабу искать надо, как французы говорят. Не иначе.
Завертелось, закружилось вокруг Ларика и его хора манящее марево успеха. Работали до поздней ночи. Жены ворчали, просыпаясь от прикосновения холодных мужниных ног, втихаря подлезавших под одеяло во втором часу, когда вот-вот петухи уже запоют. Почти каждому не раз было предложено оставаться ночевать в клубе. И только Раечка, Ванятки Мятлева жена, не ворчала, проснувшись среди ночи, а с пользой для себя и мужа использовала оставшиеся силы первого баса хора. Бас был у Ванятки. А так никто и не сказал бы, что на этакое он способен. Душа аж дрожала, когда он «заводить» начинал!
Ларик был, как в горячке. Ставили с Ираидой новые песни, расширяли репертуар, распевали голоса. С некоторыми Ираида стала заниматься отдельно, кто запевалой был или сольный фрагмент имел. Особо занимались казачьим репертуаром. Созрели мужики до него, распелись хорошо. Ларик и Ираида пользовались любым случаем, чтобы обкатать на людях хор. Собрания, заседания местного, и не очень местного, масштаба сопровождались хоровым пением. Скоро хор стал неотъемлемой достопримечательностью Пыталовского совхоза, и даже Пятаков смягчался, слушая стройный лад голосов. Мужики перестали так краснеть и бледнеть от волнения, как сначала, поверили в себя, даже начали носы драть. Но для самочувствия и успеха, некоторая самоуверенность гораздо полезнее скромности и сомнений.
Жены певцов непременно сидели в первых рядах и всячески демонстрировали товаркам свою причастность к такому замечательному факту. Особенно, когда была возможность взять мужа под руку, если он был в смокинге. У Ларика был фрак. Ворот настоял.
Решающим испытанием для Ларика и его певцов стало выступление с концертом у щедрых шефов накануне празднования Дня Красной Армии и Военно Морского Флота.
К слову, план продаж у магазинов был уже выполнен за десять дней до праздника. двадцать третье февраля – день, когда все женщины Советского Союза поздравляли своих защитников и дарили им подарки. Широко праздновали. Да чтобы женщины не постарались для мужчин?! Да чтобы зажали такое?! Да ни в жизнь! Одеколоны, носки, носовые платки и рыболовные снасти, фонарики, коптильни и туристические принадлежности, топорики и перочинные ножи, месяцами пылившиеся на складах, сметались за несколько дней.
Разумеется, дарили и дорогие подарки. Это уж – кто и какие цели преследовал. «Отделаться попроще» – было наиболее массовой мотивацией в рабочих коллективах.
Но особо любимым…
Произвести впечатление, обескуражить, обязать… Ольга Павловна решала сразу все эти три задачи. Она купила в подарок Леониду перстень с черным топазом. Этот подарок не вмещался ни в какие рамки партийной этики и идеологии, отдавал сильным привкусом снобизма, вычурности и мещанства, но кто же о нём узнает? Дарили же ей немецкое кружевное нижнее бельё на восьмое марта? Да, некоторые могут себе позволить всё. Главное, чтобы это осталось в узком кругу допущенных.
– Всё равно на всех не хватит, так и нечего гусей дразнить, – усыпляла окончательно свою дремлющую совесть Ольга Павловна. – Меньше знают – крепче спят, как говорится. Видели бы эти маргиналы, что есть в распределителях! Совсем бы спать перестали, гоняются тут, как шальные, за золотишком дешевым… «Народ и партия едины – раздельно только магазины», как говорится. И что же теперь мне ждать в ответ? Вот сразу, дружочек, мы тебя и проверим за двести целковых. Каков ты на самом деле? И почему мне так жестко жить с тобой кажется, когда ты, вроде, мягко стелешь? И если ты мне не кольцо, а вазу какую-нибудь для цветов подаришь, то я эту вазу о твою голову и разнесу! – заранее «заводилась» Ольга Павловна, не получая от Воротова никакого намёка на серьёзные отношения. – Он всегда так мил, сволочь! Уже три месяца – просто очаровательно мил!
На концерт в N-ской части Ольга Павловна, конечно же, приехала, была начальственно важна и снисходительно принимала лёгкие знаки внимания: от просто заинтересованных мужских взглядов до галантного «прикладывания к ручке». Здесь же были ещё несколько товарищей из обкома, с которыми Ольга Павловна была неплохо знакома, но эти приехали по другому поводу, не просто на концерт. Как-никак, это был государственно-важный праздник, идеологическую значимость которого надо всемерно поддерживать, поднимать настроение защитников Отечества. Собрался, так сказать, небольшой круг лиц, в компетенции которых было если и не принятие, то уж точно подготовка, многих решений.
С Леоном Ольга держалась здесь подчеркнуто независимо и холодно, как с коллегой, не более того. Но на концерте они сидели рядом, необходимо было обсудить всё, что они сегодня увидят. В какой-то степени это было экзаменом и для Ольги Павловны, многие были наслышаны об её инициативе.
Закончилась торжественная часть с приуроченными к празднику повышениями, назначениями, представлениями и поздравлениями. Для военных людей – это особый праздник, и здесь, может быть впервые, Ольга почувствовала, как неуместны эти «бабские подарочки» мужчинам. Здесь самым дорогим подарком были слёзы гордости и признательности на глазах жен военных чинов части, матерей и невест, допущенных к торжественному концерту. Здесь всё было иначе, чем в городе, где поздравляли всех мужчин без разбору. Там это был отчасти просто «мужской праздник», здесь – это был праздник доблести и долга, и по духу нечто сродни торжественному концерту в Кремлёвском Дворце Съездов.
– Леонид, я вот думаю, почему репертуары многих ансамблей очень похожи? Ведь столько песен есть! Неужели нельзя быть разными совсем?
– Почему нельзя? Можно. Только осторожно. Я думаю, что на всенародном празднике уместны любимые, известные песни, они тепло встречаются, подпеваются и не обманывают ожиданий. И их не так много по большому счёту. Абсолютно новое могут и не принять в такие моменты. Или уж это должно быть нечто из ряда вон выходящее, сразу прилипающее. Как «Смуглянка», например. Есть такие вещи – стопроцентное попадание в душу. Музыка – это чистая энергия эмоций без переводов и объяснений попадающая прямо в сердце. Поэтому ошибиться нельзя. Нельзя обмануть людей, хорошее старое лучше, чем сомнительное новое, по-моему. А вы как думаете, товарищ Синицына?
– А я думаю насчёт вашего репертуара, товарищ Воротов. Это же полная противоположность тому, о чём вы только что сказали. Я и названий этих не знаю, – Ольга Павловна раздраженно ткнула рукой в список, данный ей Леоном. – Я правильно понимаю?
– Да, разумеется. Но мы, ведь, из деревни. Не пуганые пока. Самородки неизвестные, так сказать. Кстати, этот наш специальный репертуар тоже годами отбирался и копился, только все забыли про это. Вот мы и напомним. Но мы же и по патриотическим песням перевыполняем план, согласны, суровая Вы наша?
– Поживём, увидим. Но если ты меня подведёшь… – прошипела Ольга обещающе и зло.
– Ну-ну. Ничего. Если тебя уволят, я тебя на работу в наш клуб устрою, – Леон, улыбаясь одним уголком губ, скосился на Ольгу, и чуть не поперхнулся своей шуткой. На него уставились бешено злые глаза.
– Чего это она сегодня такая злющая и надутая? Из-за знакомых что ли? – то тут, то там с ней постоянно здоровались и раскланивались. – Может быть, мне от тебя отсесть, пока не поздно? Я компрометирую тебя своим присутствием? – полуутвердительно спросил Леон.
– Не говори глупостей. Мы здесь работаем.
– А-а. Ну ладно тогда. Тогда работаем.
Концерт двух хоров напоминал скорее шутливую и праздничную дуэль песенных фейерверков. Такая игра сложилась внезапно и всеми была принята. Весело и охотно. Один хор, исполнив две-три песни, уходил за кулисы, и его сменял соперник. Вопреки опасениям Ольги оба хора принимались одинаково тепло, несмотря на то, что свой, армейский, был, конечно, гораздо проще, но роднее большинству присутствующих. После перерыва с бесплатным ароматным чаем и пирожными началось второе, лирическое, отделение концерта.
Когда на сцене в первый раз появились «пыталовцы», у Ольги вытянулось лицо. Она никак не ожидала увидеть «это». Она представляла себе фольклорный ансамбль в шароварах, рубахах и сапожках гармошкой, мужиков, ладно оправляющих вышитые пояса на талии. А женщин, если таковые окажутся, непременно в сарафанах и с косами. Так было принято, везде и всегда. А тут в кружок встали одни мужики в синих казацких гимнастерках и штанах, перетянутые в талии и наискось, через плечо, ремнями и портупеями, в черных лохматых папахах, с красным перекрещенным донцем и в хромовых сапогах, ладно пригнанных по ноге, явно военного образца.
Когда неожиданно, под звуки негромкого задумчивого наигрыша Тимохиной гармошки запел Роман Лавров своим сильным и твёрдым баритоном: «Как за Черный ерик, на высокий берег…» – и тут же Ванятка подхватил густым и негромким басом, явно сдерживаясь, как бы задумчиво: «…выгнали казаки …», и тут подхватил влёт Серёга Бердников сухим, жестким тенором с хрипотцой: «сорок тысяч лошаде-е-ей….» – зал замер…
И тут все дружно протянули тоскливо и безнадежно: «… и покрылся берег, и покрылся бере-ег…» – и вдруг один голос молодой, высокий и отчаянный оторвался и взвился, как от удара кнута «А-а-а а-а-аа» и зашелся в стоне, в смертельном почти восторженном стоне конца жизни: «сотнями порубанных пострелянных лю-ю-де-е-й..» – песня почти оборвалась и вдруг совсем тихо продолжилась, повторяясь задумчиво и определённо: «… и покрылся берег и покрылся берег сотнями порубанных, пострелянных людей….» – а звук тоски, удали и несбывшихся надежд «а-а-а-аа» тихо сошел на нет, смиряясь с неизбежным, неотвратимым, предначертанным.
Баритональный бас Ларика чисто и твёрдо повёл дальше: «Любо, братцы, любо, нам на свете жить….», – голос рос, утверждал, поднимал, ободрял и звал: «….с нашим атаманом не приходится тужи-и-ить.»
И уже совсем уверенно, весело и бесшабашно, презирая страх, боль и отчаянье, настойчиво встряхивая всех подхватил бас Ванятки, а за ним и все постепенно, каждый со своим чувством, чуть отставая или чуть опережая, свились в песенный жгут: «…любо, братцы, любо, любо братцы жить …»
Голоса пели, как бы играя с витающей вокруг смертью, дразня её своей решимостью и бесстрашием, готовностью ко всему.
Леон каждый раз, слушая этих знакомых и таких обычных мужиков, ощущал холодок текущий по спине. Уж сколько раз слышал, а – не привык. Этот мальчишка Ларик, пацан, можно сказать, чётко чувствовал струну жёсткой казачьей души, живущей вольностью и отчаянной дерзостью, и трагической предопределённостью своей судьбы.
Ларик перед тем, как начать разучивать песню долго разбирал её по фрагментам, по словам. Иногда мужики так и просиживали весь вечер, просто разбирая песню, выискивая всегда главный, обычно трагический смысл сложенной песни, настраиваясь на неё.
Весёлыми у казаков были только свадебные, шутливые да матерные песни. Тут, в Берлушах, почти у всех предками были казаки. Не по книгам они знали уклад казачьей жизни. Ванятка принес дедову фуражку с красным околышем, за которую в хорошие времена и в какой-нибудь Челяблаг бы недолго было загреметь, и надел её на себя, залихватски выпустив набок чуб. Ларик отыскал у деда в записях слова и распевы казачьих песен самых гонимых казаков – уральских.
К слову, слишком долго казаки тут огрызались на Урале, сдерживая красных. А чему удивляться? Этот суровый неприветливый край мог быть покорен только такими же суровыми, мало приветливыми и упертыми людьми. Не все могли тут жить – на окраине державы, сдерживая степных разбойников, предающих стреле, мечу и огню всё, что поддалось. Поэтому и не поддавались казаки, пока замертво не падали. Нельзя поддаться, подвести братцев, что на тебя надеются, не выжить иначе. Насмерть стоять! Славяне и вообще отличаются этой чертой, ну а те, кому на границе приходилось жить, и вовсе не понимали: «Как это можно – отступать? Позади-то бабы с детишками.»
Много об этом говорили мужики, возрождая песни забытые. Иногда для куражливой дури и настроения распевались охальными, матерными песнями, хохотом прочищая горло, выгнав предварительно из зала малолеток. Ираида только рукой махала и уходила пить чай, пока эти «взрослые дураки» не перебесятся.
Ларик добивался, чтобы пели душой, а не по нотам. Неожиданно все стали приносить на репетиции разные распевы. К концу разучивания получалось так, что один начинал песню, как бы приглашая сотоварищи, а другие как бы нехотя, как бы невпопад, подхватывали, каждый со своего места, и каждую строфу каждый любовно обволакивал своим голосом и чувством, мял её, смаковал, нежил, тискал и лелеял. Но всегда куплет кончался стройно и строго. Враз.
Каким чудом этим, давно уже советским, русским парням и мужикам удалось настроиться на давний музыкальный лад дедов, безупречный по выразительности, строю и согласованности, Леону так и не было понятно, это всё осталось за кадром, они пели «влёт», на ходу играя вариациями, и владел этим осознанно только Ларик.
И сейчас тут, на сцене перед военными в современных парадных мундирах, пели тоже вояки, но одетые в старинную военную форму, наводившую некогда ужас на противников Руси-матушки. Казалось, песни тут пели казаки старинные, стоявшие стеной за Русь, не жалевшие для неё ничего. Они пели, и все в зале чувствовали себя их братьями и сестрами.
А Ларик плавал в этой, казалось бы, какофонии звуков, присвистов, разудалого уханья и разбойничьих окриков, отрывающихся вдаль от песни, стонов и ухарских припевов, как в своей родной стихии и выруливал всё это многоголосие точно и вовремя к изящной и сильной мужской жесткой концовке. У него был несомненный дар. Леон перед ним сникал в восторге и упоении, не менее, чем Настя, от природы одаренная чувством гармонии вообще.
«Да… гармония всегда и во всём. Во всём…», – эту нацеленность некоторых девчонок с пушистыми колечками на шейке Леон уже давно принял, как свою истину.
Хор приготовил несколько самых любимых и известных песен. От трагических, военных строевых и до шутливых с перебором, почти бормотанием слов песни в присказку, шуточных игровых и плясовых. Но все они были мужскими песнями, с мужским удальством и наивной наглостью, с мужским понятием любви и чести. И каждый конечный аккорд песни звучал жестко, определённо, не предполагая участия женских голосов. Это пели казаки на марше, оторванные от любушек, с настоящей тоской и жаждой любви.
Леон долго хохотал над предконцертным «приказом» Ларика: «С бабами две недели не спать, к себе не подпускать. Скучать по-настоящему. Вот споём, – тогда на все четыре. Хоть у*битесь нах*р!», – такое требование в музыкальной практике Леон встречал впервые.
От голосов этих мужиков в лохматых папахах женщинам в зале хотелось плакать. Некоторые и плакали. Украдкой.
Незаметно Леон стал посматривать вокруг. На пылающую гневом Ольгу он не обращал ни малейшего внимания: «Что с дуры возьмёшь? Хоть бы не вздумала поперед батьки в пекло лезть за пирожками».
Лица мужчин светлели и размякали. На такой старинный мужской клич самоотверженности и самоотречённости братского воинства никто из нормальных собратьев по духу не мог не отозваться. Эти парни на сцене неожиданно прорезались из прошлого чистыми и настоящими голосами русских мужиков, тех, что всегда подставляли себя, обороняя рубежи, и погибали первыми, осознавая, что если так на роду написано – так и быть тому. Другие ж тоже обязательно встанут? И в порядке будут их жены и дети, а потом их черед придёт кровушкой платить за спокойствие Руси-матушки. Испокон так-то. Никого не минует.
Последние слова песни: «Грянула команда…. да… забыли про меня… Мне досталась пыльная горячая земля….» – хор под конец пел совсем тихо, оберегая святой покой и память погибшего героя. Ларик издалека и тихо снова повёл задумчиво: «Любо, братцы, любо, нам на свете жить, с нашим атаманом не приходится тужить!» – и тут молодой, почти наивный ясный тенор Николки Маслова борзо подхватил, распевая всё громче, как бы стирая в памяти горечь неизбежной и обязательной утраты: «Любо, братцы любо…» – и снова взвился своим «А-а-а-а-а» нескончаемым и неизбывным живым, стегающим, летающим на толпой голосом Васька Жилин, совсем молодой парень из механиков, и тоже смолкшим вместе со всеми дойдя до тихого задумчивого «эха».
Несколько секунд зал молчал, как от неожиданного удара. А потом взорвался. Все встали с мест, хлопали, что-то кричали, свистели.
Леон посмотрел краем глаза на Ольгу, та бестолково хлопала глазами и пыталась уловить, как и кто реагирует. Постепенно пятна с её шеи исчезли, и она, как бы извиняясь, или делая вид, что так и надо, незаметно толкнула Леона в бок и спросила, пытаясь сквозь шум криков и аплодисменты говорить так, чтобы Леон её расслышал: «А на сколько голосов они пели?»
– А какое это имеет значение? Ну, если тебе так это важно для отчета, напиши: «на шестнадцать. Нет, на семнадцать. Гармонист тоже пел.
Ольга, улавливая плохо скрываемую иронию, надулась и больше с Леоном в тот вечер не разговаривала. Да и некогда ей было. Со своего места она то и дело ловила бросаемые в её сторону одобрительные кивки, знаки руками, поднятые вверх большие пальцы и шутливые укоризненные покачивания головой: «Как же это ты, голубушка, сумела такое в тайне держать!»


