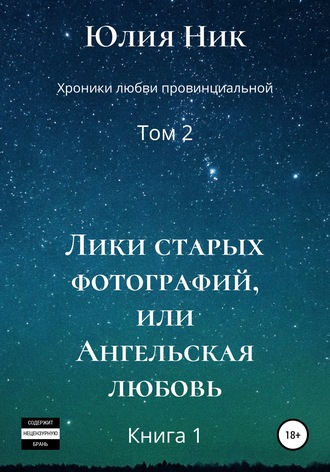
Юлия Ник
Хроники любви провинциальной. Том 2. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь
– Не глупи. Просто у тебя сегодня настроение не очень хорошее. Но вроде ещё рано? Или я ошибаюсь? – спросил Леон, притягивая её к себе.
«Черт! Вот как он так делает, что я сразу хочу его и готова всё простить?» – тая от его рук, как снег на плите, подумала про себя Ольга, а вслух сказала: «Не ошибаешься. Рано. Кстати, ты мне так и не сказал, зачем тебя мать вызывала к себе? Здорова? Надо помочь?»
– Не надо. Она сама, кому хочешь, помочь может.
– А что же её сын в такой дыре баклуши бьёт, извиняюсь, конечно?
– А вот этого мы касаться не будем. Да? Я тебе уже говорил, что это – моё личное дело.
– Но дело же не в этой девочке?
– К сожалению – нет.
– Почему «к сожалению».
–А помнишь, Пушкин наш как-то сказал: «Чистейшей прелести чистейший образец!» Вот это – про неё.
– С ума сойти! Да ты романтик у нас. Ты в отцы ей годишься, между прочим.
– О чём всемернейше и сожалею.
– Твоя муза, значит, так сказать?
– Угу. Она самая. Ты чай-то пей, скоро звонок будет. Почему ты молчишь про хор? Ты же для этого приехала?
– Ну, не только для этого, разумеется. А тут муза… Так неожиданно…
–Да перестань. Она влюблена в своего спасителя-покровителя до его последней волосинки.
– В кого это?
– Разве не видно? В Ларика своего. Ну, что ты брови так изогнула? В Арсеничева. Я же тебе рассказывал, как он её буквально спас от…
– А-а-а, припоминаю. Ладно, не будем об этом, любуйся своей музой, только не так откровенно.
– Я? Откровенно?!
– Да, представь себе. И не только у меня глаза есть, между прочим. Пойдём слушать дальше. В принципе ничего. Я думаю, пойдёт.
– Поедет! Вот увидишь.
Второе отделение состояло из народных песен и романсов. Артисты, ободрённые парой чашек теплого чая с лимоном и с беляшом, вышли на сцену в «другом костюме», как шутил Леон. На шее у каждого из них теперь была бабочка, обычная концертная бабочка, только все они были разного цвета, всех цветов радуги (тогда это ещё никак не ассоциировалось с гей-парадами и их знаменами). На заднике тоже были прикреплены бабочки разных цветов, разбросанные среди снежинок. И от этого казалось, что над хором что-то веселенькое порхает.
Ираида Ивановна тоже была уже в другом вечернем платье. В этот раз – в красном. Вот когда пригодился её театральный гардероб!
Лирические песни пели в классической манере, верхний ряд, стоя на помосте. А вот на казачьи песни потомственные казаки вышли в полукруг и пели их так, как года-то пели их отцы и деды, многоголосием. Вольно и широко, «сладострастно и губительно», как сказал Леону однажды «под рюмочку» молчаливый и сентиментальный Окороков. Его до слёз прошибало это сохранённое кем-то пение казаков, русских военных мужиков, годами певших свои походные, рыдающие от тоски песни. Над залом пыталовского дома культуры сегодня победоносно снова зазвучали старинные песни казаков, разудалые военные, радующие и бодрящие своей военной наглостью и уверенностью, озорные мужские задорные молодецкие песни и песни любви к своим любушкам, оставленным на родине, рвущие тоскующей страстью сердца слушателей на части.
После каждой песни долгие аплодисменты не давали начинать следующую. Ларик кланялся, уже успокоившийся и понявший, что первый трудный шаг преодолён. Он поглядывал в зал, привычно находя в зале Воротова, рядом с той, с «чернобуркой» из города. Иногда они о чём-то переговаривались, она улыбалась, но однажды Ларик поймал её злой и ироничный взгляд направленный на Леона, который навалившись на спинку впереди стоявшего кресла и упершись подбородком в кулак, улыбался и смотрел Настю, забыв, казалось, обо всём в этой толпе.
– Вот козёл! – Ларика это взбесило. – Тут вопрос о хоре решается, а он снова о Настьку глаза дрочит.
Но потом весь остававшийся концерт Леон всё время о чём-то разговаривал со своей соседкой из города, и Ларик почти успокоился: «Надо с ней дома поговорить, чёрт знает что! Чуть из кресла не выпрыгивает от радости. Глаза ярче прожектора светят, как маленькая, ей богу. Но чего этот-то так на неё смотрит? Баб, что ли, мало? Чего он в ней нашел? Вот ещё напасть на мою голову, – Ларик устало кланялся, не теряя из виду Воротова и его городскую гостью, пока те не вышли из громко орущего и одобрительно, по-свойски, свистящего зала.
–Ну, что вы теперь скажете, Ольга Павловна? – наливая ей горячего чаю в кружку, церемонно спросил Леонид.
– «Удовл.» Пока только так. Как хочешь. Сердись-не сердись. Но – «удовл».
– А, по-моему, это ты просто сердита сегодня. Почему «удовл»-то только?
– Нет, а что ты хотел от меня? Эти дурацкие бабочки! Это же посмешище!
– Ольга, ты не забыла, что это была развлекательная часть концерта для жителей села в Новый Год? Это не торжественное заседание в вашем обкоме или ещё где-нибудь. Это Новый Год. Праздник такой есть. С ёлочкой и подарками. Понимаешь?
– Могли бы всё равно что-нибудь посолиднее придумать. А то, – как шуты гороховые на ярмарке.
–Ты не о том сейчас говоришь. Как они поют? Я об этом спрашиваю тебя.
– Я ничего в этом, честно говоря, не понимаю. Но неплохо вроде. Поэтому «удовл».
– Понятно. То есть, если бы тебе какой-нибудь эксперт от хоровой музыки всё разжевал, ты бы её, музыку эту, значительно лучше прочувствовала. Да? И если бы они были в народных костюмах, – тоже было бы доходчивее? И если бы они в чёрных тройках и лакированных ботинках стояли – то звучали бы гораздо лучше? Я правильно тебя понял?
– Ну, в общем – да.
– Ну, так я только перечислил оставшуюся часть задачи – про костюмы и грамотное жюри. Это твоя часть. Об этом сразу договаривались. Так что вы на себя сердитесь, дорогая Ольга Павловна, – тихо проговорил Воротов, подойдя сзади и прижимаясь губами к её шее, пахнувшей этими странными, «химическими», как про себя обозвал их Леон, духами.
– Ты так специально делаешь? – она повернулась к нему, ловя его губы. – Ты обезоруживаешь меня, – прошептала она, обнимая его.
– Я не специально… – сказал он, плотно прижимая её к себе, а потом, смеясь, добавил: «Я нарочно так делаю и с нетерпением жду костюмов. Иначе твой эксперимент в отдельно взятом селе с треском провалится. Я правильно понимаю?»
– Ты – мерзавец! Всё ты правильно понимаешь. Будут тебе костюмы. В субботу жду, – Ольга вывернулась из его рук и оттолкнула его. – Всё, не приближайся! Только шубу подай и не прижимайся ко мне.
– Да, пожалуйста! – Леон с улыбкой подал ей шубку, держа её на вытянутых руках. – И шапку пожалуйте. Пойдёмте, я провожу вас до машины, ослепительная.
Всю дорогу до города Ольга пыталась понять, что же такое этот Леон Воротов? В какую игру он с ней играет? Или она с ним?
Так ни к какому определённому выводу Ольга Павловна и не пришла.
Леон взбежал по ступенькам клуба, навстречу ему, застегивая на ходу пальтишко, выскочила Настя.
– Леон Сергеевич! Как же здорово они пели! Да, ведь?
– Здорово, Настюша! Очень здорово они пели. Ларик где? Ты одна домой идёшь?
– Ларик Вас там ждёт, меня домой отправил. Сказал, что я не умею себя вести в приличном обществе! – и Настя весело рассмеялась. – Я так переживала, так переживала, просто ужас, как!
– Нормально ты переживала, как надо, от души. Ну, беги, пока народ в ту сторону идёт. На кино не все остались. А то оставайся, потом вместе пойдём?
– Нет. Я это кино три раза смотрела, наизусть помню. Бабушки ждут, тоже волнуются, побегу расскажу.
– Ну, иди, иди, – Леон смотрел ей вслед. – Надо бы Димку, что ли, за ней послать приглядеть. Пьяни сегодня много. Чёрт! Как же я забыл-то! – он хлопнул себя по карману, ощутив там пакетик, и не на шутку расстроился. – Ладно, завтра отдам.
На ловца и зверь бежит – из клуба выходил Димка.
– Эй, Димон, не в службу, а в дружбу догони Настю, только что пошла домой, проводи и скажи, что завтра я её часов в двенадцать днём жду здесь перед утренником. И картошки сварите, я к вам загляну сегодня, надо Новый Год приманить немного.
– Ну? Что она сказала? – Ларик, ещё возбужденный приёмом зрителей, с воодушевлением схватил Леона за рукав.
– Пойдём, поговорим в тишине, – Леон вдруг почувствовал, как он сегодня устал. Устал играть с Ольгой в поддавки, устал от людей, устал от того, что сейчас вынужден будет спокойно говорить с Лариком, который небрежно отпинывает с дороги к своей славе, обуянный честолюбием, ослеплённый своей целью добиться успеха во что бы то ни стало, такое хрупкое и неповторимое чудо – чувство этой девочки, до которой ему, похоже, нет никакого дела. А он, Воротов Леонард Сергеевич, взрослый, уже столько понимающий в этой жизни, хитрый, циничный и даже местами умный мужик, ничего не может сделать для неё. И ничего не может с собой поделать, и, уж тем более, забыть о ней не может.
– Садись, Ларик. Чай будешь?
– Нет, – Ларик насторожился, по голосу друга поняв, что не слишком рад ему Леон. – Мы там с мужиками пили уже. Чай.
– Да сегодня можно и не только чай. В общем, поздравляю тебя. Удовл.
– Что удовл? – не понял Ларик.
–Это значит, что всё удовлетворительно. Очень ей ваши бабочки не понравились. Чирикают и порхают слишком, говорит.
– Ну-у-у… это уж…. А, по-моему, ничего. Чо мы ещё-то могли? Ладно, хоть брюки были у всех черные, тоже не у каждого есть. Доставали.
– Да я заметил, во втором ряду у одного пояс на три раза подвернут.
– Ага. У Ванятки. Попались длинные слишком, пришлось подвернуть. А про пение-то она что сказала? Понравилось ей?
– А она ни х*я в этом не понимает. Так, изображает из себя крутого знатока, а сама нот не знает и «до» от «ля» не отличит. Это я тебе абсолютно точно скажу. И также точно скажу, что поёте вы ох*ительно, просто ох*ительно! Готовьтесь к примеркам, трусы новые купите и носки – для примерок. Будут вам костюмы. Два варианта. Классические и казацкие, как договорились. Но пока ребят сильно не радуй. Я не люблю раньше времени «попал» говорить и радоваться сразу. Давай, встанем в позицию сначала и точно нацелимся, – Ворот даже не замечал, что по обыкновению грубо стебется в мужском разговоре. Мысли его плавали в другом, нежном и душистом облаке, пахнувшем духами «Визави», как называли их те, кто не понимал простодушно выспренного французского «Vis-à-vis».
Домой Ларик, как ему казалось, почти бежал, окрылённый своей первой удачей. На самом деле он неторопливо шел, пошатываясь. В голове шумело от выпитой «на обмыв» водки на голодный желудок и ещё добавленного потом шампанского, которое неизвестно где достала Ираида Ивановна специально для этого случая. Всей толпой проводили её домой, на прощанье, несмотря на её протестующие вопли, спели акапельно: «Бывайте здоровы, живите богато….»
– Вы же простудитесь, мальчики! Вы должны теперь беречь свои голоса, они теперь не только ваши, это теперь уже народное достояние! – истерически причитала Ираида в течение всей песни. А ей в ответ мужики громоподобно ржали, – то-то в их холоднющих мастерских они голоса свои сберегут.
– Надо петь, пока поётся! Да и х*ли его беречь? Здесь голосом не пропитаешься, брат! Это только Отс, Трофимов и Гуляев может, да Магомаев ещё какой-то появился тут с «Бухенвальдским набатом». Так то – таланты. Не нам чета, – радостно смеялся Роман Лавров.
На улицах гуляла молодёжь в преддверии завтрашнего праздника. Шатаясь, Ларик брёл к дому, неторопливо перебирая благостными мыслями. Ему было офигенно хорошо.
– Завтра уже Новый Год. Выходной. Элька с Николаем приедут. У бабушек , как всегда, пост. Правда, их постные пироги не хуже мяса, запеченного в духовке. Ну, для нас с Николаем и мальчишками обязательно мясцо сделают. Отец опять не приедет, а мама без него не поедет. Смешно! В моём возрасте у них было уже двое детей. С ума сойти! Ничерта не боялись, – Ларику стало жарко, он расстегнулся и ослабил черную «удавку» на шее. – У Настьки с Воротом разница в двадцать с хвостиком, в отцы годится. И чего он к ней имеет, она же сикилявка совсем ещё? Неужели любит? Старый же он уже нахрен? Неужто и в таком возрасте влюбляются? – Ларик медленно шел к дому по Мостовой улице. После проводов Ираиды они с мужиками, не в силах сразу разойтись, ещё раз прогулялись до ставшего теперь родным клуба и ещё добавили по чуть-чуть, теперь уже «на посошок». Ларику, как главному виновнику, добавляли много раз. – Но глаза-то не могут врать. Глаза… – Ларик отчетливо видел его глаза, когда раскланивался после очередной песни и взглядывал на Леона с его городской «чернобуркой», пытаясь понять, что на уме у этой мымры. А Ворот смотрел на Настю, и на глазах у него были слёзы… точно… были, – хмель немного дурманил и туманил голову, но лицо Ворота Ларик помнил отчётливо.
Потом Ворот прикрыл глаза рукой, а когда рука медленно сползла с лица, оно вновь было обычным, немного вялым. Больше в сторону Насти Ворот не смотрел.
– Что такого в ней? – этот вопрос раздражал Ларику мозг. Он не понимал. Потом решил что-то для себя. – Да не!… Ху*та это всё стареющего долбо*ба, только и всего!
Домашняя суета и радостная встреча отвлекли его от этих нетрезвых и нечётких мыслей. Всю ночь Ларику снились хлопающие двери и бурные аплодисменты с запахом рыбы. Утром он обнаружил в кармане пиджака, висевшего возле кровати, засунутую кем-то из мужиков – он смутно что-то припоминал – несколько рыбок копчёной мойвы в белой столовской салфетке, насквозь пропитавшейся маслом и хлопающую от сквозняка форточку, которую неизвестно, кто открыл. Но, кроме него, это было сделать некому, разумеется. И что теперь делать с пиджаком, насквозь провонявшим мойвой, тоже было непонятно.
В кухне раздавались приглушенные голоса. Настя собиралась на работу, бабули провожали её, наказывая на обратной дороге хлеба ржаного купить, который так любит Ларик. Он посмотрел на часы, зацепленные пружинным, в черной пластиковой оболочке, браслетом на облучок кровати.
– Удобный, зараза, но запястья, бл*дь, от него потеют, как яйца в шубе. Ого…Одиннадцать. А чо не будят? О, черт, да сегодня же тридцать первое, у меня же законный выходной. А Настёна куда направилась?
Ощущение праздника в мыслях Ларика ещё было, а полная самоидентификация организма как-то не наступала, к организму уже примешивалось нечто печальное.
Ковш холодной воды, выпитый им при молчаливом присутствии бабушек, принес некоторое облегчение.
– Ну, как ты, Финист-ясный сокол? – иронично спросила его Марфа. «ясный сокол» – это значило, что его немного просто журили, не ругали.
– Пить ещё хочу. Рассолу бы.
– Не рассолу, а плётку бы тебе хорошую, – проворчала Пелагея, подавая ему стакан с мутным рассолом из-под огурчиков. – Всех собак раздразнили вчера своими песнями тут. Во всём околотке лай стоял.
– Просто они понимают, что мы хорошо поём. Куда Настасья-то упорола? Каникулы же?
–Вот именно, что каникулы. Сегодня утренник там какой-то.
–А, понял… у первачков. Точно, – Ларик сел расслабленно на табуретку, во всём теле должна бы была быть праздничная блажь, но сейчас было в нём и нечто инородное. Когда Пелагея поставила перед ним сковороду с жареными яйцами, он понял, что это такое… Как был в трусах, майке и тапочках – так и выскочил в огородик. Домой вернулся с чёрными кругами под глазами, зеленоватым с лица и очень печальным. Полдня его отпаивали бабушки горячим чаем с какими-то травами, от которых он, наконец, сладко заснул и поэтому не слышал, как охали бабули, восхищаясь Настенькиными бусами.
Глава 10. Подарок
Первым делом Настя зашла к Леону Сергеевичу, как и передал вчера ей Ребрышкин.
– Здравствуйте, Леон Сергеевич. Мне Дима передал…
– О, Настюша! Проходи, дружочек. Да, я вчера забыл тебя поздравить с таким красивым платьем. Оно тебе так идёт, что даже наша городская гостья это отметила. Ты вчера самая красивая была.
– Правда? – глаза Насти заискрились от радости и смущения. – Это Эля меня балует, сестра Ларика. Она мне помогла перешить из её малОго.
– Да?! Замечательно! Обожаю, когда женщины умеют красиво одеваться своими силами.
– А зачем Вы меня звали, Дима мне вчера сказал?
– Я? А-а! Да… – Леон внезапно смутился, вчера это казалось таким простым и естественным, а сегодня то же самое показалось таким вымороченным, натянутым, … но отступать было бы совсем уж противно. – Настюша, я тут нашел одну вещицу у себя. Она давно была куплена, я и забыл про неё. Не откажись принять в подарок к Новому Году. Раньше детям подарки дарили… – Леон явно путался в словах и эмоциях. Всё получалось глупым. Настины глаза смотрели на него, не мигая.
– Я тебе, как дочери, короче, дарю тебе это вместо твоего отца, – Леон протянул ей узенькую синюю картонную коробочку и открыл её, подавая. На голубом бархате лежали сверкающие гранатовые бусы. Камни уменьшались от центра к застежке.
Камни блестели гранями, как тёмные капли крови. Настя взяла коробочку в руки, взглянув прямо в глаза Леону, а ему показалось, что прямо в душу его она посмотрела, – столько вопросов было в них и сомнения. Он спокойно выдержал её взгляд, и даже улыбнулся, поймав себя на лжи. Но иначе с ней нельзя было. Она, как настороженный зверёк, притронулась пальцем к холодному камешку.
– Это гранаты, Настюша, – сказал он, садясь за стол, давая понять, что больше он к этому отношения не имеет. – Носи на здоровье, они к твоему платью очень подойдут, забыл вчера отдать, – буднично сказал он. Сейчас он очень всё правильно делал.
Она улыбнулась. Поверила.
– Но это очень дорогой подарок, Леон Сергеевич. Папа когда-то маме похожие дарил, мы вместе покупали. Папа ещё говорил, что красный считался раньше цветом любви и искал именно красные.
– Да? А я этого даже и не знал. Но точно знаю, что мужчинам их носить не рекомендуется, – он рассмеялся. – Мне их девать некуда, а стоили они тогда какие-то копейки, мне кажется. Да дело не в этом. Они тебе в самый раз, я думаю, будут, ты посмотри, там на этикетке какой год-то стоит?
– Тысяча девятьсот пятьдесят седьмо-о-ой? – удивленно протянула Настя.
– Я же говорю тебе, фиг знает, когда купил. Честно. Сразу не сумел подарить, а потом совсем забыл, а недавно случайно нашёл и не знал, куда их пристроить. Тебе нравятся?
– Очень. Просто очень нравятся. Они будут папу напоминать… Ой! Вам не обидно будет?
–Да ты что, Настюша?! Я рад. Правда, рад. Видишь, как у нас с ним вкусы совпали? Носи, девочка, на радость. А мне сейчас поработать нужно. Давай, беги, там на утренник начали собираться, я слышу.
– Леон Сергеевич, – Настя не знала, как правильно сформулировать всё, что сейчас владело её чувствами, – я Вам так за всё благодарна… правда… Вы мне всегда папу напоминали, честное слово. С Вами так спокойно и просто. Я Вас очень люблю, почти как папу. Спасибо Вам. Они мне очень нравятся. Очень. Я пойду?…
– Иди, иди, Настя, мне поработать надо часика два. Позвонить тут кое-кому. Удачи на спектакле. На днях зайду бабушек поздравить с Новым Годом.
– Только вы раньше Рождества не приходите, у них строгий пост. Вот в Рождество и приходите, шестого вечером это будет, они Вам всегда рады. Я побежала, спасибо! Ой! А можно я их сразу надену? А как они тут застегиваются? – зажав футлярчик подмышкой, Настя накинула бусы на шею, они оказались ей почти под горло, она никак не могла попасть застежкой туда, куда надо.
– Давай, я тебе помогу, – выйдя из-за стола, Леон взял бусы и аккуратно повесил их ей на шейку, откинул с шеи пушившиеся сзади волосы и застегнул, с трудом попадая колечком застежки в замок.
– Ой, спасибо! Они так блестят! – Настя глянула в настенное зеркало около шкафа и обернувшись, счастливо засмеялась и выскочила в коридор. Когда Воротов закрывал за ней дверь на ключ, руки у него заметно дрожали: «Чистейшей прелести чистейший образец», – стучало в голове неумолкающим гулом и дрожью. – Ну и влип же ты, приятель, скажу я тебе по секрету, – прошептал он, тихо опускаясь на стул. – По самые спелые помидоры … Хотя, почему влип-то? Просто вкус остался тот же и она-то – тоже та же. Господи, за что же это мне. Это даже не искушение, – давно уже искусился и насмерть. Это сумасшествие какое-то, Стаси, забери меня быстрее, а?
Все новогодние каникулы Настя целыми днями занималась в школе. По мере сил школа устраивала экскурсии в город, в шефскую воинскую часть, лыжный поход с зимним костром в лесу и горячим чаем. Из последнего похода Настя вернулась с отмороженным пальцем.
– Да как тебя угораздило? Ты же в лыжных ботинках была? Ну носок один бы ещё надела! – Ларик ворчливо, и уже совершенно бесполезно, сердился и ругался.
– Да у меня и так двое шерстяных носков было. Вторые я девчонке одной отдала, у неё совсем дело плохо было, только тонкие носки.
– Ну и дура! Надо было её домой развернуть и на этом дело кончить.
– Ларик, я уже там обнаружила, что у неё ноги совсем замерзли, она их в костёр стала совать. Что я могла сделать?! Конечно, в следующий раз проверять буду здесь ещё.
– Отстань от неё, всё правильно она сделала. Она отвечала за ребёнка и сделала, что могла. А если бы та ноги отморозила? С кого бы спросили?
– И сколько той дуре лет?
– Сколько, сколько… Как и мне. Шестнадцать.
– Ну вот, что и требовалось доказать.
– Да что доказать-то? Может, у неё и сроду носков таких теплых нет? Не у всех бабушки внукам носки вяжут, как нам, – Настя даже не заметила, как причислила себя к бабушкиным внукам, на что Пелагея усмехнулась, и спрятала усмешку, вытирая губы кончиком платка, кипенно белого. – А в поход всем очень хотелось пойти. И очень хороший поход получился, кстати. Мальчишки молодцы: и хворосту нарубили, и костер разожгли, и стоянку хорошо выбрали с поваленным деревом. Они на всю жизнь это запомнят. И мои носки отданные запомнят, а ты просто ворчун старый, и нечего мой палец рассматривать, отошел он уже в воде.
– Сейчас погоди, он ещё и облезет, и почернеет, – утешительно пообещал Ларик. Иначе ему было трудно скрыть, что он на самом деле переживает за Настю.
– Да тьфу на тебя! Чего к девчонке пристал? Ничего не почернеет, сейчас салом гусиным смажем, компресс положим, и через недельку всё, как рукой снимет, прыгать начнет, – Пелагея бесцеремонно отодвинула Ларика, придя из кладовочки с тряпицей и банкой гусиного жира.
Ну, прыгать – не прыгать, а ковылять, стараясь на припухший палец не наступать, Насте пришлось долго. Директриса не упустила случая, чтобы провести воспитательный «момент», как неосмотрительность может подвести товарищей в бою, той девчонке было стыдно. Мальчишки были готовы свою вожатую на руках поднимать на второй этаж – половина мальчишек была влюблена в Настю, и иногда вечером её провожала до дома целая толпа ребятишек.
Леон, когда случалось, шел за ними и умилялся Настиной популярности. У этой девочки явно был ключик, открывающий сердца. И ещё у неё была и острая пика, протыкающая некоторые сердца насквозь. Это он по себе знал, стыдился этого и ничерта с собой поделать не мог. Это было наваждение, проклятие, морок-стыдобища, заговор каких-то сил против него, невозможное совпадение и страстная мечта, которую Стаси довольно жестко пресекала: «Лео, ты просто должен быть рядом, но не более того. Я её тебе доверяю, я верю в тебя, любимый».
– Стаси, а вдруг ты ошиблась? – но смотрящий возвращал его к действительности: «Разве она хоть раз ошиблась? Ни разу. И ты это знаешь.»
А он готов был бы ждать её, сколько угодно, пока она вырастет, наслаждаясь роскошью её ничем не замутнённой юности.
Да только не для него она росла, – это легко читалось в её глазах, когда она смотрела на Ларика. Только и Ларик тоже был не для неё, и это тоже легко читалось по его рассеянному взгляду.
Леон часто бессонными ночами размышлял и гадал: «К чему это всё? Что от меня останется после этого горнила? Ведь я до пепла уже выгорел? У меня на губах вкус пепла, и жизнь стала пеплом. И на вот тебе, на дне – подарок! И такой драгоценный. Зачем? Стаська, пожалей ты меня! Это слишком. Даже и пепла не останется… – Леон уже знал, что это за драгоценная штучка второй раз выплавляется в его душе. Уже знал. Но он так же точно знал, что никому и никогда не удалось дважды войти в одну и ту же реку счастья. Никогда. И всё-таки он не мог и не хотел исключать, пусть совершенно фантастический, дикий до сумасшествия и невозможно прекрасный случай. Вопреки её письму даже.
К слову, интересно, жизнь (или кто?) распоряжается нашими судьбами. Если бы людям рассказали точный осуществившийся сценарий их жизни через десять лет, – они бы все без исключения рассмеялись в лицо говорящему.
Ларик бусиков не оценил, вернее сильно фыркнул, когда увидел их.
В Рождественский вечер бабушка Марфа поблагодарила Леона за торт, конфеты к празднику и за подарки – он им привёз железные коробочки с чаем, которые и достать-то было уже нигде невозможно. А он достал где-то. И бусы похвалила. Ларик только губой дернул. Не нравилась ему эта история: «Зря Настя подарки принимает. Все же знают про бесплатный сыр? А Ворот ещё тот мышелов! Все об этом говорят. И чего не женится?! Всё есть, живи – не хочу».
Но впрямую спросить его об этом Ларик не мог. Такие вопросы мужик мужику может задать только в очень сильном подпитии. Когда всё позволено на дружеской ноге. А такого между ними пока не случалось. Поэтому Ларик по отношению к Насте становился только строже и ворчливей, а бабушки, как песка им в глаза насыпали, принимали этого старого лиса, как гостенька дорогого. Ларика это бесило, хотя он понимал, что никто для него самого столько не сделал, сколько Ворот, как панибратски он его называл про себя, как, впрочем, и все мужики. Было что-то в этой кличке соответствующее Леону. Прочность и надежность. Ворот, одним словом…
В первые дни нового года из райисполкома пришло приглашение приехать всей хоровой группе на обмеры в ателье в город. Поехали всей компанией, обмерялись, выбрали на смокинги черный бостон и на отвороты тяжелый черный атлас. Представляя себя в этих костюмах-кузнечиках, – как обозвал их Ванятка Мятлев, самый маленький и задиристый, как и все маленькие крепкие мужички, – мужики покатывались от хохота. Особенно, когда представляли, как они на сцену перед своими, деревенскими выйдут, которые их и в кирзачах, и босиком видали. Перед посторонними-то можно шею тянуть, как будто бы всегда так и было. А перед своими не больно потянешь, сразу таким прозвищем на всю жизнь склеят, что не отлепишь, поэтому они этого обречённо побаивались в душе, но бодрились. Вечером, после всех обмеров и утрясания моделей мужики уговорили Ворота и Ларика в ресторан завернуть по такому случаю. Это же грех – не пропустить по рюмашке, совсем же новая жизнь впереди нарисовывалась.
– А как это вы в ресторан пройдёте, если столик заранее не заказывали? – Ларик насмешливо окинул взглядом мужиков. Перед ателье он успел сбегать до дома, захватить старый песенник, который бабушка Муза давным-давно подарила Эльке на какой-то праздник.
– А чо, надо заранее?
– Конечно.
– И чо теперь делать? Вот так, на сухую? В кои-то веки выбрались, – Ванятка был расстроен.
– Подождите, я сейчас. Попробую договориться, – Ворот вернулся в ателье, очаровательно улыбнулся, достал из кармана шоколадку и попросил у приёмщицы разрешения воспользоваться телефоном.
– Только недолго. Заведующая увидит, головомойку нам обоим устроит.
– Не устроит. Мы особые заказчики.
– Да ей пофиг. Тут таких особых толпы порог обивают каждый день. Берёт на пошив только по особому блату.
– Вы не волнуйтесь. Я по большому блату и есть… Ольга? Привет. У меня тут проблемка небольшая. Посоветуй…
В «Рубине» они устроились неплохо. Поняв, что они не простые гости, а «по блату», их обслуживали замечательно. Разумеется, обсчитали, но зато сделали вид, что не замечают, как они из своих бутылок разливают под столом. Посидели весело, повспоминали, помечтали, и совсем уже размечтались, как в Москву поедут, а тут им и говорят: «Пора, гости дорогие, ресторан закрывается».
– Нет. Вот почему такая всегда несправедливость? Только разговоришься – так сразу «ресторан закрывается!» – возмутился Сергуня.
– Ты лучше бы не об этом подумал, – сказал рассудительный Строгин, – а о том, как нам до дому добираться? «Транвай» к нам не ходит, автобусы, как я вижу, тоже уже не «ездиют». Или я плохо вижу? – Андрюшка Строгин, дурачась, приставил к глазам «бинокли» из ладоней.
– Я хорошо вижу. Нет ни хрена. Ни одной машинешки. Холод собачий. Но что делать-то будем? – Ванятка, как всегда, был основателен и целеустремлён.
– Ты в ресторан предложил, ты и думай, я-то думал, у тебя план какой-то есть, – Строгин взыскующе и расслабленно смотрел влажными глазами на Ванятку.
– А почему я за всех вас один должен был думать. Я думал, что раз так все согласились, то знают, как до дома-то добраться.
– А чего тут не знать? Всего двадцать пять км. К утру дойдём, – весело сообщил всем Роман Лавров, неизменный запевала.
– А я и так уже дошел. Варежки дома забыл, руки сильно мёрзнут, – весело сообщил всем гармонист Тимоха.
– Вот нравятся мне русские мужики, когда у них всё хорошо и есть выпить – то всё «за*бись!» Когда трезвый и всё понятно – «х*ли» думать. Когда пьяный и ваще ничо не понятно – «пи*дец!» И всё! – Ворот скептически всех осмотрел. – Не хватало только пальцы Тимохе отморозить. То-то баянист у нас будет. Нет, не дойти нам сегодня до дома, будем товарищей по дороге терять. Вишь, Сергуня уже на Ванятке висит. Как на вешалке. Чо, Ванятка, донесёшь боевого друга? – Ворот явно над ними издевался.
– А чо я-то сразу? Пусть сам ползёт, – сказал Ванятка, но на всякий случай покрепче прижал к себе вихляющегося из стороны в сторону приятеля.
– Вот и я о том, только провидение нас может спасти, и тогда утром мы скажем, что не «пи*дец» нам был, а только «пи*децок» маленький попугал. Вам слово – Провидение ты наше!
– Ребята. я тут недалеко живу, если дворами – то десять минут, – Ларик, честно говоря, думал, что все более или менее на ногах, но когда сидишь на стуле, это трудно проверить наверняка. – Донесём павшего товарища?
– Десять минут? Да мы его бегом тут … – сказал Строгин и, поскользнувшись, упал прямо под ноги говорившему Ларику.
– Завтра с того, кто ему подливал – спросим. Я правильно излагаю? – от свежего воздуха, или от того, что в крови начала работу последняя стопка водки «на посошок», Ларик стал тоже стремительно пьянеть. И не только он один.
«Посошок» превратился в тяжеленный посох, который всё время притягивал всех к земле. Вчерашняя оттепель сыграла со всеми пешеходами в ту ночь подлянку, и ноги у всех разъезжались по тоненькой корочке льда, прихватившего наступавшими Крещенскими морозами дневную оттепель предыдущих дней.
«Десять минут» растянулись в целый час, приходилось подбирать и ставить на ноги упавших и даже пытавшихся тут же и заснуть. У Сергуни всё время почему-то спадывали сапоги, то один, то другой, за ними приходилось возвращаться, укладывая Сергуню поудобнее, или уж, как придётся, потом одевать Сергуню в сапоги и тащить его дальше. Ванятка и крыл, и клял дружка на чём свет стоит, и божился, что в следующий раз точно бросит его, черта хлипкого, на дороге.


