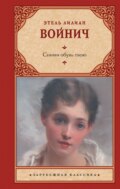Этель Лилиан Войнич
Овод
– К сожалению, вы правы, – сказал Риккардо. – Но не всегда легко проводить на практике это правило.
Овод посмотрел на него и улыбнулся:
– Не бойтесь. Если б я на это шел, я давно бы сделал это.
– Во всяком случае, мы вас одного не оставим, – сухо ответил Риккардо. – Пройдемте, Галли, на минуту в другую комнату: мне надо с вами поговорить. Покойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.
Риккардо ушел, а Мартини остался в соседней комнате поговорить с Галли. Выходя потом через парадную дверь, он слышал, как к калитке сада подъехала карета, и вслед за тем увидел, что из нее вышла женская фигура и пошла по садовой дорожке к дому. Это была Зитта. Вероятно, она возвращалась с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу и посторонился, чтобы дать ей дорогу, а потом пошел по темному переулку, выходившему на Поджио империале. Но не прошло и минуты, как снова щелкнула задвижка у калитки, и вдогонку за ним зачастили чьи-то торопливые шаги.
– Подождите минутку! – послышался голос Зитты.
Как только он обернулся, она остановилась и взялась рукой за изгородь; потом, перебирая пальцами по решетке, медленно пошла к нему. При слабом свете единственного фонаря в конце улицы он увидел, что она идет, опустив голову, словно стесняясь или стыдясь чего-то.
– В каком он состоянии? – спросила она, не подымая глаз.
– Гораздо лучше, чем утром. Он спал почти весь день, и вид у него не такой истощенный. Приступ, кажется, кончился.
– Ему очень плохо было?
– Так плохо, что хуже, кажется, и не бывает.
– Я так и думала. Когда он не позволяет мне приходить, это всегда значит, что ему очень плохо.
– А часто у него бывают такие приступы?
– Как вам сказать?.. Это бывает очень нерегулярно. Летом, в Швейцарии, он был все время здоров, но в зиму перед тем, – мы жили тогда в Вене, – было что-то ужасное. Он не пускал меня к себе по целым дням. Он не выносит моего общества, когда бывает болен. Всякий раз, когда он чувствовал приближение приступа, он отсылал меня на бал, или в концерт, или еще куда-нибудь под тем или другим предлогом, а сам запирался на ключ. Я, бывало, украдкой проберусь к его комнате и сижу под дверью – иной раз весь день. Он страшно рассердился бы, если б узнал об этом. Он скорее впустил бы собаку, если б она стала выть, но только не меня.
Она говорила странным, угрюмым, обиженным тоном.
– Я надеюсь, теперь ему уже не будет так плохо, – сказал Мартини мягко. – Доктор Риккардо серьезно взялся за дело. Может быть, ему удастся даже добиться полного излечения. Во всяком случае, временного облегчения всегда можно достигнуть. Жаль, что вы сразу не послали за ним. Больной гораздо меньше страдал бы, если б мы раньше пришли. Добрый вечер!
Он протянул ей руку, но она быстро отшатнулась:
– Я знаю, что у вас нет никакого желания пожимать руку его любовнице.
– Как вам угодно, – проговорил Мартини, смутившись.
Она топнула ногой.
– Я ненавижу вас! – вскрикнула она, и глаза ее сверкнули, как горящие угли. – Ненавижу вас всех! Вы приходите к нему говорить о политике, и он позволяет вам просиживать у него целые ночи и подавать ему лекарства, а я не смею даже заглянуть через дверь!.. Что он для вас? По какому праву вы отнимаете его у меня? Я ненавижу вас, ненавижу!.. Ненавижу!
Она разразилась бурными рыданиями и, побежав в сад, с силой захлопнула за собой калитку.
«Вот так история! – думал Мартини, продолжая свой путь по темному переулку. – Эта женщина не на шутку любит его. Как странно!..»
Глава VIII
Овод быстро поправлялся. На следующей же неделе Риккардо в одно из своих посещений застал его уже не в постели, а на кушетке, в турецком халате. Тут были Мартини и Галли. Больной выразил было желание выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся и спросил, не лучше ли уже сразу предпринять прогулку по долине до Фьезоле.
– Или, быть может, пойдете нанести визит Грассини, – прибавил он, дразня больного. – Я уверен, что мадам Грассини будет в восторге, особенно теперь, когда у вас такой бледный и томный вид.
Овод трагически всплеснул руками:
– Господа, да я об этом и не подумал. Она примет меня за итальянского мученика и будет говорить о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземной тюрьме и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности, что я при этом чувствовал. Вы думаете, что она не поверила бы, Риккардо? Бьюсь об заклад, что ее можно убедить в какой угодно небылице. Принимаете пари? Если я проиграю – даю вам свой индийский кинжал, от вас же потребую солитера в спирту из вашего кабинета.
– Спасибо, я не люблю смертоносного оружия.
– Солитер также убивает, только он далеко не так красив.
– Во всяком случае, друг мой, мне кинжал не нужен, а нужен солитер. Однако мне некогда…. Мартини, на вашем попечении остается наш неугомонный пациент?
– Да. Но только до трех часов. Мы едем с Галли в Сан-Миниато, и, пока меня не будет, здесь посидит синьора Болла.
– Синьора Болла! – повторил Овод с тревогой. – Нет, Мартини, я не согласен. Я не могу допустить, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Ей будет неприятно в таком беспорядке.
– Давно ли это вы стали соблюдать этикет? – спросил, смеясь, Риккардо. – Синьора Болла – наша главная сиделка. Еще тогда, когда она ходила в коротеньких платьицах, она уже ухаживала за больными, и она делает это лучше всякой сестры милосердия. Ей неприятно будет в таком беспорядке? Да вы, может быть, говорите о господах Грассини?.. Так, значит, Мартини, синьора Болла придет? Ну, для нее не надо никаких указаний… Однако уже половина третьего: мне пора.
– Ну, Риварес, примите-ка лекарство, – сказал Галли, подходя к нему со стаканом.
Овод был в таком периоде выздоровления, когда больные бывают особенно раздражительны, и доставлял много хлопот своим усердным сиделкам.
– Зачем вы пичкаете меня всякой дрянью, когда боли прошли?
– Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите дождаться нового приступа к тому времени, когда придет синьора Болла, чтобы ей пришлось возиться с вами и давать вам опиум?
– М-милостивый государь! Если боли должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую можно облегчить вашими микстурами. От них столько же пользы, как от игрушечного насоса на пожаре. Ну, так и быть, я не буду вам мешать: делайте свое дело.
Он взял стакан левой рукой. Вид шрамов на этой руке напомнил Галли о бывшем у них перед тем разговоре.
– Да, кстати, – спросил он, – где вы получили все эти раны? На войне, вероятно?
– Разве я только что не говорил вам, что меня посадили в мрачное подземелье и…
– Знаю. Но это вариант для развлечения синьоры Грассини… Нет, в самом деле: это в бразильскую войну?
– Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах… и здесь и там досталось.
– Ага, это во время научной экспедиции? Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?
– Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений, – сказал Овод небрежно. – И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.
– Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились приобрести столько шрамов… разве только в драке с дикими зверями. Например, все эти шрамы на левой руке.
– А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, встретил…
Послышался стук в дверь.
– Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так, пожалуйста, отворите… Вы очень, очень добры, синьора… Извините, что я не встаю.
– И незачем вам вставать. Я к вам не с визитом. Я нарочно пришла пораньше, Чезаре; я думала, вам, может быть, надо спешить.
– Нет, у меня еще есть четверть часа времени. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно там же?
– Осторожнее, там яйца. Самые свежие: Кэтти принесла их утром из Монте-Оливето. Тут есть и рождественские розы для вас, синьор Риварес. Я знаю, вы очень любите цветы.
Она присела к столу и, обрезав стебли у цветов, поставила их в вазу.
– Так как же, Риварес, – заговорил опять Галли, – вы начали рассказывать про пуму. Как же это было?
– Ах да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так ободрана рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и, когда потом я наткнулся на зверя и выстрелил, ружье дало осечку: порох намок от воды. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, – и вот результат.
– Нечего сказать, приятное приключение!
– Ну, не так страшно, как кажется. Всего бывало, конечно. Подчас и плохо приходилось, но в общем это была преинтересная жизнь. Охота на змей, например…
И пошел рассказывать анекдот за анекдотом – из аргентинской войны, из бразильской экспедиции, о встречах с дикарями, об охоте на диких зверей. Галли слушал его с увлечением ребенка, которому рассказывают сказку, и то и дело прерывал, требуя новых подробностей. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычайное. Джемма достала из корзинки вязание и тоже внимательно слушала, проворно шевеля пальцами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. В тоне всех этих рассказов чувствовались, как ему казалось, хвастливость и самодовольство. Несмотря на невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством – в чем сам Мартини мог убедиться неделю тому назад, – он не любил Овода: ему не нравилось и то, что тот делал, и как он это делал.
– Вот это так жизнь! – вздохнул Галли с наивной завистью. – Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после нее все другие страны!
– Самый счастливый период моей жизни был, пожалуй, в Перу и в Эквадоре, – сказал Овод. – Это действительно роскошная страна. Правда, уж очень жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и хочешь не хочешь, а к этому надо привыкнуть. Но богатство и красота природы – выше всякого описания.
– Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красота природы, – заметил Галли. – Там человек может действительно сознавать себя личностью, осязательно чувствовать свое человеческое достоинство, – не то, что в наших скучных городах…
– Да, – согласился Овод, – но только…
Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вдруг сильно покраснел и не кончил фразы.
– Неужели опять начинается приступ? – спросил тревожно Галли.
– О нет, ничего, не стоит обращать внимания… Вы уже уходите, Мартини?
– Да. Идем, Галли, а то мы опоздаем.
Джемма вышла за ними из комнаты и скоро вернулась со стаканом молока, заправленного яйцом.
– Выпейте это, – сказала она кротко, но авторитетно и снова села за свое вязанье.
Овод смиренно повиновался.
С полчаса оба молчали. Наконец он тихонько окликнул ее:
– Синьора Болла!
Она взглянула на него. Он теребил пальцами край одеяла и не подымал глаз.
– Скажите, вы не поверили тому, что я сейчас рассказывал им?
– Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали, – спокойно ответила она.
– Вы не ошиблись. Я все время врал.
– И обо всем, что касалось войны?
– Обо всем вообще. Я никогда не участвовал в этой войне. Ну а об экспедиции… Там со мною, правда, бывали приключения, и большая часть тех, которые я рассказал, – действительность. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, так я могу сознаться и во всем остальном.
– Разве не кажется вам совершенно напрасной тратой энергии сочинение таких небылиц? – спросила она. – По-моему, не стоит труда.
– А что же мне было делать? Вы знаете вашу английскую пословицу: «Не задавай вопросов, и тебе не будут лгать». Мне не доставляет ни малейшего удовлетворения дурачить людей, но должен же я как-нибудь ответить, когда меня спрашивают, что сделало меня калекой. Поневоле приходится врать. А уж врать, так врать забавно.
– Так разве вам важнее позабавить Галли или кого-нибудь другого, чем говорить правду?
– Правду… – Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку одеяла. – Вы хотите, чтобы я сказал правду этим господам? Да лучше я себе язык отрежу! – Потом, с какой-то странной робостью в голосе, он вдруг порывисто прибавил: – Я еще никому не рассказывал этой правды, но вам, если вы хотите ее знать, расскажу.
Она молча опустила работу на колени. Чувствовалось что-то горькое, наболевшее в этой решимости черствого, скрытного человека излить свою душу перед женщиной, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.
После долгого молчания она взглянула на него. Прикрыв изувеченной рукой глаза, он сидел, облокотясь о столик, стоявший возле кушетки. Она заметила, что пальцы этой руки были сильно напряжены и что шрам около кисти часто вздрагивал. Она подошла к нему и тихо позвала его по имени. Он весь вздрогнул и поднял голову.
– Я и з-забыл, – заговорил он, заикаясь и как будто оправдываясь. – Я хотел рассказать вам об этом.
– О приключении или… или, – как это назвать, не знаю, – о несчастном случае, когда вы получили раны. Но если вам слишком тяжело об этом вспоминать…
– О чем? О том, как меня отработали? Да, только это был не несчастный случай, а просто – кочерга.
Джемма смотрела на него в полном недоумении. Он откинул волосы со лба – рука заметно дрожала – и, улыбаясь, взглянул на нее:
– Отчего вы не сядете? Пожалуйста, придвиньте себе кресло сами. Я очень жалею, что не могу подать его вам. Знаете, как вспомню об этом случае, невольно думается, вот был бы я драгоценной находкой для Риккардо, если бы пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, кроме разве шеи.
– И вашего мужества, – мягко вставила Джемма. – Впрочем, может быть, и о нем вам также тяжело вспоминать?
Он покачал головой:
– Нет, мужество мое кое-как было подклеено потом, как и все остальное. Но тогда оно было раздавлено, как фарфоровая чашка. Это-то и есть самое ужасное во всем происшествии… Да, так я начал говорить о кочерге. Это было в Лиме… дайте припомнить… лет тринадцать тому назад. Я говорил уже, что Перу восхитительная страна, если есть на что жить. Но там нет ничего восхитительного для того, кто очутится там без копейки денег, как было со мной. Я раньше побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпараисо, и работал сверхкомплектным рабочим на судне, перевозившем скот. В новом городе мне не удалось найти работы, и я пошел в доки. Они помещаются в Каллао, как вы, может быть, знаете. Во всех портовых городах бывают грязные кварталы, в которых ютятся матросы. Здесь я поступил слугой в один из игорных притонов. Я должен был быть поваром, маркером, прислуживать матросам и их женщинам и многое другое. Занятие не особенно приятное, но я был рад, что нашел хоть такое. По крайней мере, я был сыт, видел человеческие лица, слышал человеческую речь. Что это были за люди – другой вопрос. Вы, может быть, скажете, что я немного выгадал, попав в этот притон. Но как раз перед тем я был болен желтой лихорадкой и долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и после того у меня был какой-то ужас перед одиночеством… И вот раз ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал слишком буянить. Он в этот день сошел на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Я, разумеется, должен был исполнить приказание, иначе мне пришлось бы распроститься с местом и околевать с голоду, но этот человек был вдвое сильнее меня: мне было только двадцать лет, и после лихорадки я был еще слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга. – Овод приостановился и взглянул украдкой на Джемму. – Он, вероятно, хотел прикончить меня, но, как настоящий туземный матрос, сделал свою работу настолько нечисто, что, весь изломанный и истерзанный, я все-таки остался жив.
– А что же делали остальные? Отчего не вмешались? Неужели все испугались одного пьяного матроса?
Овод посмотрел на нее и расхохотался:
– Остальные! Хозяева и посетители притона? Ведь это были не люди, а вообще всякий сброд. Я был их слугой, их собственностью. Они стояли кругом и, конечно, наслаждались зрелищем. Там смотрят на подобные вещи как на хороший случай позабавиться. Да оно, пожалуй, и забавно для всех, кроме того, кому пришлось быть объектом потехи.
Джемма содрогнулась:
– Чем же все это кончилось?
– Я не могу сказать, чем это кончилось, ибо в первые дни после такой переделки человек обыкновенно ничего не помнит. Но, как потом оказалось, поблизости был корабельный врач, и когда зрители убедились, что я не умер, они послали за ним. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я пришел в сознание, какая-то старуха туземка взяла меня к себе из христианского милосердия, – не правда ли, странно звучит? Помню, как она, бывало, сидит, скорчившись в углу, курит свою черную трубку, сплевывает на пол и бормочет себе под нос. У нее было доброе сердце, и она утешала меня, говоря, что у нее я могу умирать спокойно: никто мне не помешает. Но во мне сильно развит дух противоречия, и я решил остаться жить. Трудная это была работа – выкарабкиваться из когтей смерти, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение у этой старушки было поразительное. Я пробыл у нее… дай бог памяти… месяца четыре. Все это время я не вставал с постели и то бредил, как сумасшедший, то злился, как медведь, у которого болит ухо. Боль была, правда, очень чувствительна, а я был избалован еще с детства.
– Что же дальше было?
– Дальше… я кое-как поправился и ушел от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять гостеприимством бедной женщины. Нет, с этим я уже не считался. Я просто не мог больше выносить этой лачужки. Вы говорили только что о моем мужестве. Посмотрели бы вы тогда на меня! Приступы боли возобновлялись каждый день к вечеру, когда начинало смеркаться. После полудня я обыкновенно лежал один и с ужасом следил, как солнце опускается все ниже и ниже… О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без содрогания видеть солнечный закат…
Он помолчал несколько минут.
– Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Оставаться в Лиме я больше не мог. Я сошел бы с ума. Я добрался до Куско, и там… Впрочем, зачем я рассказываю вам всю эту старую историю, в ней нет даже ничего занимательного.
Она подняла голову и посмотрела на него серьезным, глубоким взглядом.
– Не говорите в таком тоне, я очень прошу вас, – сказала она.
– Да стоит ли рассказывать дальше? – спросил он немного погодя.
– Если… если хотите… Боюсь, что эти воспоминания мучительны для вас.
– А вы думаете, они не мучат меня, когда я молчу? Тогда еще хуже. И, знаете, мне мучительно вспоминать не столько о том, что я пережил, сколько о том, что я потерял тогда всякую власть над собой.
– Скажите, если можете, – заговорила она нерешительно, – каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?
– Очень просто. Дома, на родине, передо мной открывались широкие перспективы, но я бросил все и убежал.
– Почему?
Он засмеялся коротким сухим смехом:
– Почему? Должно быть, потому, что я был глупым, самонадеянным мальчишкой. Я рос в очень богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день я узнал, что лучший мой друг, которому я беззаветно верил, обманывал меня… Что с вами? Что вы так вздрогнули?
– Ничего. Продолжайте, пожалуйста.
– Я открыл, что со мной хитрят, желая заставить меня верить неправде. Открытие весьма обыкновенное, конечно, но, как я уже сказал, я был молод и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я бросил свой дом и уехал в Южную Америку, чтобы либо погибнуть, либо начать новую жизнь. И я начал ее без копейки в кармане, не зная ни слова по-испански, белоручкой, привыкшим жить на всем готовом и ни в чем не нуждаться. В результате я попал в настоящий ад, реальный, и это меня излечило от веры в воображаемый. Я был на самом дне к тому времени, когда явилась экспедиция Дюпре и вытянула меня. Это случилось через пять лет.
– Пять лет! Это ужасно! Разве у вас не было друзей?
– Друзей? – Он повернулся к ней и сказал с раздражением: – У меня никогда не было друзей…
Но через секунду он поспешил прибавить:
– Не понимайте буквально всего, что я говорю. Должен сознаться, что я изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи: я был молод, достаточно силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не наложил на меня своего клейма. После того я уже не мог найти работы. Остается только удивляться, каким совершенным орудием может быть кочерга в умелых руках. А калеку, понятно, никто не наймет.
– Что же вы делали?
– Что мог. Одно время я был на побегушках у негров, работавших на сахарных плантациях. Но надсмотрщики всегда прогоняли меня. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро да и больших тяжестей поднимать не мог. А кроме того, у меня то и дело повторялись приступы моего воспаления – или как там нужно называть эту проклятую болезнь… С плантаций я перекочевал на серебряные рудники в надежде получить работу там… Но и это не привело ни к чему: управляющие смеялись, а рабочие буквально травили меня.
– За что?
– Такова уж человеческая натура, должно быть. Они видели, что мне приходится отбиваться только одной рукой, и этого было довольно. Наконец я решил отправиться бродяжничать на авось – не подвернется ли что-нибудь.
– Бродяжить? С хромой ногой?
Он вдруг поднял на нее глаза, хотел заговорить и не мог.
– Я… я был голоден, – сказал он наконец с жалкой улыбкой.
Она чуть-чуть отвернула голову и оперлась на руку подбородком.
После нескольких минут молчания он заговорил снова, и, по мере того как он говорил, голос его становился все тише:
– Я бродил и бродил без конца, до того, что у меня стало в голове мутиться, и все-таки ничего не нашел. Я пробрался в Эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа, – я довольно хороший жестяник, – или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев, а иногда… да не стоит перечислять… И вот однажды…
Его тонкая смуглая рука вдруг сжалась в кулак. Она с тревогой взглянула на него. Лицо его было обращено к ней в профиль, и она заметила, как на виске у него билась жила частыми неровными ударами. Она наклонилась к нему и нежно взяла его за руку.
– Не рассказывайте дальше: об этом слишком тяжело вспоминать.
Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом:
– И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните тот цирк, где мы были с вами? Ну и там был такой же, только еще хуже, еще вульгарнее. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к палатке и попросил милостыню. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок у входа в палатку. В то время со мной часто случалось, что я вдруг падал в обморок, точно туго зашнурованная в корсет институтка. Меня внесли в палатку, дали мне водки, накормили, а на другое утро предложили мне…
Он приостановился.
– Им нужен был карлик, горбун или вообще какой-нибудь уродец, чтобы было в кого бросать апельсинными корками для увеселения публики. Вы видели горбуна в тот вечер? Вот я и был тем же целых два года. Я научился выделывать кое-какие штуки. Но я был еще не совсем изуродован. Это исправили: мне приделали искусственный горб и постарались извлечь все, что было можно, из моей хромой ноги и изувеченной руки. Зрители были там не очень взыскательны: они легко удовлетворялись, лишь бы им дали на истязание живое существо. А шутовской наряд довершил впечатление. Главное затруднение было в том, что я часто бывал болен и в таких случаях не мог выходить на сцену. Случалось, что содержатель труппы, когда он бывал не в духе, требовал, чтобы я все-таки выходил, и, я думаю, в такие вечера публика получала наибольшее удовольствие. Помню, один раз у меня были страшные боли. Я вышел на арену и упал в обморок посреди представления. Когда я пришел в себя, вся публика столпилась вокруг меня, все кричали, гикали, бросали в меня…
– Не надо! Я не могу больше слушать… Довольно, ради бога!
– Черт возьми, какой я идиот! – сказал Овод вполголоса.
Она отошла к окну и стояла несколько минут, не оборачиваясь. Когда она обернулась, он сидел, опять облокотившись на стол и прикрыв глаза руко. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него. После долгого молчания она тихо заговорила:
– Я хочу вас спросить…
– Ну? – сказал он не двигаясь.
– Почему вы не перерезали себе горло?
Он посмотрел на нее с удивлением:
– Я не ожидал от вас такого вопроса. А мое дело?
– Ваше дело?.. Да, понимаю! Вы только что говорили о своей трусости. Но если, пройдя через все эти ужасы, вы все-таки не бросили своего дела, вы – самый мужественный человек, какого я встречала.
Он снова прикрыл глаза и, горячо пожав ей руку, удержал ее в своей. Наступило долгое молчание.
Вдруг свежее, чистое сопрано прозвучало снизу из сада, и раздались звуки веселой французской песенки:
Eh, Pierrôt! Danse, Pierrôt!
Danse un peu, mon pauvre Jeannôt![6]
При первых же словах Овод откинулся назад в кресло с глухим стоном. Джемма взяла его за руку и крепко сжала ее, как сжимают руку человека во время тяжелой операции.
Когда песня оборвалась и из сада раздались смех и аплодисменты, он посмотрел на Джемму взглядом раненого животного.
– Да, это Зитта, – сказал он медленно, – с ее друзьями-офицерами. Она хотела прийти в первый вечер до прихода Риккардо. Я бы с ума сошел, если бы она дотронулась до меня.
– Но она ведь не знает, – возразила мягко Джемма, – и даже не может подозревать, что причиняет вам боль.
– Она такая же, как креолки, – ответил он, содрогаясь. – Помните лицо ее в тот вечер, когда мы возились с нищим мальчишкой? Такой вид у всех креолок, когда они смеются.
Новый взрыв хохота раздался из сада. Джемма встала и открыла окно. Зитта стояла посреди дорожки. На голову ее был кокетливо накинут вышитый золотом шарф, и она держала высоко в руке букет фиалок, за обладание которым спорили три молодых кавалериста.
– Мадам Ренни, – сказала Джемма.
Лицо Зитты потемнело.
– Что вам угодно, сударыня? – спросила она, оборачиваясь и поднимая глаза с недоверчивым видом.
– Нельзя ли, чтобы ваши друзья говорили немного тише? Синьор Риварес очень нездоров.
Цыганка бросила фиалки на землю.
– Allez-vous en, – сказала она офицерам, – m’embêtez, messieurs![7]
Она вышла из сада на дорогу. Джемма закрыла окно.
– Они ушли, – сказала она, оборачиваясь к Оводу.
– Благодарю вас. Я очень жалею, что обеспокоил вас.
– Какое же это беспокойство…
Он сразу заметил нерешимость в ее голосе и сказал:
– Вы не кончили своей фразы, синьора Болла. Какое-то «но» осталось в вашем уме.
– Если думать о том, что у людей на уме, нельзя и обижаться, узнав их мысли. Конечно, мне не следует вмешиваться, но я не могу понять…
– Моего отвращения к мадам Ренни?
– Нет, я не понимаю, как вы можете выносить ее общество при таком отвращении. Мне кажется, это оскорбительно для нее как для женщины и как…
– Как для женщины? – Он расхохотался с резкостью в голосе. – Это ее вы называете женщиной?
– Как это некрасиво! – сказала Джемма. – Вы не имеете права говорить о ней так перед кем бы то ни было, в особенности перед другой женщиной.
Он лежал с открытыми глазами, глядя в окно на заходящее солнце. Джемма опустила штору и закрыла ставни, чтобы он не мог видеть заката, потом перешла к столику у другого окна и снова взялась за вязанье.
– Не зажечь ли вам лампу? – спросила она немного погодя.
Он покачал головой.
Когда стемнело настолько, что нельзя было больше вязать, она свернула работу и положила ее в корзинку. Некоторое время она сидела, сложив руки на коленях, и молча смотрела на неподвижную фигуру больного. Тусклый вечерний свет, падая на его лицо, смягчал жестокое, насмешливое, самоуверенное выражение и подчеркивал трагические складки вокруг рта.
По какой-то странной ассоциации мыслей она вспомнила про каменный крест, воздвигнутый ее отцом в память Артура, и надпись на нем: «Все волны и бури прошли надо мной».
Молчание не прерывалось в течение целого часа. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она приостановилась в дверях, думая, что, может быть, он заснул. Но как только свет лампы ударил ему в глаза, он повернулся.
– Я сварила вам кофе, – сказала она.
– Поставьте его куда-нибудь и, пожалуйста, подойдите ко мне.
Он взял обе ее руки в свои.
– Я думал о ваших словах, – сказал он. – Вы совершенно правы, я завязал некрасивый узел в жизни. Но подумайте, не всегда встречаешь женщину, которую можешь любить, а я побывал в страшных переделках. Я боюсь…
– Боитесь?
– Темноты. Иногда я не решаюсь оставаться один ночью. Мне нужно что-нибудь живое, что-нибудь осязательное около меня. Полная тьма, где… Нет, нет, это не то. Это только игрушечный ад. Но дело во внутренней темноте: там нет ни плача, ни скрежета зубов, только молчание… молчание…
Глаза его расширились. Она сидела молча, еле дыша, пока он не заговорил снова:
– Все это вам кажется фантазией, не правда ли? Вы не можете понять меня? Тем лучше для вас. Но я хочу сказать, что, наверное, сошел бы с ума, если бы попробовал жить в одиночестве. Не судите меня слишком строго, я не такое грубое животное, каким, быть может, вам кажусь.
– Я не могу судить вас, – сказала она. – Я не страдала столько, сколько вы. Но я тоже испытала много тяжелого, только в другом роде, и, мне кажется, я даже уверена, что если сделать нечто истинно жестокое и несправедливое только под влиянием страха, то потом наступает тяжелое раскаяние. Но, помимо этого, ваша стойкость удивительна; я на вашем месте совсем бы пала духом, прокляла бы судьбу и умерла.
Он все еще держал ее руки в своих.
– Скажите мне, – заговорил он тихо, – совершили вы хоть раз в жизни жестокое дело?
Она не отвечала, но голова ее поникла, и две крупные слезы упали на его руку.
– Говорите, – зашептал он горячо, сжимая ее руку. – Говорите! Ведь я рассказал вам все о себе.
– Да… один раз, давно, я сделала жестокое дело. Я ужасно поступила с человеком, которого любила больше всех на свете.
Руки его сильно дрожали, но он не выпустил ее рук.
– Он был нашим товарищем, – продолжала она, – и я поверила клевете на него, грубой, вопиющей лжи, придуманной полицейским начальством. Я ударила его по лицу, как предателя… В тот же день. он утопился. Через два дня я узнала, что он был совершенно невинен… Такое воспоминание, пожалуй, не легче ваших… Я охотно дала бы отрезать себе руку, если бы этим можно было исправить то, что я сделала.