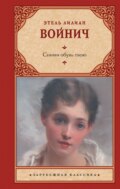Этель Лилиан Войнич
Овод
Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.
– Как вы сегодня очаровательны! – воскликнула она громким шепотом, окидывая ее белое кашемировое платье враждебно-критическим взором. Она от всего сердца ненавидела Джемму, ненавидела за то самое, за что Мартини преклонялся перед ней: за спокойную силу характера, за серьезную, искреннюю прямоту, за уравновешенность ума, даже за выражение лица. А когда синьора Грассини ненавидела женщину, она проявляла это усиленной любезностью по отношению к ней. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. То, что называется «выезжать в свет», было для нее утомительной и неприятной работой, которую поневоле должен был выполнять всякий заговорщик, если он хочет обмануть шпионов. Она считала эту работу не более легкой, чем писать шифром, и, зная, как важно для отвлечения подозрений иметь репутацию женщины, хорошо одевающейся, она изучала модные журналы так же тщательно, как и ключи к шифрам.
Литераторы, успевшие уже соскучиться, оживились, как только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и к тому концу зала, где она села, сейчас же потянулись один за другим журналисты радикального направления; но она была слишком опытна в конспирации, чтобы дать им монополизировать себя. С радикалами она могла встречаться каждый день; поэтому теперь, когда они обступили ее, она мягко указала им их настоящее дело, заметив с улыбкой, что не стоит тратить времени на нее, когда здесь так много туристов. Она, со своей стороны, усердно занялась членом английского парламента, сочувствие которого было очень важно для республиканской партии; он был специалистом по финансовым вопросам, и она заинтересовала его, спросив его мнение о каком-то техническом пункте австрийской монетной системы; затем она ловко навела разговор на условия ломбардо-венецианских договоров. Англичанин, ожидавший легкой болтовни, с изумлением взглянул на Джемму, боясь, что попал в когти синего чулка; но, видя, что она красива и интересна, перестал сопротивляться и стал так же глубокомысленно обсуждать итальянские финансы, как если бы она была Меттернихом{51}. Когда Грассини подвел к Джемме француза, который желал бы узнать у синьоры Боллы историю возникновения «Молодой Италии», член парламента встал со странным сознанием, что, может быть, Италия имеет больше основания быть недовольной, чем он предполагал.
От духоты и непрерывного мелькания движущихся фигур у Джеммы начала болеть голова. Она незаметно выскользнула на террасу, чтобы посидеть одной в густой зелени высоких камелий и олеандр.
В конце террасы тянулся ряд пальм и древесных папоротников в больших кадках, замаскированных клумбами лилий и других цветущих растений. Все это вместе представляло одну сплошную ширму, но за ней возле перил оставался свободный уголок и открывался прекрасный вид на всю долину. Сюда можно было пройти, раздвинув ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами и скрывающие узкий проход между растениями.
В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Она думала, что, если отдохнет, ей, может быть, удастся пересилить головную боль.
Звуки приближающихся по террасе шагов и голосов заставили ее очнуться от дремоты, которая начинала ею овладевать. Она подалась дальше в густую чащу листьев, надеясь остаться незамеченной и выиграть еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем начать снова терзать свою усталую голову придумыванием темы для разговора. Но, к ее великой досаде, шаги остановились как раз возле нее, за чащей растений. Слышен был тонкий, пискливый голос синьоры Грассини, щебетавшей без умолку. Вот она приостановилась, – и послышался другой голос, мужской, замечательно мягкий и музыкальный; но приятный тембр этого голоса портила странная манера растягивать слова, придававшая ему какую-то неприятную певучесть. Может быть, это была просто рисовка, но, вернее, это делалось для того, чтобы скрыть какой-то недостаток речи.
– Англичанка, вы говорите? – спрашивал этот голос. – Но фамилия у нее итальянская. Как это вы сказали – Болла?
– Да. Она вдова несчастного Джованни Боллы, который умер в Англии года четыре тому назад, – может быть, вы помните? Я все забываю: вы ведь ведете такой кочующий образ жизни, что невозможно ожидать, чтобы знали обо всех страдальцах нашей несчастной родины. Их так много!
Синьора Грассини вздохнула. Она всегда говорила с иностранцами в таком духе. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с манерами институтки и детски наивным выражением лица.
– Умер в Англии… – повторил мужской голос. – Он, значит, был эмигрантом? Мне кажется, я когда-то слышал это имя. Не был ли он замешан в организации «Молодая Италия» первых лет ее существования?
– Да, да. Он был одним из тех несчастных юношей, которых арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете эту историю? Его освободили через несколько месяцев, а потом, года через два, состоялся новый приказ об его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он там женился. Это очень романтическая история, но Болла всегда был романтиком.
– Умер в Англии, вы говорите?
– Да, от чахотки. Он не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью она лишилась и сына, своего единственного ребенка: он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! У нее, у бедной, немножко черствая натура, но, знаете, это общая черта англичанок. И кроме того, от горя ее характер…
Джемма встала и раздвинула ветки. Эта болтовня ради развлечения гостя о пережитых ею горестях была невыносима, и на лице ее заметно было раздражение, когда она вышла на свет.
– А, вот и она! – воскликнула хозяйка с удивительным самообладанием. – А я-то недоумевала, дорогая, куда вы пропали. Синьор Феличе Риварес желает познакомиться с вами.
«Так вот он, Овод!» – подумала Джемма, вглядываясь в него с любопытством.
Он учтиво поклонился и окинул ее быстрым пронизывающим взглядом, который показался ей дерзким.
– Вы выбрали себе восхитительный уголок, – заметил он, глядя на густую чащу зелени, откуда она появилась.
– Да, хорошее место. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.
– В такую ночь сидеть в комнатах просто грешно, – проговорила хозяйка, поднимая глаза к небу.
У нее были красивые ресницы, и она любила показывать их.
– Взгляните, синьор: ну, разве не рай наша несравненная Италия, будь она только свободна. И подумать, что она должна быть рабой, эта чудная страна, с ее цветами и небом!
– И с такими патриотками! – пробормотал Овод своим мягким голосом, растягивая слова.
Джемма взглянула на него почти с испугом: в его словах слишком явно сквозила насмешка. Но синьора Грассини приняла их за чистую монету и со вздохом потупила глазки.
– Ах, синьор, женщине отведена такая ничтожная роль! Но, как знать, может быть, мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой… А сейчас мне нужно вернуться к своим общественным обязанностям. Французский посланник просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже прийти познакомиться с ней. Это прелестная девушка. Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Теперь я оставлю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми. А вот и обворожительный русский князь! Вы еще не встречались с ним? Говорят, он в большом фаворе у императора Николая. Он комендант какой-то польской крепости, с таким названием, что и не выговоришь.
Она быстро подошла к господину с бычьей шеей и с массивной нижней челюстью, в мундире, сверкавшем орденами, и пошла с ним, не переставая щебетать, и ее жалобные причитания о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные восклицаниями «charmant»[4] и «mon prince»[5], скоро замерли в отдалении.
Джемма продолжала стоять под гранатовым деревом. Ей стало обидно за бедную, недалекую маленькую женщину и досадно на Овода за его холодную дерзость. Он провожал глазами удалявшиеся фигуры с выражением, выводившим ее из себя: ей казалось неблагородным насмехаться над такими жалкими существами.
– Вот идут рука об руку итальянский и русский патриотизм, – сказал он с улыбкой, оборачиваясь к ней. – Оба очень довольны друг другом. Который вам больше нравится?
Она слегка нахмурилась и ничего не ответила.
– К-конечно, – продолжал он, – это в-вопрос вкуса. Но, по-моему, из двух видов патриотизма русский лучше: он доводит дело до конца. Если бы Россия основывала свою силу на цветах и небесах вместо пушек, то как долго, думаете вы, удержался бы этот князь в польской к-крепости?
– Мне кажется, – ответила она холодно, – можно высказывать свои мнения и не высмеивая хозяйку дома.
– Да, правда, я и забыл, как высоко стоят в Италии законы гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы. Я уверен, что австрийцы тоже это находят…
Он, прихрамывая, прошел по террасе и принес ей стул, а сам стал против нее, облокотившись на перила. Свет из окна падал прямо на его лицо, и теперь она могла свободно рассмотреть его.
Она была разочарована. Она ожидала увидеть если и не приятное, то, во всяком случае, замечательное лицо, с властным, покоряющим взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросались в глаза какая-то фатоватость в костюме и откровенная надменность в выражении лица и манер. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, гибок, как кошка.
Всей своей фигурой он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека были обезображены длинным шрамом – по-видимому, от удара саблей, и она заметила, что всякий раз, как он начинал заикаться, эта сторона лица подергивалась нервной судорогой. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив; но вообще лицо у него было непривлекательно.
Он снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкал. («Настоящий ягуар, – подумала Джемма с возрастающим раздражением, – если бы какой-нибудь ягуар был в добром настроении и мог говорить, он говорил бы точно так же».)
– Я слышал, – сказал он, – что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах?
– Пишу иногда, у меня мало на это свободного времени.
– Ах да, это понятно: синьора Грассини мне говорила, что вы заняты кое-чем поважнее.
Джемма удивленно приподняла брови. Очевидно, синьора Грассини, по своей глупости, выболтала лишнее этому проныре, который все более и более не нравился Джемме.
– Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини преувеличивает значение моих занятий, – ответила она сухо. – Все это по большей части совсем несложные дела.
– Да и мало было бы хорошего, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги способно привести каждого в легкомысленное настроение, хотя бы из чувства самозащиты… О, я знаю, что вы хотите сказать, – и вы совершенно правы, – но они восхитительно забавны со своим ноющим патриотизмом… Вы хотите вернуться в комнаты? А здесь так хорошо.
– Нужно идти. Ах, мой шарф упал… Благодарю вас.
Он поднял шарф и, выпрямившись, смотрел на нее невинным, ясным взглядом. Его широко открытые большие голубые глаза напоминали незабудки.
– Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой, – проговорил он кающимся тоном. – Но разве можно не смеяться над ней?
– Раз уж вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, невеликодушно и стыдно пользоваться умственным убожеством человека, чтобы высмеивать его. Это все равно что смеяться над калекой или…
У него остановилось дыхание, и лицо исказилось точно от боли. Он отшатнулся и взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился смехом:
– Сравнение не слишком удачно, синьора; мы, калеки, не суемся всюду со всем нашим уродством, как эта женщина со своей глупостью. Во всяком случае, вы должны отдать нам справедливость: мы всегда понимаем, что иметь кривую спину ничуть не лучше, чем кривить душой… Здесь ступенька – обопритесь на мою руку.
Она шла молча, в полном недоумении, совершенно смущенная таким неожиданным с его стороны проявлением чувствительности.
Как только он открыл перед ней дверь большого зала, пропуская ее вперед, она заметила, что в их отсутствие здесь произошло что-то особенное. У большинства мужчин был негодующий вид; дамы, с раскрасневшимися лицами, столпились в конце зала и, видимо, старались казаться спокойными. Хозяин поправлял очки с подавленным бешенством, которого, однако, нельзя было не заметить, а в углу стояли кучкой туристы, с веселыми усмешечками поглядывая на противоположный конец зала. Там-то, очевидно, происходило то, что казалось им таким забавным и что так оскорбляло остальных.
Одна синьора Грассини, казалось, ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который широко улыбался, слушая ее.
Джемма на минуту приостановилась в дверях и оглянулась на Овода, чтобы посмотреть, заметил ли он всеобщее замешательство. По его лицу, несомненно, скользнуло выражение лукавого торжества, когда он сначала взглянул на хозяйку, пребывающую в блаженном неведении, а потом в тот конец зала, куда посматривали туристы. Ей все стало ясно: он ввел сюда свою подругу.
Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окруженная толпой фатоватых денди и любезно-иронически улыбавшихся кавалерийских офицеров. На ней было роскошное шелковое платье, желтое с красным. Восточная яркость его тонов и обилие ценных украшений резко бросались в глаза в этом флорентийском литературном салоне. Она казалась какой-то тропической птицей среди воробьев и скворцов. Видимо, и она сама чувствовала себя не совсем хорошо и поглядывала на оскорбленных ее присутствием дам с явно враждебным презрением.
Заметив Ривареса, когда он проходил с Джеммой по залу, она вскочила и подбежала к нему.
– Месье Риварес, я вас везде искала, – заговорила она быстро на очень скверном французском языке. – Граф Салтыков спрашивает, не приедете ли вы к нему на его виллу завтра вечером. Будут танцы.
– К сожалению, не могу. Да если б даже и мог приехать, я все равно не могу танцевать… Синьора Болла, позвольте познакомить вас с мадам Зиттой Ренни.
Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду: она была, несомненно, красива, но грубой, животной неодухотворенной красотой. Нельзя было не восхищаться свободой и гармоничностью ее движений, но лоб был низкий и узкий, а в очертаниях тонких ноздрей было что-то жестокое и отталкивающее. Чувство стеснения, которое испытывала Джемма в обществе Овода, только усилилось с появлением на сцену цыганки, и она почувствовала большое облегчение, когда спустя минуту подошел к ней хозяин и попросил ее помочь ему занять гостей, бывших в другой комнате.
– Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? – спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. – Не наглость ли с его стороны так подвести бедную жену Грассини?
– Вы говорите о танцовщице?
– Ну да. Он убедил синьору Грассини, что эта девушка будет звездой сезона, а та сделает все что угодно ради знаменитости.
– Это очень некрасиво с его стороны. Он поставил Грассини в ложное положение, да и относительно самой девушки это жестоко. Я уверена, что ей было неприятно.
– Вы, кажется, разговаривали с ним? Какое впечатление он на вас произвел?
– О, Чезаре, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него. Никогда я не встречала такого убийственно мучительного собеседника. В десять минут у меня разболелась от него голова. Он – воплощенный демон беспокойства.
– Я так и думал, что он вам не понравится. Он и мне не нравится, по правде сказать. Человек этот скользок, как угорь, – не доверяю я ему.
Глава III
Овод нанял себе квартиру за городом, недалеко от Римских ворот; в этой же местности поселилась и Зитта. По образу жизни он был порядочный сибарит{52}. Обстановка его квартиры, правда, не поражала роскошью, но во всех мелочах сказывались любовь к изящному и прихотливый, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего годы среди дикой природы берегов Амазонки, они ожидали большей простоты привычек. Но в общем они ладили с ним. Он принимал всех приветливо и дружелюбно, особенно местных членов партии Мадзини. Но Джемма, по-видимому, составляла исключение из этого правила: он как будто невзлюбил ее с первой же их встречи и всячески избегал ее общества. В двух-трех случаях он был даже резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были до такой степени разные темпераменты, что ничего, кроме антипатии, между ними и быть не могло. Но у Мартини эта антипатия скоро перешла в открытую вражду.
– Меня мало интересует, любит он меня или нет, – сказал он как-то Джемме с раздражением. – Сам я его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но я не могу простить ему его отношения к вам. Я бы потребовал у него объяснения, но это будет скандал для всей партии; мы сами звали его приехать, а теперь будем ссориться с ним…
– Оставьте его в покое, Чезаре. Его отношение ко мне не имеет никакого значения для дела. Да к тому же тут я и сама виновата не меньше его.
– В чем же вы виноваты?
– У меня вырвалось грубое замечание, когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини.
– Вы сказали грубость? Простите, мадонна, этому я не могу поверить.
– Конечно, это вышло нечаянно, и я сама жалела об этом. Я сказала что-то об издевательстве над калеками, а он увидел в этом намек на него. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так сильно изуродован.
– Разумеется. Только одно плечо ниже другого, да левая рука порядочно исковеркана; но он не горбун и не кривоногий… Ну а о хромоте и говорить не стоит…
– Тем не менее его тогда передернуло, и он изменился в лице. С моей стороны это была, конечно, большая бестактность, но все-таки странно, что он так болезненно чувствителен. Хотелось бы мне знать, часто ли ему приходилось страдать от подобных насмешек.
– Гораздо легче себе представить, что он сам часто насмехался над другими. При всех своих изящных манерах он по натуре грубый человек. Мне он внушает отвращение.
– Это уже совсем несправедливо, Чезаре. Я его тоже не люблю. Но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная манера держаться, которая раздражает. Правда и то, что он всегда старается острить, а вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.
– Какая у него может быть цель, я не знаю; но если человек вечно все высмеивает, то тут что-то нечисто. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрицци он глумился над последними реформами в Риме{53}.
Джемма вздохнула.
– Боюсь, что в этом пункте я скорее соглашусь с ним, чем с вами, – сказала она. – Все вы, мягкие сердцем, легко предаетесь радужным надеждам и ожиданиям; вы всегда склонны думать, что раз в Папы избран человек с добрыми намерениями и не дряхлый старик, то все остальное приложится. Стоит ему только открыть тюрьмы да раздавать свои благословения направо и налево – и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы, верно, никогда не поймете, что он не мог водворить на земле справедливость, если б даже хотел. И в этом виноват самый принцип постановки вопроса, а не то, как поступает тот или другой человек.
– Какой принцип? Светская власть Папы?
– Не только это. Это лишь часть всего зла. Дурно то, что вообще одному человеку дается власть над другим. Это создает ложь в отношении между людьми.
Мартини вынул из кармана рукопись.
– Новый памфлет?
– Еще одна нелепица, которую этот проклятый Риварес представил на вчерашнее заседание комитета. Ах, чувствовал я, что скоро у нас с ним дойдет дело до драки.
– Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы слишком предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он, во всяком случае, не дурак.
– Я не отрицаю, что памфлет написан неглупо…
Автор памфлета осмеивал дикий энтузиазм, с каким Италия превозносила нового Папу. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера Овода; но как ни коробила Джемму резкость тона, в глубине души она не могла не признать справедливости критики.
– Я вполне согласна с вами, что это написано слишком резко, – сказала она, положив рукопись на стол. – Но хуже всего то, что все, что здесь говорится, сущая правда.
– Джемма!
– Да, это так! Называйте этого человека скользким угрем с холодной кровью, если хотите, но правда на его стороне. Бесполезно пытаться доказать, что памфлет не попадет в цель: он попадет.
– Вы скажете еще, что надо его напечатать?
– А, это другой вопрос. Я, конечно, не говорю, что мы должны напечатать это в таком виде. Он оскорбил бы и оттолкнул бы от нас решительно всех и не принес бы никакой пользы. Но если бы Риварес переделал его немного, выбросив нападки личного характера, я думаю, вышла бы действительно ценная вещь. Политическая критика превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует сказать, но чего не решается сказать никто из нас. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьянчужкой, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы!
– Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете! Я не выношу такого огульного облаивания всего и всех.
– Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный тон, да и сам он не слишком симпатичен. Но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобзаниями и призывами к любви и примирению и что все это иезуиты и санфедисты сумеют обратить в свою пользу, – он тысячу раз прав… Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов порешили?
– Да вот на том, для чего я и пришел к вам: просить вас сходить к нему и постараться убедить его смягчить свой памфлет.
– Сходить к нему? Но я почти его не знаю. И кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна к нему идти, а не кто-нибудь другой?
– Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.
– От этого я воздержусь, конечно. Ну, хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: я мало надеюсь на успех.
– А я уверен, что сумеете уломать его, если захотите. Да еще скажите ему, что весь комитет восхищается его памфлетом – я разумею, в литературном отношении. Это приведет его в хорошее настроение, и притом это совершенная правда.
Овод сидел у своего письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматый черный пес, лежавший на ковре у его ног, поднял голову и зарычал, когда у приотворенной двери постучалась Джемма. Овод поспешно встал и отвесил ей сухой церемонный поклон. Лицо его вдруг стало неподвижным, утратив всякое выражение.
– Вы слишком любезны, – сказал он ледяным тоном. – Если бы вы дали мне знать, что вам нужно видеть меня, я сейчас же явился бы к вам.
Чувствуя, что он мысленно желает ей провалиться сквозь землю, она поспешила объяснить, что пришла по делу. Он опять поклонился и придвинул ей кресло.
– Я пришла к вам по поручению комитета, – начала она. – Там большинство не согласно с некоторыми пунктами вашего памфлета.
– Я так и думал. – Он улыбнулся и сел против нее, передвинув на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить свое лицо от света.
– Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде его неудобно печатать. Они боятся, что резкость тона может оскорбить людей, чья поддержка так важна для партии.
Он выдернул из вазы одну хризантему и начал медленно ощипывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на пальцах его тонкой правой руки. Ею овладело какое-то странное, тревожное чувство: ей показалось, что она уже видела где-то раньше эту манеру обрывать цветы.
– Как литературное произведение, – заметил он своим мягким голосом, но холодно, – памфлет мой ничего не стоит, и с этой точки зрения им могут восторгаться только профаны в литературе. А что он оскорбляет – так ведь этого-то я и хотел.
– Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары попадают не в тех, в кого нужно.
– Мне кажется, вы ошибаетесь, – проговорил он. – Вопрос стоит так: для какой цели пригласил меня сюда ваш комитет? Для того, как я понимал, чтобы вывести на чистую воду и высмеять иезуитов. Эту обязанность я и выполняю, разумеется, по мере сил.
– Могу вас уверить, что никто и не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, что ваш памфлет может оскорбить либеральную партию и лишить нас моральной поддержки городских рабочих. Ваши стрелы направлены против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового Папу, а это, по тактическим соображениям, комитет считает нежелательным.
– Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю только на тех представителей духовенства, с которыми партия в дурных отношениях, – я могу говорить всю правду, если хочу. Но как только я коснусь священников, любимцев партии, – о, тогда оказывается: «Правда – собака, которую надо держать на цепи». Да, шут был прав… Но я согласен быть чем угодно, только не шутом. Конечно, я должен преклониться перед решением комитета, но я нахожу, что он разбрасывает свое внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-мон-сеньора{54} М-монтан-н-нелли…
– Монтанелли? – повторила Джемма. – Я вас не понимаю. Вы говорите о епископе Бризигеллы?..
– Да. Новый Папа, как известно, только что назначил его кардиналом. Мне как раз пишут о нем. Не хотите ли прослушать письмо? Пишет один из моих друзей, живущий по ту сторону границы.
– Какой границы? Папской области?
– Да. Вот что он пишет… «В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, к-кардиналом Лоренцо М-монтанелли, епископом Бризигеллы. О-он…»
Овод оборвал чтение и перевел дух. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже больше не заикаясь:
– «Он намеревается посетить Тоскану в течение будущего месяца. Приедет туда с особо важной миссией примирения. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где пробудет недели три, потом в Сиене и в Пизе и, наконец, через Пистойю{55} возвратится в Романью{56}. Он открыто присоединился к либеральной партии церкви, и притом он – личный друг Папы и кардинала Феретти{57}. При Папе Григории он был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апеннинах. А теперь он быстро выдвинулся вперед. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами-иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и так же вреден в своем роде, как и сам Ламбручини. Его теперешняя задача – поддерживать как можно дольше народный энтузиазм по поводу избрания нового Папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготовляемого агентами иезуитов проекта. В чем состоит этот проект, мне не удалось узнать». Дальше он пишет: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов – я не могу разобрать. Он или необыкновенно умный плут, или величайший осел. Странно одно: насколько мне удалось разузнать, он не берет взяток и не имеет любовниц, а это мне приходится видеть в первый раз».
Овод положил письмо и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами, в ожидании, что она скажет.
– Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? – спросила она, помолчав.
– Относительно безупречности частной жизни монсеньора Монтанелли? Нет. Да он и сам не уверен в безусловной верности того, что сообщает. Как вы могли заметить, он оговаривается: «…насколько мне удалось разузнать…»
– Я не об этом спрашиваю, – холодно перебила Джемма, – а о том, что касается его миссии.
– Да, в этом я могу вполне положиться на него. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, дающее ему возможность разузнавать о такого рода вещах.
«Верно, какой-нибудь чиновник в Ватикане», – быстро промелькнуло у нее в голове.
– Так вот какие у вас связи! Я, впрочем, так и думала.
– Письмо это, конечно, частного характера, – продолжал Овод, – и вы понимаете, что содержание его не должно быть известно никому, кроме членов вашего комитета.
– Само собою разумеется. Но вернемся к памфлету: могу ли я сказать комитету, что вы согласны сделать кое-какие изменения и немного смягчить тон, или…
– А вы не думаете, синьора, что изменения могут не только ослабить силу сатиры, но и испортить красоту «литературного произведения»?
– Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.
– Не следует ли заключить из этого, что вы лично расходитесь с мнением комитета?
– Если вас интересует, что думаю я лично, – извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу его правильным по освещению фактов и целесообразным в тактическом отношении.
– То есть?
– Я вполне согласна с вами, что Италия увлекается блуждающими огнями и что все эти восторги и ликования заведут ее в непроходимое болото. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член корпорации, большинство которой держится противоположного взгляда, я не могу настаивать на своем личном мнении. И разумеется, я тоже нахожу, что уж если говорить, то надо говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как у вас.
– Вы подождите минутку, пока я пересмотрю рукопись.
Он взял рукопись, пробежал ее от начала до конца и остался недоволен, как это было видно по его лицу.
– Да, вы правы. Статья написана в тоне кафешантанных острот, а не как политическая сатира. Но что же делать? Напиши я прилично – публика не поймет. Если не будет острословия, покажется скучно.
– А вы не думаете, что острословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?
Он посмотрел на нее быстрым, пронизывающим взглядом и расхохотался:
– Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Если я выброшу из памфлета все личные нападки и оставлю самую существенную часть в том виде, как она есть, комитет выразит сожаление, что не может взять на себя ответственность напечатать его; если же я пожертвую политической правдой и направлю все удары на отдельных врагов партии – комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вот вам интересная метафизическая задача. Что лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что вы на это скажете, синьора?