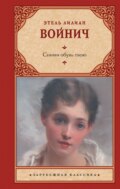Этель Лилиан Войнич
Овод
Глава VI
Овод услышал, что дверь его камеры отпирают, и медленно, безучастно повернул глаза. Он думал, что это опять идет полковник изводить его новым допросом. По узкой лестнице слышались шаги солдат, и карабины их звякали, ударяясь о стену.
Потом кто-то произнес почтительным голосом:
– Ступеньки-то здесь крутые, ваше преосвященство.
Овод судорожно рванулся вперед, но ремни больно впились в его тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание.
В камеру вошел Монтанелли, а за ним сержант и трое часовых.
– Ваше преосвященство, будьте добры подождать минуточку, – заговорил сержант, и голос его слегка дрожал. – Сейчас вам стул принесут. Я послал за ним человека. Уж вы извините, ваше преосвященство: если бы мы вас ожидали, мы бы все приготовили.
– Ничего не надо было приготовлять, сержант. Будьте добры оставить меня наедине с узником. Подождите меня внизу.
– Слушаю, ваше преосвященство. А вот и стул принесли. Около него прикажете поставить?
Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.
– Он, кажется, спит, ваше преосвященство… – снова начал сержант.
Но в эту минуту Овод открыл глаза.
– Нет, не сплю, – сказал он.
Солдаты уже повернулись уходить, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их.
Он наклонился над узником и рассматривал его ремни.
– Кто это так распорядился? – спросил он.
Сержант сделал под козырек.
– Начальник так приказал, ваше преосвященство.
– Я ничего об этом не знал, синьор Риварес, – сказал Монтанелли, и глубокая грусть слышалась в его голосе.
Овод улыбнулся своей обычной жесткой улыбкой.
– Я уже сказал вашему преосвященству, что я вовсе не ожидал, чтобы меня п-погладили по головке.
– Когда было отдано распоряжение, сержант?
– После его попытки бежать, ваше преосвященство.
– Больше двух недель тому назад? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни.
– Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил.
– Принесите немедленно нож.
Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побледнело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонившись над узником, принялся разрезать ремень, перехватывающий руку. Он делал это очень неискусно и неловким движением затянул ремень еще сильнее.
Овод вздрогнул и закусил губу, несмотря на все свое самообладание. Монтанелли быстро шагнул вперед.
– Вы не умеете, дайте мне нож.
Овод расправил руки, и из груди его вырвался протяжный вздох облегчения. Еще мгновение, и Монтанелли освободил его ноги.
– Снимите с него кандалы, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.
Монтанелли отошел к окну и молча глядел, как сержант снимал с заключенного оковы. Кончив, тот приблизился к нему.
– Теперь, – сказал Монтанелли, – расскажите мне все, что произошло за это время.
Сержант не заставил его повторить вопрос и с полной готовностью рассказал обо всем, что знал: о болезни Овода, о примененных к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачной попытке доктора вмешаться.
– Но я, ваше преосвященство, так полагаю, – прибавил он, – что полковник нарочно не велел снимать с него ремней, чтобы заставить его дать показание.
– Показание?
– Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он, – тут сержант бросил быстрый взгляд на Овода, – согласится отвечать.
Монтанелли гневно ударил по подоконнику. Солдаты с удивлением переглянулись: они еще никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался.
А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всем на свете, кроме физического ощущения свободы… Все его члены онемели, и он, наслаждаясь, вытягивал их, поворачивался с боку на бок.
– Теперь вы можете идти, сержант, – сказал кардинал. – Не беспокойтесь, вы не совершили никакого нарушения дисциплины: вы обязаны были рассказать мне обо всем, раз я вас спросил. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я приду к вам, когда кончу.
Когда дверь за солдатами закрылась, он оперся локтем о подоконник и смотрел несколько минут на заходящее солнце, предоставляя Оводу подольше насладиться свободой.
– Мне сообщили, что вы желаете поговорить со мной наедине, – сказал он наконец, отходя от окна и садясь у сенника, на котором лежал узник. – Если вы чувствуете себя достаточно хорошо, то я к вашим услугам.
Он говорил холодно, суровым, повелительным тоном, совершенно для него необычным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, замученным человеческим существом, – но теперь ему вспомнился их последний разговор и смертельное оскорбление, которым он закончился.
Овод откинул голову на руки и поднял глаза на кардинала.
Он обладал прирожденной грацией движений и поз, и, взглянув на его фигуру, пока лицо оставалось в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но когда он поднял голову и при свете догорающего дня можно было разглядеть его блуждающие глаза, бледное лицо и страшный неизгладимый след, оставленный на нем страданиями последних дней, – гнев Монтанелли исчез.
– Вы, кажется, были очень больны, – сказал он. – Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я прекратил бы эти истязания.
Овод пожал плечами.
– На войне не разбирают средств, – холодно сказал он. – Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, с христианской точки зрения, но вряд ли справедливо требовать, чтобы полковник разделял ваши воззрения. Он, без сомнения, предпочел бы не знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, но я к-как раз так же смотрю на этот предмет. Это лишь вопрос л-личного удобства. В данный момент я оказался побежденным, – чего же вы хотите?.. Во всяком случае, было очень любезно с вашей стороны, ваше преосвященство, посетить меня. Но, может быть, вы и это сделали на основании христианской морали? Посещение заключенных. О да! Я и позабыл: «И кто напоит одного из малых сих…»{74} – и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» вам чрезвычайно благодарен.
– Синьор Риварес, – прервал кардинал, – я пришел сюда по вашему желанию, а не по моему. Если бы вы не «оказались побежденным», как вы выражаетесь, то я никогда не заговорил бы с вами снова после нашего последнего разговора. Но у вас двойная привилегия: заключенного и больного, и я не мог отказаться прийти. Вы действительно хотите что-нибудь сказать мне теперь или вы послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?
Ответа не было. Овод отвернулся и закрыл глаза рукой.
– Извините… что приходится вас беспокоить, – сказал он наконец хриплым голосом. – Дайте мне, пожалуйста, немного воды.
На окне стояла кружка с водой; Монтанелли встал и принес ее. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные влажные пальцы Овода сжали его руку, словно тисками.
– Дайте мне вашу руку… скорее… на одну только минуту, – прошептал больной. – О, ведь от этого ничто не изменится! Только на минуту!
Он опустился в изнеможении, прислонившись головой к плечу Монтанелли и дрожа всем телом.
– Выпейте воды, – сказал Монтанелли после короткой паузы.
Овод молча повиновался, потом снова лег на сенник с закрытыми глазами. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука Монтанелли коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни. Монтанелли ближе придвинул свой стул к сеннику и снова сел. Овод лежал без движений, как труп, с вытянувшимся посиневшим лицом. Так прошло довольно много времени. Наконец он открыл глаза, и его блуждающий, как у призрака, взгляд остановился на Монтанелли.
– Благодарю вас, – сказал он. – И прошу прощения. Вы, кажется, задали мне вопрос?
– Вам нельзя говорить. Если вы желаете сказать мне что-нибудь, то я постараюсь прийти к вам завтра.
– Пожалуйста, не уходите, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Я просто немного поволновался за последние дни. Да и то больше притворялся, – спросите-ка полковника, он вам все это расскажет.
– Я предпочитаю делать собственные выводы, – спокойно ответил Монтанелли.
– И полковник тоже. И они, право, бывают иногда остроумны. Это трудно предположить, судя по его внешности, но иногда он нападает на оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например, – кажется, это было в пятницу – я стал немного путать дни в последнее время, ну, да все равно, – я попросил дозу опиума. Это-то я помню очень хорошо. А он пришел сюда и сказал, что я могу получить опиум, если соглашусь сказать, кто о-отпер мне калитку. Помню, он сказал: «Если вы действительно больны, вы согласитесь; если же вы откажетесь, то я сочту это за д-доказательство того, что вы притворяетесь». Мне ни р-разу еще не приходило в голову, что это ужасно смешно. Это з-забавнейшая вещь…
Он вдруг разразился громким, режущим ухо смехом. Потом разом повернулся к кардиналу и продолжал говорить все быстрее и быстрее и заикаясь так, что с трудом можно было разобрать слова:
– Разве вы не находите, что это забавно? Ну к-конечно, нет. У лиц д-духовного звания никогда не бывает чувства юмора. Все вы принимаете т-трагически. В ту, н-например, ночь, в соборе – как вы торжественны были! Да, между прочим, к-какой я, должно быть, п-патетический вид имел в костюме п-пилигрима! Я не д-думаю, чтобы вы п-пони-мали смешную сторону д-даже того дела, из-за к-которого п-пришли сюда сегодня в-вечером.
Монтанелли поднялся.
– Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком возбуждены, чтобы говорить сегодня. Пусть лучше доктор даст вам прежде что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.
– В-высплюсь? О, я буду с-спать достаточно хорошо, ваше преосвященство, когда вы д-дадите ваше с-с-согласие на план полковника. Унция свинца – п-превосходное снотворное.
– Я вас не понимаю, – сказал Монтанелли, поворачиваясь к нему с недоумевающим видом.
Овод снова разразился взрывом хохота:
– Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость – г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добивался полковник вашего с-согласия на военный суд? Уж, п-право, было бы лучше дать его, ваше преосвященство, да и все ваши собратья-прелаты{75} сделали бы это на вашем месте. Вы бы сделали т-так много хорошего и так мало вреда! Уверяю вас, не стоит этот вопрос всех бессонных ночей, которые вы над ним провели.
– Прошу вас, перестаньте на минуту смеяться, – прервал его Монтанелли, – и скажите, откуда вы все это знаете. Кто с вами говорил обо всем этом?
– Р-разве полковник вам н-ни разу не говорил, что я д-дьявол, а не человек? Нет? А мне он это часто говорил! Да, я в д-достаточной степени дьявол, чтобы з-знать, о чем люди д-думают. Вы, ваше преосвященство, считаете меня ч-чертовски неприятным человеком, и в данную минуту вам было бы очень ж-желательно, чтобы кто-нибудь другой в-вынужден был решать вопрос, что со мной делать, и чтобы ваша чуткая совесть не была, т-таким образом, п-потревожена. Довольно п-правильно угадано, не правда ли?
– Выслушайте меня, – сказал кардинал с очень серьезным лицом, снова садясь рядом с ним. – Это правда, каким бы вы путем все это ни узнали. Полковник Феррари опасается со стороны ваших друзей новой попытки освободить вас и хочет предупредить ее… способом, о котором вы говорили. Как видите, я говорю с вами вполне откровенно.
– Ваше п-преосвященство в-всегда с-славились своей п-правдивостью, – вставил Овод голосом, полным горечи.
– Вы, конечно, знаете, – продолжал Монтанелли, – что юридически я не имею голоса в светских делах. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием и не думаю, что полковник решится на такие крайние меры, если не получит на то хотя бы моего безмолвного согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был абсолютно против его плана. Теперь он усиленно пытается поколебать мое мнение, уверяя меня, что в четверг, когда сюда соберется народ поглядеть на процессию, нам грозит серьезная опасность вооруженной попытки освободить вас, что может окончиться кровопролитием. Вы слушаете меня?
Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:
– Да, я вас слушаю.
– Может быть, вы все-таки недостаточно крепки сегодня для этого разговора? Не прийти ли мне лучше завтра поутру? Вопрос очень серьезен и требует, чтобы вы отнеслись к нему с полным вниманием.
– Я предпочел бы покончить с ним сегодня, – ответил Овод все так же устало. – Я вникаю во все, что вы говорите.
– Итак, если действительно верно, – продолжал Монтанелли, – что из-за вас могут вспыхнуть беспорядки, что поведет к кровопролитию, то я беру на себя ужасную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. Хотя, с другой стороны, его личная неприязнь к вам мешает ему, вероятно, быть беспристрастным и заставляет преувеличивать опасность. Это кажется мне еще более возможным после того, как я увидел доказательства его возмутительной жестокости.
Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу, и продолжал:
– Дать свое согласие – значит подписать ваш смертный приговор. Отказать в нем – значит подвергнуть риску жизнь невинных. Я очень серьезно обдумал вопрос и всей душой старался найти какой-нибудь выход. Теперь, наконец, я принял определенное решение.
– Убить меня и спасти невинных? Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. «Если правая рука соблазняет тебя…»{76} – и так далее. А я даже не имею чести быть правой рукой вашего преосвященства, и притом я оскорбил вас. В-вывод ясен. Но неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?
Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежения в голосе, как человек, которому уже надоел предмет спора.
– Ну что же? – сказал он после короткой паузы. – Это и было решение вашего преосвященства?
– Нет.
Овод переменил позу, заложил руки под голову и посмотрел на Монтанелли из-под полуопущенных ресниц. Кардинал сидел в глубоком раздумье. Голова его низко опустилась на грудь, а пальцы медленно постукивали по ручке стола. О, этот старый, так хорошо знакомый жест.
– То, что я решил сделать, – сказал он наконец, поднимая голову, – вероятно, никем еще не делалось раньше. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда, рассказать вам все и предоставить вам самому решить вопрос.
– Предоставить… мне самому?
– Синьор Риварес, я пришел к вам не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам как человек к человеку. Я не предлагаю вам сказать мне, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что если вы об этом знаете, то это составляет вашу тайну, которой вы мне не откроете. Но я прошу вас вообразить себя на моем месте. Я стар, и мне уже немного остается жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.
– А до сих пор они еще вполне чисты от крови, ваше преосвященство?
Монтанелли немного побледнел, но продолжал спокойным голосом:
– Всю свою жизнь я восставал против насилия и жестокости, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни во всех ее формах. В предыдущее царствование я неоднократно и настойчиво высказывался против военно-полевых судов, за что и впал в немилость. Все влияние, каким я пользовался в жизни, я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, употреблял на дело милосердия. Прошу вас, верьте, по крайней мере, что я говорю правду. Теперь предо мною трудная задача. Отказываясь согласиться на предложение полковника, я подвергаю город опасности беспорядков со всеми последствиями ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека. Этот человек поносил мою религию, преследовал клеветой и оскорблениями меня лично (это, впрочем, совсем не важно) и свою жизнь – я в этом не сомневаюсь – обратит во зло, если ему оставят жизнь. И все-таки речь идет о жизни человека.
С минуту он помолчал, потом снова заговорил:
– Синьор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляет меня смотреть на вас как на дурного и вредного человека. Долго я считал вас еще и жестоким, беспринципным, ни перед чем не останавливающимся. Я и до сих пор сохранил отчасти это мнение. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеющий быть верным своим друзьям. Вы сумели внушить солдатам любовь и благоговение к вам, а это не каждому удается. И я думаю, что, пожалуй, я ошибся в своем суждении о вас и что вы лучше, чем стараетесь казаться. К этому-то другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне по совести всю правду: что бы вы сделали, если бы были на моем месте?
– Я, во всяком случае, сам решал бы свои сомнения и брал бы на себя ответственность за них, а не стал бы лицемерно и подло-трусливо, как это делают христиане, прятаться за других, прося их разрешить за меня мою задачу.
Бурный, страстный тон этого внезапного нападения прозвучал резким контрастом с притворной безучастностью, в которую Овод был как будто погружен всего лишь минуту тому назад. Казалось, он сбросил с себя маску.
– Мы, атеисты, – страстно продолжал он, – знаем, что, если человеку выпадает на долю нести тяжелое бремя, он должен нести его как можно храбрее. Если же он упадет под тяжестью ноши, то – что же? – тем хуже для него. Но католик обращается с воплями и стонами к своим святым, а если они не могут помочь ему, он идет к своим врагам – непременно найдет спину, на которую можно свалить свое бремя. Неужели в ваших требниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах мало указаний на такие случаи, что вы приходите ко мне и просите научить, что вам делать? Во имя неба и земли! Неужели недостаточно тяжел мой крест, чтобы вы еще и эту ответственность взвалили на мои плечи? Да ведь и убьете-то всего-навсего атеиста, человека, потрясающего основы, а это, конечно, не бог весть какое преступление.
Он остановился, перевел дух и разразился новой тирадой:
– И вы еще толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы и за год измучить меня так, как умудрились сделать это вы за несколько минут. У него не хватило бы мозгов. Все, что он может выдумать, – это затянуть покрепче ремни, а когда уж больше затягивать некуда, то все его ресурсы исчерпаны. Такая-то жестокость всякому дураку доступна! А вы совсем особенную изобрели. «Не будете ли добры подписать свой собственный смертный приговор? Я обладаю слишком нежным сердцем, чтобы сделать это». Такую вещь может придумать только католик – кроткий, сострадательный католик, который бледнеет при виде слишком туго затянутого ремня! Когда вы вошли сюда подобно ангелу милосердия и были так возмущены «варварством» полковника, я должен был ожидать, что теперь-то только и начнется настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело-то, право, не стоит стольких хлопот. Скажите просто вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или что там окажется удобнее всего со мной сделать… изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие! Только пусть кончает поскорее.
Овода трудно было узнать. Он был вне себя от бешенства, дрожал и тяжело переводил дух, а глаза его искрились зеленым блеском.
Монтанелли встал и молча глядел на него. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но хорошо отдавал себе отчет в том, что они исходят от человека, доведенного до последней крайности. И, поняв это, он простил ему все оскорбления.
– Успокойтесь, – произнес он. – Я вовсе не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать мое бремя на вас, чья ноша и без того уж слишком тяжела. Я никогда не поступал так ни с одним человеческим существом…
– Это ложь! – выкрикнул Овод с пылающими глазами. – А епископство?
– Епископство?
– А, об этом вы уж позабыли? Забыть так легко! «Если ты этого хочешь, Артур, то я скажу, что не могу ехать…» Мне приходилось решать вашу жизнь за вас, мне, в девятнадцать лет! Если бы это не было так безобразно, это было бы смешно!
– Остановитесь! – вырвался у Монтанелли отчаянный крик, и он поднял обе руки и сжал ими голову.
Потом они беспомощно повисли, и он медленно отошел к окну. Он сел на подоконник, схватился рукой за решетку и прижался к ней лбом. Овод, дрожа всем телом, следил за его движениями.
Прошло несколько мгновений, Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы его были бледны как мел.
– Простите, пожалуйста, – сказал он, отчаянно борясь с собой, чтобы сохранить свою обычную спокойную осанку, – я должен покинуть вас теперь. Я не совсем здоров.
Он весь дрожал как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас:
– Падре, неужели вы не понимаете?
Монтанелли подался назад и застыл на месте.
– Только не это, – прошептал он. – Все, что хочешь, Господи, только не это! Если я схожу с ума…
Овод приподнялся на локте и взял дрожащие руки старика в свои.
– Падре, неужели вы не понимаете, что я тогда не утонул?
Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанелли опустился на колени и спрятал лицо на груди своего недавнего врага.
Когда он поднял голову, солнце уже село, и последние красные отблески его угасли на западе. Отец и сын забыли про время и место, про жизнь и смерть; они забыли даже, что были врагами.
– Артур, – прошептал Монтанелли, – это в самом деле ты? Ты вернулся ко мне? Ты воскрес из мертвых?
– Из мертвых, – повторил Овод и вздрогнул.
Он положил голову на руки Монтанелли, как больное дитя, лежащее в объятиях матери.
– Ты вернулся… ты вернулся наконец!
Овод тяжело вздохнул.
– Да, – сказал он, – и вам нужно бороться со мной или убить меня.
– Замолчи, дорогой! К чему все это теперь! Мы с тобой, словно двое детей, заблудившихся в потемках, по ошибке приняли друг друга за привидения. Теперь мы нашли друг друга, и вокруг стало светло. Мой бедный мальчик, как ты изменился… как ты страшно изменился. Ты выглядишь так, точно ты прошел через целый океан страданий, ты, который был когда-то так полон жизнерадостности! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты вернулся ко мне, а потом просыпался, и вокруг все было темно и пусто. Можно ли быть уверенным, что я опять не проснусь и что все это не окажется сном? Дай мне убедиться в том, что это действительность, а не сон… Расскажи мне все, что с тобой тогда было.
– Это произошло очень просто. Я спрятался на товарном судне, грузившемся в гавани, и уехал в Южную Америку.
– А там?
– Там я жил, если только это можно было назвать жизнью, до тех пор, пока… Ну да что!.. О, я многое видел в жизни, кроме духовных семинарий, с того времени, как вы обучили меня философии! Вы говорите, что видели меня во сне… Я вас тоже…
Он весь содрогнулся, и голос его пресекся.
– Это было, – начал он снова прерывающимся голосом, – когда я работал на рудниках в Эквадоре…
– Не рудокопом?
– Нет, в качестве слуги рудокопа, делал вместе с китайскими кули всякую случайно перепадавшую работу. Мы спали в бараке, стоявшем у самого входа в рудник. Я мучительно страдал тогда от той же ужасной болезни, что и тут, и носил целые дни камни под раскаленным солнцем. Раз ночью мною овладел, должно быть, бред, потому что я явственно увидел, как вы входили в дверь. В руках у вас было распятие, похожее на то, что висит там, на стене. Вы молились и прошли совсем близко от меня, но не повернули головы. Я закричал, прося вас помочь мне, дать яду или нож – что-нибудь, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы… О!
Одной рукой он закрыл глаза, другую Монтанелли все еще держал в своих.
– Я видел по вашему лицу, что вы услышали, но вы даже и не взглянули в мою сторону, а продолжали молиться. И только когда вы кончили и поцеловали распятие, вы взглянули на меня и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею… не смею». Когда я пришел в себя и снова увидел барак и кули, больных проказой, я все понял. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать благорасположение Неба, чем вырвать меня из ада, самого страшного, какой только существует. И я всегда помнил это. Забыл вот теперь только, когда вы дотронулись до меня. Я был болен и разбит, и я так любил вас когда-то. Но между нами не может быть ничего, кроме войны, войны и войны. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не знаете, что, пока вы веруете, мы можем быть только врагами?
Монтанелли наклонил голову и поцеловал израненную руку.
– Артур, как же мне не веровать? Если я сохранил свою веру все эти страшные годы, то могу ли я потерять ее теперь, когда Бог вернул мне тебя? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.
– Это вам еще предстоит сделать.
– Артур!
Это был крик, полный неподдельного ужаса, но Овод продолжал, словно не слыша:
– Будем честными во всем. Не надо половинчатости. Глубокая пропасть отделяет нас друг от друга, и безнадежно пытаться протянуть друг другу руки над ней. Если вы решили, что не можете или не хотите отказаться от своей веры, – он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене, – то вам придется согласиться на предложение полковника.
– Согласиться! Боже мой!.. Согласиться!.. Артур, но ведь я люблю тебя!
Лицо Овода исказилось от боли:
– Кого вы любите больше?
Монтанелли с трудом встал, ужас обуял его душу и, казалось, придавил страшной тяжестью его тело. Он почувствовал себя слабым, старым, свернувшимся, как лист, тронутый первым морозом. Теперь он проснулся, и все кругом было темно и пусто.
– Артур, сжалься же надо мной хоть немного!
– А много ли у вас было жалости ко мне, когда вы своей ложью довели меня до положения раба на сахарных плантациях? Вы трепещете от ужаса, когда я вам об этом говорю… Эх вы, мягкосердечные святые! Ведь умер всего только его сын! Вы говорите, что любите меня… О да! Мне дорого обошлась ваша любовь. Неужели вы думаете, что можете изгладить все и превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни фермеров – худших зверей, чем их скот? Меня, который был клоуном в колпаке и бубенцах в бродячем цирке, слугой и невольником матадоров{77} на арене, где происходит бой быков? Меня, который угождал каждому скоту, какому только была охота оседлать меня? Меня, который голодал, которого топтали ногами, на которого плевали, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ потому, что право на них принадлежало собакам? О, зачем я говорю вам обо всем этом! Разве могу я пересказать вам все ужасы, на которые толкнула меня ваша рука? А теперь вы говорите о своей любви ко мне! Как велика она, эта любовь? Достаточно ли сильна она, чтобы вы ради нее отказались от вашей веры? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас, чтобы вы любили его больше, чем меня? За его ли пронзенные руки любите вы его? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это…
Он разорвал рубаху и показал страшные рубцы на теле.
– Падре, ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Падре, нет таких мук, каких я не испытал благодаря вам. Если бы вы только знали все, что я пережил! И все-таки я не хочу умирать! Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что хотел вернуться к жизни и снова объявить войну вашему Богу. Эта цель была мне щитом, и им защищал я свое сердце, когда мне грозили безумие и вторая смерть. И вот теперь, вернувшись к жизни, я снова вижу того, кто был пригвожден ко кресту в течение шести часов, а потом воскрес из мертвых. Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?
Голос его оборвался. Монтанелли сидел не шевелясь, точно каменное изваяние или мертвец, которого усадили на стул. Бурный взрыв отчаяния Овода вызвал у него сначала легкую дрожь, и мускулы его сокращались, словно под ударами бича. Но теперь он сидел совершенно спокойно.
Прошла долгая, томительная пауза. Наконец Монтанелли заговорил, и голос его звучал безжизненно, тоскливо:
– Артур, объясни мне ясней свою мысль. Ты терроризируешь меня, мысли мои путаются, и я не могу тебя понять. Чего ты требуешь от меня?
Овод повернул к нему свое бледное, точно у призрака, лицо.
– Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбрать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите Его больше, выбирайте Его.
– Я не могу тебя понять, – устало повторил Монтанелли. – О каком выборе говоришь ты? Ведь прошлого изменить нельзя.
– Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и уйдемте со мной в иной мир. Мои друзья организуют новую попытку побега, и с вашей помощью им легко будет привести ее в исполнение. Когда же мы будем по ту сторону границы в полной безопасности, признайте меня публично своим сыном. Если же вы недостаточно любите меня для этого, если ваша вера вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но в таком случае идите сейчас же, немедленно, избавьте меня от пытки видеть вас. Мне и без того нелегко.
Монтанелли поднял голову. Теперь он начал понимать. Силы изменили ему, дрожь охватила тело.
– Я, конечно, снесусь с твоими друзьями. Но идти с тобой мне невозможно – ведь я священник.
– А от священника я не приму услуги. Не надо больше компромиссов, падре! Довольно я страдал от них и их последствий. Или вы откажетесь ради меня от церкви, или откажетесь от меня.
– Как я расстанусь с тобой, Артур?! Как я расстанусь с тобой?!
– Ну, так расставайтесь с церковью. Выбирайте между нами двумя. Не предлагайте мне поделить вашу любовь между нами: половину мне, а половину церкви. Я не хочу крох с ее стола.
– Артур, Артур, неужели ты хочешь разорвать мое сердце на части?! Неужели ты хочешь довести меня до безумия?
Овод ударил рукой по стене.
– Выбирайте между нами двумя, – повторил он еще раз.
Монтанелли достал спрятанный на груди его небольшой бумажник и вынул оттуда смятую, истершуюся бумажку.
– Смотри, – сказал он.
«Я верил в вас, как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь».
Овод засмеялся и вернул ему бумажку.
– Каким чудесно молодым бываешь в девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им вещи кажется таким легким делом. Это так же легко и теперь, но только я сам попал под молот. Ну а вы еще немало найдете народу, который будете дурачить, и они этого никогда даже не поймут.
– Делай как хочешь, – сказал Монтанелли. – Бог знает, может быть, и я на твоем месте был бы так же беспощаден, но я не могу сделать того, чего ты требуешь, Артур, я сделаю только то, что смогу. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, то со мной произойдет несчастный случай в горах, или я по ошибке приму что-нибудь другое вместо сонного порошка, – выбирай любое. Удовлетворит ли это тебя? Вот все, что я могу сделать. Это большой грех, но я надеюсь, что Он простит меня. Он милосерднее…