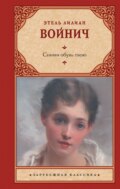Этель Лилиан Войнич
Овод
– Я не думаю, чтобы вы были связаны такой альтернативой. Я уверена, что, если вы выбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, многие будут против. И, мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить ваш резкий тон.
Он пожал плечами и покорно вздохнул:
– Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Раз вы лишаете меня права смеяться теперь, вы должны будете предоставить мне это право в недалеком будущем. Когда его преосвященство, безупречный кардинал, появится во Флоренции, – тогда уж ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. В этом уж вы должны мне уступить.
Он говорил небрежно, холодным тоном, выдергивая хризантемы из вазы и рассматривая на свет прозрачные лепестки. «Как дрожит у него рука, – думала Джемма, глядя, как трепетали цветы. – Ведь не пьет же он?»
– Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, – сказала она, вставая. – Я не могу предугадать, как они решат.
– А вы сами как решили бы? – спросил он, тоже вставая. Теперь он стоял, прислонившись к столу, и, держа в руках цветы, прижимал их к лицу.
Она колебалась. Его вопрос поднял в ней много старых тяжелых воспоминаний.
– Мне трудно это решить, – сказала она наконец. – Мне приходилось не раз слышать о монсеньоре Монтанелли много лет тому назад. Он тогда был только каноником и ректором духовной семинарии в той провинции, где я жила в детстве… Мне много рассказывал о нем один… человек, который знал его очень близко, и рассказывал только самое хорошее. Мне кажется, что он был – тогда, по крайней мере – действительно замечательным человеком. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть так развращает!
Овод поднял голову и смотрел на нее твердым взглядом.
– Во всяком случае, – сказал он, – если монсеньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Лежащий посреди дороги камень может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать… Позвольте, синьора. – Он, прихрамывая, подошел к двери и отворил ее. – Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской? Нет? Ну, до свиданья.
Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.
«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирою, то почему он это сказал таким угрожающим тоном?
Глава IV
Монсеньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он пользовался славой хорошего проповедника и был представителем реформированного папства. Народ с нетерпением ждал от него изложения нового учения – евангелия любви и примирения, долженствовавших уврачевать все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци на место ненавистного всем Ламбручини римским государственным секретарем подняло всеобщий энтузиазм. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать восторженное настроение. Безупречная строгость его жизни была настолько редким явлением среди высших сановников римской церкви, что уже сама по себе привлекла к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимыми условиями карьеры для служителей церкви. К этому еще присоединились действительно замечательный талант проповедника, чарующий голос и обаятельная наружность.
С такими данными он во всякое время имел бы огромный успех.
Грассини, как всегда, прилагал все усилия, чтобы иметь и эту новую знаменитость в числе своих гостей. Но залучить Монтанелли оказалось не так-то легко, на все приглашения он отвечал все тем же вежливым, но решительным отказом.
– Вот всеядные животные, эти супруги Грассини! – сказал как-то раз Мартини Джемме, переходя с нею через площадь Синьории в одно холодное воскресное утро. – Заметили вы, как они поклонились, когда подъехала коляска кардинала? Им все равно, что за человек, – лишь бы о нем кричали. В жизни своей не видел таких неустрашимых охотников на львов. Еще недавно, в августе, – Овод, а теперь – Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным этим вниманием. Он делит его с порядочной оравой авантюристов.
Они шли из собора, где в тот день говорил проповедь Монтанелли. Громадное здание было так переполнено народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что Мартини, боясь, чтобы у Джеммы не разболелась голова, убедил ее уйти до конца службы. После целой недели дождей это было первое солнечное утро, и, пользуясь этим, Мартини предложил Джемме погулять по садам на склонах холмов, окружающих Сан-Николо.
– Нет, – сказала она, – я охотно пройдусь, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Походим лучше по Лунг-Арно: там проедет Монтанелли на обратном пути из церкви, а мне, как Грассини, захотелось видеть знаменитость.
– Но вы ведь только что видели его.
– Недостаточно близко. В соборе была такая давка… а когда он проезжал, мы видели только его спину. Если мы будем держаться ближе к мосту, то, наверное, разглядим его хорошо – ведь он живет на Лунг-Арно.
– Но откуда у вас такое страстное желание видеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.
– Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Мне хочется знать, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его последний раз.
– А когда вы его видели?
– Через два дня после смерти Артура.
Мартини с тревогой взглянул на нее. Они дошли теперь до Лунг-Арно, и она рассеянно смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так его пугал.
– Джемма, дорогая, – сказал он минуту спустя, – неужели это печальное воспоминание будет преследовать вас всю жизнь? Кто из нас не делал ошибок в семнадцать лет?
– Но не каждый из нас в семнадцать лет убивал своего лучшего друга, – ответила она усталым голосом. Облокотившись на каменные перила моста, она упорно смотрела вниз на реку. Мартини молчал: он почти боялся заговорить с ней, когда на нее находило такое настроение.
Они молча перешли мост и пошли по набережной. Через несколько минут она снова заговорила:
– Какой красивый голос у этого человека! В нем есть что-то такое, чего я не замечала ни в одном человеческом голосе. В этом, я думаю, и секрет по крайней мере половины его обаяния.
– Да, голос чудесный, – подхватил Мартини, пользуясь этой новой темой, чтобы отвлечь ее мысли от страшных воспоминаний, навеянных видом реки. – Да и помимо голоса он лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет его обаяния кроется даже не в этом, а глубже: в его безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли вы укажете другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого Папы, с такой абсолютно незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в его епархии, и я видел, как суровые горцы ожидали под дождем его проезда, чтобы хоть мельком взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтут его почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье вообще ненавидят всех, кто носит рясу. Я сказал как-то одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Мы не любим попов, все они лгуны. Но монсеньора Монтанелли мы любим. Никто никогда не слыхал, чтобы он сказал неправду или поступил несправедливо».
– Интересно знать, – сказала Джемма, скорее думая вслух, чем обращаясь к Мартини, – известно ли ему, что о нем думает народ?
– Как это может быть ему известно? Ведь то, что о нем думают, правда.
– Нет, неправда.
– Почему вы это знаете?
– Он сам мне сказал.
– Он? Монтанелли? Джемма, что вы хотите сказать?
Она откинула волосы со лба и повернулась к нему.
Они опять стали над рекой; он облокотился на перила, а она медленно чертила зонтиком по камням.
– Чезаре, мы с вами уже давнишние друзья, но я никогда не рассказывала вам всего, что случилось с Артуром.
– И не надо рассказывать, дорогая, – поспешно остановил он ее. – Все это я уже знаю.
– Вам рассказал Джованни?
– Да, перед смертью, в одну из тех ночей, которые я просиживал возле него. Он сказал мне еще… Джемма, дорогая, раз мы заговорили об этом, то лучше уж скажу вам всю правду… он сказал, что вас постоянно мучит воспоминание об этом несчастном событии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от этих мыслей. И я делал что мог, хотя, кажется, безуспешно, – все, что мог.
– Я знаю, – ответила она, подняв на него глаза. – Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы. А о монсеньоре Монтанелли он вам тогда ничего не говорил?
– Нет. Я и не подозревал, что Монтанелли имеет какое-нибудь отношение к этой истории. Он рассказал мне только об этом деле с предательством и…
– И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.
Они повернули к мосту, через который скоро должен был проехать кардинал. Джемма начала говорить, не отрывая глаз от воды:
– Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии, а когда Артур поступил в университет, они часто читали вместе. Они очень любили друг друга и были похожи, скорее, на любящих друзей, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что он утопится, если лишится своего падре. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, затем вы знаете, что случилось из-за доноса шпиона… На следующий день мой отец и Бертоны – сводные братья Артура, препротивные люди, – целый день пробыли у реки, отыскивая труп, а я сидела в своей комнате и думала о том, что я сделала.
Она приостановилась на несколько секунд и потом продолжала:
– Поздно вечером ко мне зашел мой отец и сказал: «Джемма, милая, сойди вниз; там пришел какой-то человек: ему нужно тебя видеть». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Весь бледный, дрожа, он рассказал мне, что от Джованни из тюрьмы получено второе письмо, в котором сообщалось, что, как там узнали от одного надзирателя, Артур попал в ловушку на исповеди и что его выдал Карди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы знаем, что Артур не виноват». Отец взял меня за руки, стараясь успокоить. Он тогда еще не знал, что я сделала. Я вернулась к себе в комнату и просидела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны опять отправились к реке. У них еще оставалась надежда найти тело.
– Но ведь его не нашли?
– Не нашли. Да его и должно было унести в море. Я осталась одна. Пришла служанка и сказала, что сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что моего отца нет дома, ушел. Я догадалась, что это был Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у калитки сада. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он сейчас же остановился и молча ждал, что я скажу. О, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами целые месяцы после того! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена… Это я убила Артура». И рассказала ему все как было, а он стоял неподвижно, точно высеченный из камня, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое: не вы его убийца, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Он быстро повернулся и вышел за калитку, не прибавив больше ни слова.
– А потом?
– Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в каком-то припадке – это было недалеко от гавани – и его внесли в один из ближайших домов. Вот все, что я знаю. Мой отец сделал все, что мог, чтобы успокоить меня. Когда я рассказала ему все, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, чтобы удалить от всего, что могло напоминать мне о прошлом. Он боялся, как бы я тоже не покончила с собой, и, кажется, я действительно была близка к этому одно время. А потом, вы знаете, когда обнаружилось, что отец болен раком, я должна была взять себя в руки – ведь, кроме меня, не было никого, кто бы мог ухаживать за ним. После его смерти дети оставались на моих руках, пока у моего старшего брата не явилась возможность взять их к себе в дом. Потом приехал Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что и он приложил тут свою руку, – за несчастное письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.
Мартини улыбнулся и покачал головой.
– Может быть, с вашей стороны так и было, – сказал он, – но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас. А, вот и кардинал!
Коляска переехала мост и подкатила к большому дому на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся перед его домом, чтобы хоть мельком взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее его лицо в соборе, совершенно угасло и сменилось выражением заботы и усталости. Когда он вышел из коляски и тяжелой старческой поступью вошел в дом, Джемма повернула назад и медленно пошла к мосту.
– Меня часто занимала мысль, – заговорила она снова, – в чем он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову… вам, может быть, это покажется странным… но между ними такое необыкновенное сходство…
– Между кем?
– Между Артуром и Монтанелли. И это не я одна замечала. Кроме того, было что-то загадочное во взаимных отношениях членов семьи Артура. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых привлекательных женщин, каких я знала. У нее было такое же одухотворенное лицо, как и у Артура, да и характером они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. И жена ее пасынка обращалась с ней возмутительно грубо. Да и сам Артур был так непохож на всех этих вульгарных Бертонов… В детстве, конечно, часто не отдаешь себе отчета в том, что наблюдаешь. Когда потом я восстанавливала в памяти прошлое, мне часто приходило в голову, что Артур – не Бертон. Возможно, что он узнал что-нибудь о матери.
– Если так, то это и могло быть причиной его смерти, и тогда предательство Карди ни при чем, – вставил Мартини, думая доставить ей некоторое облегчение этой догадкой.
Но она покачала головой:
– Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я ударила его, вы бы этого не подумали. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны – в них нет ничего не правдоподобного… Но что я сделала – то сделала.
Они прошли несколько минут, не говоря ни слова.
– Дорогая Джемма, – заговорил наконец Мартини, – если бы на земле существовали способы менять то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками; но раз нельзя их исправить – пусть мертвые оплакивают мертвых. История ужасная, это правда. Но бедный юноша, пожалуй, все-таки счастливее многих из оставшихся в живых, которые теперь сидят по тюрьмам или находятся в изгнании. Вот о ком мы с вами должны думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорит ваш любимец Шелли{58}: «Прошлое принадлежит смерти, а тебе – будущее». Берите его, пока оно еще ваше, и думайте не о том, что вы когда-то давно сделали дурного, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.
В своем горячем желании утешить ее он взял ее руку, но сейчас же выпустил и отшатнулся, услышав за собой мягкий, мурлычущий голос:
– Монсеньор Монтанелли, почтеннейший доктор, без сомнения, обладает всеми теми добродетелями, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. Там, вероятно, немало духов-старожилов, никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи – большие охотники до новинок…
– Откуда вы это знаете? – послышался голос Риккардо, в котором звучала нотка сдерживаемого раздражения.
– Из Священного Писания, мой дорогой. Если верить ему, то даже почтенные духи имеют пристрастие к фантастическим сочетаниям. А честность и кардинал, по-моему, очень своеобразное сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом… А! Синьор Мартини и синьора Болла! Славная погода после дождей, не правда ли? Слушали и вы нового Савонаролу?{59}
Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и цветочком в петлице, протягивал ему свою тонкую руку, обтянутую изящной перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его безукоризненных лакированных башмаках и освещало его улыбающееся лицо, он показался Мартини не таким безобразным, но еще более самодовольным. Они пожали друг другу руки: один приветливо, другой угрюмо.
– Вам дурно, синьора Болла? – вырвалось вдруг у Риккардо.
Ее лицо было так бледно, что казалось почти мертвым в тени, которую отбрасывали на него поля ее шляпы, и по тому, как прыгали ленты у нее на груди, было видно, как сильно бьется ее сердце.
– Я поеду домой, – сказала она слабым голосом.
Подозвали коляску. Мартини сел с нею, чтобы проводить ее до дому. Овод поспешил поправить ее платье, свесившееся на колесо, и потом вдруг взглянул на нее, и Мартини заметил, что она отшатнулась с выражением ужаса на лице.
– Что с вами, Джемма? – спросил он по-английски, как только они тронулись. – Что вам сказал этот негодяй?
– Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем. Я… испугалась.
– Испугались?
– Да… Мне показалось…
Она прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, пока она придет в себя. Ее лицо мало-помалу ожило, и, повернувшись к Мартини, она заговорила своим обыкновенным, твердым голосом:
– Вы были совершенно правы, говоря, что вредно отдаваться воспоминаниям об ужасном прошлом. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать самые невозможные вещи. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном буду видеть фантастическое сходство с Артуром. Это – точно галлюцинация, какой-то кошмар среди белого дня. Представьте: сейчас, когда этот человек подошел к нам, мне показалось, что это Артур.
Глава V
Овод положительно отличался особенной способностью наживать себе врагов. Он приехал во Флоренцию только в августе, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, разделяли отношение к нему Мартини. Даже самым горячим из его поклонников наскучили свирепые нападки на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать и поддерживать все, что ни скажет остроумный сатирик, начинал скрепя сердце признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое.
Единственным, кто оставался равнодушным к граду карикатур и пасквилей, выходивших из-под пера Овода, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, как говорил Мартини, на высмеивание человека, который принимает это так благодушно. Рассказывали, что Монтанелли, когда у него обедал архиепископ Флорентийский, нашел у себя в комнате один из самых злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и, передавая архиепископу, сказал: «А ведь неглупо написано, не правда ли?»
Вскоре в городе появился листок, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже на нем и не был нарисован Овод с распростертыми крыльями (этим рисунком Риварес заменял подпись на своих памфлетах), для большинства читателей уже по одному стилю, желчному и язвительному, стало бы ясно, кем он написан. Памфлет был составлен в виде диалога между Тосканой в образе Мадонны и Монтанелли в образе ангела в венке оливковых веток (символ мира) и с лилиями в руке (символ чистоты), возвещающего о пришествии иезуитов. Все это произведение было полно оскорбительных личных намеков и слишком смелых догадок. Вся Флоренция чувствовала, что сатира и жестока и несправедлива, – и, однако, вся Флоренция смеялась. В серьезном тоне нелепостей, которыми был наполнен памфлет, было столько неотразимого юмора, что самые яростные противники Овода смеялись так же искренне, как и его приверженцы. И, несмотря на явную несправедливость сатиры, листок оказал свое действие на городское население. Личная репутация Монтанелли стояла слишком высоко, чтобы ее мог серьезно поколебать какой-нибудь пасквиль{60}, хотя бы самый остроумный, но был момент, когда общественное мнение обратилось против него. Овод знал, куда ужалить, и хотя перед домом кардинала продолжал толпиться народ, чтобы посмотреть на него, когда он садился в коляску или возвращался домой, но теперь сквозь благословения и приветствия часто прорывались знаменательные крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!».
Но у Монтанелли не было недостатка в защитниках. Через два дня после появления пасквиля в руководящем клерикальном органе «Верующий» была напечатана блестящая статья, озаглавленная «Ответ на “Тайну благовещения”» и подписанная «Сын церкви». Это была вполне безупречная защита Монтанелли против клеветнических нападок Овода. Анонимный автор начинал пылким и красноречивым изложением доктрины «мира и благоволения» на земле, провозвестником которой явился новый Папа, затем бросал вызов Оводу, приглашая его доказать справедливость хоть одного из его обвинений, и в заключение торжественно призывал публику не верить достойному презрения клеветнику. Как по убедительности защиты, так и по литературным достоинствам этот «Ответ» был настолько выше заурядных газетных статей, что им заинтересовался весь город, тем более что сам издатель газеты не мог угадать, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вышла вскоре отдельной брошюркой и об «анонимном защитнике» Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.
Овод ответил страстными нападками на нового Папу и на всех его клевретов, особенно на Монтанелли, осторожно намекнув, что панегирик ему был написан с его собственного согласия. На это анонимный защитник ответил в «Верующем» негодующим протестом. Все остальное время пребывания Монтанелли во Флоренции эта полемика не прекращалась и скоро настолько завладела вниманием публики, что заставила ее почти забыть самого проповедника.
Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но этим ничего не добились. На все эти доводы он только любезно улыбался и отвечал со своим характерным заиканием:
– П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я нарочно выговорил себе право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет Монтанелли. Таков был наш уговор.
В конце октября Монтанелли выехал в свою епархию в Романье. Перед отъездом он произнес прощальную проповедь, в которой коснулся и знаменитого литературного спора. Мягко выразив сожаление об излишней страстности обоих писателей, он просил своего неведомого защитника подать пример сдержанности и прекратить эту бесполезную и непристойную словесную войну. На следующий же день в «Верующем» появилась заметка, извещавшая о том, что «Сын церкви», ввиду публично выраженного монсеньором Монтанелли желания, отказывается от продолжения спора.
В конце ноября Овод заявил комитету, что он хочет съездить к морю на две недели. Он уехал, как говорили, в Ливорно; но когда вскоре после него туда же приехал доктор Риккардо и хотел повидаться с ним, он тщетно разыскивал его там. Пятого декабря в Папской области и вдоль всей цепи Апеннинских гор началось крупное политическое движение, и многие тогда стали догадываться, почему Оводу пришла вдруг фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда волнение было подавлено. Встретив на улице Риккардо, он сказал ему с улыбкой:
– Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой славный старинный город! В нем чувствуешь себя точно в счастливой Аркадии!{61}
На Рождестве он присутствовал на одном собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было очень многолюдное. Овод немного опоздал, и, когда он вошел с поклоном и улыбкой, выражавшими просьбу извинить его, не было уже ни одного свободного места. Риккардо поднялся было, чтобы принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его.
– Не беспокойтесь, – сказал он, – я отлично устроюсь и так.
Он прошел через комнату к окну, возле которого сидела Джемма, и сел на подоконник.
Джемма чувствовала на себе загадочный взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами Леонардо да Винчи{62}, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку быстро уступило место безрассудному страху.
На обсуждение собрания был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожавшего Тоскане голода, с изложением мнения комитета о том, какие должны быть приняты меры для предупреждения бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко расходились. Радикальная часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за выпуск энергичного воззвания к правительству и к обществу о немедленном принятии мер для своевременной помощи населению. А более умеренная часть, в том числе, конечно, и Грассини, опасалась, что слишком энергичный тон воззвания может только раздражить правительство, но не убедить.
– Все это очень хорошо, господа, и весьма желательно, разумеется, чтобы помощь была оказана без промедления, – говорил Грассини спокойно, со снисходительным сожалением оглядывая волнующихся радикалов. – Все мы, или по крайней мере большинство из нас, желаем много такого, чего едва ли добьемся когда-нибудь. Но если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Если бы нам удалось заставить правительство провести анкету о состоянии урожая, то и это уже было бы шагом вперед.
Галли, сидевший в углу около камина, вскочил, чтобы возразить:
– Шагом вперед? Конечно, милостивый государь. Но голод не будет нас ждать. Если мы пойдем таким шагом, народ перемрет, прежде чем мы успеем подать ему помощь.
– Интересно бы знать… – начал было Саккони.
Но тут с разных мест раздались голоса:
– Говорите громче: не слышно!
– Как тут услышишь, когда на улице такой адский шум, – сердито сказал Галли. – Закрыто ли там окно, Риккардо?
Джемма оглянулась на окно.
– Да, – сказала она, – окно закрыто. Но там, должно быть, проходит бродячий цирк или что-то в этом роде.
Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще рев скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.
– Теперь уж такие дни, что приходится мириться с шумом, – сказал Риккардо. – На Святках всегда бывает шумно… Что вы хотели сказать, Саккони?
– Я хотел сказать, что интересно бы знать, что думают обо всем этом в Пизе и в Ливорно. Не сообщит ли нам чего-нибудь на этот счет синьор Риварес? Он как раз оттуда.
Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили.
– Синьор Риварес! – позвала его Джемма. Она сидела к нему ближе всех и, так как он не отрывался от окна, наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и она вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы его как-то страшно зашевелились.
– Да, это бродячий цирк, – прошептал он.
Ее первым инстинктивным движением было оградить его от любопытства других. Не понимая еще, что с ним, она догадывалась, что у него какая-то страшная галлюцинация, овладевшая его телом и душой. Она быстро встала и, заслоняя его собою от взглядов публики, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу.
По улице двигался цирк с фокусниками, сидевшими на ослах, и с арлекинами в пестрых костюмах.
Толпа праздного люда, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась с арлекинами бумажными лентами и бросала мешочки с конфетами коломбине, которая сидела на своей колеснице, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и деланой улыбкой на раскрашенных губах. За колесницей шла пестрая толпа: арабы, нищие, акробаты, выкидывавшие на ходу всякие головоломные штучки, и продавцы мелких безделушек и сластей. Все они, смеясь и крича, толкали и колотили кого-то, но кого именно – Джемма сначала не могла разглядеть в толпе. Но вскоре она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в нелепом шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, очевидно, принадлежал к составу труппы и забавлял толпу уродливыми гримасами и кривляньем.
– Что там такое? – спросил Риккардо, подходя к окну.
Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то бродячих актеров. Джемма повернулась к нему.
– Ничего интересного, – сказала она. – Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я думала, не случилось ли у них чего-нибудь.
Она стояла, опершись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ее руку.
– Благодарю вас! – прошептал он мягко и, закрыв окно, снова сел на подоконник.
– Простите, что я прервал вас, господа, – сказал он шутливым тоном. – Я загляделся на представление. Очень интересно.
– Саккони предложил вам вопрос, – сказал ему резко Мартини. Поведение Овода казалось ему нелепым ломаньем, и ему было досадно, что Джемма так бестактно следовала его примеру. Это совсем было на нее не похоже.
Овод объявил, что он ничего не может сказать о настроении в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И он тотчас же пустился в ответные рассуждения сначала о предстоящем голоде, мучил своей длинной речью и заиканьем. Казалось, он находил какое-то лихорадочное удовольствие в звуках собственного голоса. Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини:
– Не останетесь ли пообедать у меня? Фабрицци и Саккони обещали остаться.
– Благодарю, но я собирался проводить синьору Боллу.
– Вы, кажется, серьезно думаете, что я не могу добраться до дому одна? – сказала Джемма, подымаясь и накидывая плащ. – Конечно, он останется у вас, доктор: ему полезно побыть в обществе. Он слишком засиделся дома.
– Если позволите, я вас провожу, – вставил Овод. – Я иду в ту же сторону.
– Если вам в самом деле по дороге…
– А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечерком? – спросил Риккардо, отворяя им дверь.
Овод, смеясь, оглянулся через плечо.
– У меня, мой друг? Я хочу пойти в цирк.
– Что за чудак, – говорил потом Риккардо, вернувшись к гостям. – И какое странное пристрастие к балаганным шутам!