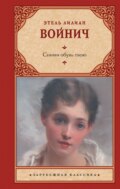Этель Лилиан Войнич
Овод
Но проповедник продолжал говорить, и они замолчали.
– Поэтому говорю вам сегодня: я глядел на вас, на ваши слабости и ваши печали и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом заглянул я в глаза дорогого сына моего и увидел в них искупление кровью.
И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест.
Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер, и нет воскресения: он умер, и нет у меня сына. О мой мальчик, мой мальчик!
Из груди его вырвался долгий жалобный крик; и стоголосым эхом подхватили его испуганные голоса народа. Все духовенство встало со своих мест, диаконы подошли к проповеднику и хотели взять его за руки. Но он вырвался и посмотрел им в глаза взглядом разъяренного дикого зверя.
– Что это? Разве не довольно еще крови? Подождите своей очереди, шакалы! Все вы насытитесь!
Они попятились и сбились в кучу, громко и тяжело дыша. Лица их побелели как мел. Монтанелли снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой пролетел ураган.
– Вы убили его! Вы убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь, что сделал это. Лучше было бы, чтобы вы сгнили в ваших пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Стоят ли ваши зачумленные души, чтобы за спасение их было заплачено такою ценой?
Но поздно, поздно! Громко кричу я, он не слышит меня. Громко стучу в дверь его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет моих очей, к страшным, пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрекся от него, гады ползучие, отрекся от него ради вас!
Так вот же вам ваше спасение! Берите его! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! Цена вашего пира уплачена за вас. Так ступайте, ешьте до отвала, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон течет со ступенек престола горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, валяясь в грязи, и вымажьте ею ваши лица! Хватайте тело, деритесь за него и пожирайте его… и оставьте меня в покое! Вот оно, тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем замученная жизнь, все еще бьется оно в тяжкой предсмертной агонии! Возьмите же его и ешьте!
Он схватил чашу со Святыми Дарами, поднял высоко над головой и бросил с размаху на пол. Когда металл зазвенел, ударившись о камень, все духовенство толпой ринулось вперед, и двадцать рук зараз схватили безумца.
И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями.
Волнующимся и ревущим потоком, опрокидывая стулья и скамьи, стучась в запертые двери, давя друг друга, срывая занавески и гирлянды, толпа хлынула на улицу.
Эпилог
– Джемма, вас хочет видеть какой-то человек внизу.
Мартини произнес эти слова сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение этих последних десяти дней.
Этот тон да еще спокойная ровность речи и движений были единственными проявлениями их печали.
Джемма, в переднике и с засученными рукавами, стояла за столом, раскладывая на нем маленькие пакетики с патронами. Она простояла за работой с раннего утра, и теперь, в ослепительный полдень, на ее лице была написана страшная усталость.
– Какой человек, Чезаре? Что ему нужно?
– Я не знаю, дорогая. Он мне не сказал. Он просил только передать, что ему нужно переговорить с вами наедине.
– Хорошо. – Она скинула передник и спустила рукава. – Нечего делать, надо пойти к нему. Похоже на то, что это шпион.
– На всякий случай я буду в соседней комнате, чтобы вы могли позвать меня. Как только вы отвяжетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.
– О нет! Я лучше буду продолжать работу.
Она медленно спускалась по лестнице. Мартини шел следом за ней.
За эти несколько дней она состарилась на целых десять лет. Едва заметная седая прядка волос превратилась в широкий пучок. Теперь она большей частью держала глаза опущенными в землю. Но когда случайно поднимала, их ужасное выражение заставляло содрогаться Мартини.
В маленькой гостиной она застала неуклюжего человека, стоявшего навытяжку посреди комнаты. Весь его вид – его фигура и полуиспуганное выражение глаз, которыми он взглянул на нее, когда она вошла, – подсказали ей, что это, должно быть, рядовой швейцарской гвардии. На нем была крестьянская блуза, очевидно с чужого плеча. Он озирался кругом, как будто боялся, что его вот-вот накроют.
– Вы говорите по-немецки? – спросил он на дурном цюрихском наречии.
– Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.
– Вы синьора Болла? Я принес вам письмо.
– Письмо? – Она задрожала и оперлась рукой о стол.
– Я рядовой гарнизона вон оттуда. – Он указал рукой в окно на холм, где виднелась крепость. – Письмо это от казненного на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед казнью. Я обещал ему передать вам в руки.
Она нагнула голову: он написал в конце концов!..
– Потому-то я так долго и не приносил, – продолжал солдат. – Казненный просил, чтобы я никому не давал его, кроме вас. Я не смог раньше выбраться – за мной следили. Я достал вот это платье, чтобы прийти.
Он пошарил за пазухой своей блузы. Стояла жаркая погода, и листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен и порван, но и весь промок от пота. Несколько времени он простоял, неловко переступая с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.
– Вы никому не расскажете? – проговорил он робко, окидывая ее недоверчивым взглядом. – Мне может стоить жизни этот приход сюда.
– Конечно, я никому не расскажу. Подождите минутку.
Она остановила его, когда он уже повернулся, чтобы уйти, и стала рыться у себя в кошельке. Оскорбленный, он попятился назад.
– Мне не нужно ваших денег, – сказал он грубовато. – Я сделал это для него: он просил меня. Для него я сделал бы и больше. Он был так добр ко мне, спаси его, Господи.
Легкая дрожь в его голосе заставила ее поднять голову. Медленным движением руки он вытирал глаза грязным рукавом.
– Мы должны были его расстрелять, – продолжал он тихим голосом. – Мои товарищи и я… Солдату приходится слушаться приказаний начальника. Мы дали промах… А он смеялся над нами. Называл нас неумелым отрядом. Нужно было снова стрелять… Он был так добр ко мне.
В комнате воцарилось молчание. Он выпрямился, неловко отдал честь и вышел.
Несколько минут она стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села читать у открытого окна.
Письмо было написано очень убористо, карандашом, и местами его с трудом можно было разобрать. Но первые два слова были совершенно разборчивы. Они были написаны по-английски.
«Дорогая Джим» – стояло там.
Строки вдруг расплылись и подернулись туманом. И она его потеряла опять! Она его потеряла! При виде этого детского прозвища перед ней снова встала безнадежность ее потери, и она опустила руки в бессильном отчаянии, как будто вся тяжесть земли, лежавшей на нем, навалилась ей на сердце.
Затем она опять поднесла листок и стала читать:
«Завтра утром на рассвете меня расстреляют, и, так как я хочу выполнить мое обещание сказать вам все, я должен сделать это теперь. Впрочем, нет нужды в длинных объяснениях между нами. Мы всегда понимали друг друга без лишних слов, даже когда были детьми.
Итак, вы видите, моя дорогая, не к чему вам было терзать свое сердце из-за того, что когда-то вы ударили меня. Это был тяжелый удар для меня. Но потом мне пришлось вынести немало и других таких же, и, однако, я пережил их. Кое за что даже отплатил. И здесь, в тюрьме, я, как рыбка в нашей детской книжке – забыл ее название, – «жив и бью хвостом». Бью хвостом в последний раз… А завтра утром – finita la comedia[14]. Воздадим благодарность богам за то, что они для нас сделали. Это не много, но все же кое-что. Мы должны быть признательны и за это.
А что касается завтрашнего утра, мне хочется, чтобы вы оба – и вы и Мартини – знали, что я совершенно счастлив и удовлетворен и что мне больше нечего просить у судьбы. Передайте это Мартини, как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ… Он поймет. Я знаю, дорогая, что, попирая насущные интересы народа и возвращаясь к тайным пыткам и казням, они играют нам на руку, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете крепко стоять друг за друга и сделаете решительный натиск, вам предстоит увидеть великие события. А я завтра выйду во двор с таким же радостным сердцем, с каким ребенок бежит на праздник домой. Свою долю работы я совершил, а смертный приговор говорит за то, что я сделал ее добросовестно. Они убивают меня потому, что боятся меня. А чего же больше может желать человек?
Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Человек, который идет на смерть, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был таким грубым с вами и не мог забыть старых обид.
Вы, впрочем, и сами понимаете почему, и я говорю об этом – мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной маленькой девочкой и ходили в ситцевом платьице, с косичкой, напоминавшей крысиный хвостик. Я и теперь люблю вас. Помните тот день, когда я поцеловал вашу руку и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это была скверная выходка, но вы должны простить. А теперь я целую бумагу, на которой написал ваше имя. Выходит, что я дважды поцеловал вас, и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!»
Подписи не было, но в конце письма стояло стихотворение, которое они учили вместе, когда были детьми:
Я счастливый мотылек,
Буду жить я иль умру…
Полчаса спустя в комнату вошел Мартини. Полжизни он скрывал свои чувства к ней, а теперь, увидев ее горе, не выдержал и, выронив объявление, которое было у него в руке, обнял ее.
– Джемма! Что такое? Ради бога! Не рыдайте так! Вы ведь никогда не плакали! Джемма! Джемма, дорогая, любимая моя!
– Ничего, Чезаре. Я расскажу вам после… я… теперь… я не могу говорить.
Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо и, поднявшись, высунулась в окно, чтобы скрыть свое лицо. Мартини закусил губы. Первый раз за все эти годы он, точно школьник, выдал себя, а она даже не заметила.
– Что это? Гудит соборный колокол, – сказала она после короткого молчания, оглянувшись на него. Самообладание вернулось к ней. – Должно быть, кто-то умер.
– Об этом-то я и пришел вам сказать, – ответил Мартини обычным голосом.
Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой.
«Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньор Лоренцо Монтанелли внезапно скончался в Равенне от разрыва сердца».
Она быстро подняла голову от листка, и Мартини, пожимая плечами, ответил на ее невысказанную мысль:
– Что же вы думаете, мадонна? Разрыв сердца такое же благовидное объяснение, как и всякое другое.