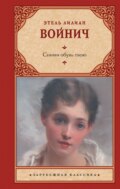Этель Лилиан Войнич
Овод
В его глазах сверкнул опасный огонек, какого она раньше никогда у него не замечала.
Он неожиданно наклонился и поцеловал ей руку.
Она отдернула ее в испуге.
– Не надо! – сказала она умоляющим тоном. – Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.
– А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?
– Тому, которого я убила… Ах, вот Чезаре у ворот! Мне… мне надо идти.
Когда Мартини вошел в комнату, он застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе.
Глава IX
Несколько дней спустя Овод вошел в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще довольно бледен и хромал сильнее обыкновенного. Риккардо, сидевший за одним из соседних столов, поднял голову и взглянул на него. Риккардо очень любил Овода, но не выносил в нем одной черты – той странной личной злобы, с какой он преследовал своих общественных врагов.
– Вы подготовляете новое нападение на несчастного кардинала? – спросил он с ноткой досады в голосе.
– Почему это вы, милейший, в-всегда-а приписываете людям з-злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современной теологии для н-новой газеты.
– Какой новой газеты? – Риккардо недовольно сдвинул брови.
То, что вместе с ожидаемым новым законом о печати оппозиция готовилась удивить город изданием новой радикальной газеты, стало уже секретом полишинеля, однако формально это был все еще секрет.
– Она будет, конечно, называться или «Шарлатаном», или «Церковным календарем».
– Тише, Риварес. Мы мешаем другим читающим.
– Ну так вернитесь к своей медицине и предоставьте мне заниматься теологией. Я не мешаю вам выправлять сломанные кости, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.
И с сосредоточенным видом Овод погрузился в чтение проповедей. Один из библиотекарей подошел к нему.
– Синьор Риварес, вы были, если не ошибаюсь, членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки? Не будете ли добры дать нам кое-какие справки о ней? Одна дама спрашивала отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика!
– Какие сведения ей нужны?
– Ей нужны только год отправки экспедиции и год, когда она проходила через Эквадор.
– Экспедиция покинула Париж осенью тридцать седьмого года и прошла через Квито в апреле следующего. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом сорок первого. Не нужны ли этой даме даты отдельных открытий?
– Нет, спасибо. Это все, что ей требуется. Я записал годы. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болле. Еще раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите, что потревожил.
Овод откинулся на спинку стула, и брови его поднялись в недоумении. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать год, когда экспедиция проходила через Эквадор?..
Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833-го. Пять лет…
Пять лет… И потом он говорил о роскошном доме, где он жил, и о ком-то, кому он верил и кто его обманул… обманул его, и обман открылся…
Она остановилась и заломила руки над головой. О нет, это чистое безумие!.. Нет, это невозможно, это бессмысленно… А между тем как тщательно обыскали они тогда всю гавань!
Пять лет… И ему не было еще двадцати одного, когда тот матрос… Значит, ему должно было быть девятнадцать, когда он убежал из дому. Ведь он сказал: «полтора года…» И откуда у него эти голубые глаза и эти беспрерывные движения пальцев? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет… пять лет…
Если бы только знать наверняка, что он утонул, если бы она в то время видела его труп!.. О, тогда эта старая рана, вероятно, зажила бы наконец и старое воспоминание перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она привыкла бы, может быть, смотреть без ужаса в прошлое.
Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом упорно боролась она с демоном раскаяния. Она не переставала твердить себе, что работа ее – в будущем, не переставала закрывать глаза и уши перед страшным призраком прошлого. Но изо дня в день, из года в год преследовал ее образ утопленника, уносимого морским приливом. И неутомимо поднимался в сердце ее крик: «Артур погиб! Я убила его!» Порою ей казалось, что бремя слишком тяжело, что у нее нет сил нести его дальше.
И, однако, она отдала бы теперь половину своей жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Мысль, что она убила его, сделалась для нее уже привычным страданием; она слишком долго изнемогала под тяжестью этой мысли, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а в… Она опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся жизнь ее была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-нибудь более страшное…
Медленно и безжалостно прошла она мыслью шаг за шагом через весь ад его прошлой жизни. И так ярко рисовался он ее воображению, словно она видела и испытывала все это сама: беспомощность человеческой души, пережитое надругательство, худшее, чем смерть, ужас одиночества и длительную агонию, вечно и безостановочно подтачивающую его жизнь. Так ясно видела она эту грязную индейскую хижину, как будто сама была там с ним. И казалось ей: она страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в отвратительном бродячем цирке.
Бродячий цирк… Нет, она должна изгладить из памяти хоть этот образ; ведь можно потерять рассудок, если все сидеть и думать об этом.
Она выдвинула небольшой ящик письменного стола. Там у нее хранилось несколько реликвий личного характера, которые она не могла заставить себя уничтожить. Она не любила хранить сентиментальные безделушки, но некоторые вещицы она все-таки берегла как воспоминания: это была уступка той слабой стороне ее «я», которую она всегда так упорно подавляла в себе.
Она стала вынимать их из ящика одну за другой: первое письмо Джованни к ней, цветы, которые лежали в его мертвой руке, локон волос ее ребенка, увядший лист с могилы ее отца. На дне ящика лежала миниатюра Артура, когда ему было десять лет, – единственный существовавший портрет.
Она опустилась на стул, держа портрет в руках, и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ настоящего Артура снова не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Тонкие, нервные губы, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения – все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И из глаз ее медленно потекли слепящие слезы и скрыли от нее портрет.
О, как могла ей прийти в голову подобная мысль! Разве не святотатство представить себе эту светлую далекую душу связанной с грязью и скорбью жизни? В тысячу раз было бы лучше, чтобы он перешел в небытие, чем остался жить и превратился в Овода, – Овода с его безукоризненными галстуками, сомнительными остротами и язвительным языком! Нет, нет! Это лишь отвратительная и бессмысленная фантазия: она расстроила себя праздными выдумками – Артур мертв!
– Могу я войти? – спросил мягкий голос у двери.
Она вздрогнула так сильно, что портрет выпал из ее рук. Овод прошел, хромая, через комнату, поднял его и подал ей.
– Как вы меня испугали! – сказала она.
– П-простите, пожалуйста. Быть может, я вам мешаю?
– О нет, я только перебирала разные старые вещи.
С минуту она колебалась, потом протянула ему миниатюру:
– Что вы скажете об этой головке?
И пока он смотрел на портрет, она следила за его лицом так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения этого лица. Но она не прочла на нем ответа на мучивший ее вопрос – ничего, кроме объективного интереса к портрету.
– Трудную вы мне задали задачу, – сказал он. – Портрет выцвел, а детские лица вообще читать нелегко. Но думается мне, что взрослый человек, в которого превратится этот ребенок, будет несчастлив. И самое разумное, что может сделать этот мальчишка, – это воздержаться от превращения во взрослого.
– Почему?
– Посмотрите на линию нижней губы. Для этого рода натур страдание есть страдание, а неправда – неправда. В этом мире нет места для таких людей. Здесь нужны люди, которые умеют сосредоточиваться только на своем деле.
– Портрет не похож ни на кого, кого бы вы знали?
Он пристальнее взглянул на портрет:
– Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож.
– На кого?
– На к-кардинала Монтанелли. Быть может, у его безупречного преосвященства имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?
– Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.
– Того, которого вы убили?
Она невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это ужасное слово!
– Да, того, кого я убила… если он действительно умер.
– Если?..
Она не спускала глаз с его лица.
– Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Он, быть может, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.
– Будем надеяться, что нет. В свое время я немало ср-р-ражался и не одного, быть может, человека отправил в царство теней, но, если бы на моей совести лежала отправка какого-нибудь живого существа в Южную Америку, я дурно бы спал, уверяю вас.
Она стиснула руки, стараясь подавить свое волнение.
– Значит, вы думаете, – прервала она, подходя к нему, – что, если бы он не утонул… если бы он вместо того пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал прошлое забвению? Думаете вы, что он никогда не забыл бы? Помните, что и мне это многого стоило! Смотрите!
Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая белая полоса. Наступило долгое молчание.
– Я думаю, – сказал медленно Овод, – что мертвым лучше оставаться мертвыми. Забыть – дело трудное. И будь я на месте вашего мертвого друга, я продолжал бы ос-с-ставаться мертвым.
Джемма положила портрет обратно в ящик и заперла его.
– Я пришел, чтобы поговорить с вами об одном небольшом деле, – если возможно, частным образом. Насчет одного плана, сложившегося в моей голове.
Она придвинула стул к столу и села.
– Что вы думаете о проектируемом законе о печати?
– Что я о нем думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше полкаравая, чем совсем ничего.
– Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые господа либералы хотят издавать здесь?
– Да, я думала этим заняться. Всегда бывает так много практической работы при выпуске новой газеты: типография, организация, распространение и…
– Долго ли еще будете вы напрасно губить таким образом свои духовные силы?
– Почему губить?
– Потому что иначе этого назвать нельзя. Ведь вы очень хорошо знаете, что голова у вас гораздо светлее, чем у большинства мужчин, с которыми вы работаете, а вы, держа в своих руках все дело, позволяете им превращать вас в какую-то невольницу, исполняющую всю черную работу. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите еще их корректуры, как какой-нибудь заправский корректор.
– Во-первых, я не все свое время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы, мне кажется, сильно преувеличиваете мои дарования.
– Я думаю, что у вас хороший и здоровый ум, а это очень важно. На этих томительных комитетских собраниях вы всегда обнаруживаете слабые стороны логики всех их участников.
– Я вполне довольна своим положением. Работа, которую я исполняю, не бог весть как важна, но ведь всякий делает что может.
– Синьора Болла, мы с вами зашли чересчур далеко, чтобы забавляться игрой в комплименты и в скромничанье. Ответьте мне прямо: не считаете ли вы, что вы тратите вашу мозговую работу на вещи, которые могли бы быть сделаны людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?
– Ну, если вы уж так настаиваете на ответе, то, пожалуй, это до известной степени верно.
– Так почему же вы допускаете это?
– Потому что я тут бессильна.
– Бессильны? Отчего?
Она взглянула на него с упреком:
– Это нехорошо… так настойчиво требовать ответа.
– А все-таки вы мне скажите отчего?
– Ну, хорошо. Если я уж должна вам ответить, то… оттого, что вся моя жизнь разбита. У меня нет энергии взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только на должность революционной клячи, на партийную черную работу. Ее я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а она должна быть сделана кем-нибудь.
– Да. Разумеется, она должна быть кем-нибудь сделана, но не вечно одним и тем же работником.
– Но ведь эта работа – почти все, на что я способна.
Он посмотрел на нее странным, непроницаемым взглядом из-под полуопущенных век. Она подняла голову.
– Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Бесполезно, уверяю вас, говорить со мной о работе, которую я могла бы делать. Я уже ее не сделаю теперь. Но, быть может, я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит?
– Вы начинаете с заявления, что бесполезно предлагать вам работу, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мой план требует, чтобы вы помогли мне действием, а не только мыслью.
– Расскажите мне, в чем дело, а потом поговорим.
– Скажите сначала, слыхали ли вы что-нибудь о планах восстания в Венеции?
– Я только и слышу, что о планах восстания, о заговорах санфедистов. Со времени амнистии только об этом и говорят. Боюсь, что я одинаково скептически отношусь и к тому и к другому.
– Я тоже, в большинстве случаев. Но я говорю о серьезных приготовлениях к восстанию против австрийцев. Вся провинция готовится к нему. В Папской области молодежь тайно готовится перейти границу и пристать к восставшим в качестве добровольцев… Мне сообщают друзья из Романьи…
– Скажите, – прервала она, – вы вполне уверены, что этим вашим друзьям можно доверять?
– Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.
– Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите же мне мой скептицизм, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от подпольных организаций. Мне кажется, что привычка…
– Кто вам сказал, что я член какой-нибудь организации? – спросил он резким тоном.
– Никто, я сама догадалась.
– А-а! – Он откинулся на спинку стула и посмотрел на нее, нахмурившись. – Вы всегда угадываете частные дела людей, с которыми имеете дело? – спросил он после минутной паузы.
– Очень часто. Я довольно наблюдательна и привыкла устанавливать связь между фактами. Говорю вам это, чтобы вы были осторожны со мной, когда не хотите, чтобы я что-нибудь знала.
– Я ничего не имею против того, чтобы вы знали, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не…
Она подняла голову с жестом удивления, почти оскорбления.
– Полагаю, что это вопрос совершенно излишний! – вырвалось у нее.
– Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам партии, быть может…
– Партия имеет дело с фактами, а не с моими личными догадками и фантазиями. Само собою разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.
– Благодарю вас. Вы, быть может, угадали и то, к какой организации я принадлежу?
– Я надеюсь, – да не оскорбит вас моя откровенность, вы ведь сами начали наш разговор, – я искренне надеюсь, что это не «Ножовщики».
– Почему вы на это надеетесь?
– Потому что вы годны на нечто лучшее.
– Мы всегда годимся на лучшие дела, чем те, что мы делаем. Возвращаю вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации не «Ножовщиков», а «Красных поясов». Эти более выдержанны и серьезнее относятся к своему делу.
– Под делом вы подразумеваете резню?
– И ее, между прочим. Ножи в своем роде очень полезная вещь, но это лишь тогда, когда в основе всего дела лежит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с «Ножовщиками». Они думают, что нож может устранить все неприятности этого мира, и сильно ошибаются: он может устранить немалое количество их, но не все.
– Неужели вы серьезно верите, что ножом можно что-нибудь уладить?
Он с удивлением посмотрел на нее.
– Конечно, – продолжала она, – ножом можно устранить для данного момента какое-нибудь практическое препятствие в лице умного шпиона или негодяя-чиновника; но не создадутся ли таким путем новые условия, которые окажутся хуже старых, – это еще вопрос. Каждое новое убийство только еще больше развращает полицию, а народ еще больше приучает к насилию и жестокости; и новое положение вещей оказывается, таким образом, менее выгодным для общества, чем старое.
– А что же, по-вашему, будет во время революции? Неужели вы думаете, что народу и тогда не придется привыкать к насилию? Война – так война.
– Да, но открытая революция – дело другое. Она – только один момент в жизни народа, и этот момент – цена, которую мы платим за наше грядущее счастье. Конечно, будут твориться страшные вещи: они неизбежны во всякой революции. Но это будут отдельные факты – исключительные подробности исключительного момента. Конечно, если, по-вашему, цель работы революционера заключается в том, чтобы вырвать у правительства некоторые определенные уступки, то тайная организация и нож должны казаться вам лучшими орудиями борьбы: ничего так не боятся правительства всех стран! Но вам придется иначе приступить к делу, если вы думаете, как и я, что справиться с правительством – это еще само по себе не цель, а только средство, ведущее к цели, и что главная наша цель – изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы не поднимете ценности человеческой жизни.
– А ценности религии?
– Не понимаю.
Он улыбнулся:
– Мы с вами разных мнений насчет того, где корень всего зла. Для вас он в недооценке человеческой жизни.
– Вернее, в непонимании святости человеческой личности.
– Выбирайте любую формулу. Для меня же главная причина наших злоключений и ошибок – это умственная болезнь, именуемая религией.
– Вы имеете в виду какую-нибудь одну определенную религию?
– О нет! Это лишь вопрос чисто внешних признаков. Сама болезнь проявляется в религиозном направлении ума, в настоятельной потребности создать себе фетиш{65} и обоготворять его, пасть ниц и преклониться перед чем-нибудь. Вы, конечно, со мной не согласны. Вы глубоко ошибаетесь, думая, что я из тех, кто смотрит на убийство лишь как на способ устранения негодяев и чиновников. Для меня оно прежде всего средство – и притом, по-моему, наилучшее – подрывать авторитет церкви и приучать народ смотреть на агентов ее как на всяких других паразитов.
– А если вы добьетесь этого, если разбудите дикого зверя, дремлющего в глубине народной души, и натравите его на церковь…
– Тогда я найду работу, ради которой стоит жить.
– И об этой-то работе вы говорили несколько дней тому назад?
– Да, об этой.
Она вздрогнула и отвернулась.
– Вы разочаровались во мне? – сказал он.
– Нет, это не то. Я… мне кажется, я немного боюсь вас.
Через минуту она снова повернулась к нему и сказала своим обыкновенным деловым тоном:
– Это бесполезный спор. Наши точки зрения слишком расходятся. Что касается меня, то я верю в пропаганду, пропаганду и еще раз пропаганду, и в открытое восстание, когда оно возможно.
– Так вернемся же к вопросу о моем плане: он касается отчасти пропаганды, но главным образом – восстания.
– В самом деле?
– Я уже сказал, что из Романьи идет много волонтеров поддержать венецианцев. Мы еще не знаем, как скоро вспыхнет восстание. Быть может, оно оттянется до осени или зимы. Но волонтеры летом должны быть вооружены и готовы в путь, чтобы быть в состоянии двинуться к равнинам, как только за ними пришлют. Я взялся переправить им в Папскую область огнестрельное оружие и амуницию контрабандным путем…
– Погодите минутку. Как можете вы работать с этой публикой? Революционеры Венеции и Ломбардии стоят все за нового Папу. Они принимаются за либеральные реформы, идя рука об руку с прогрессивным церковным движением. Как можете вы – не допускающий компромиссов антиклерикал – уживаться с ними?
Он пожал плечами:
– Что мне до того, если они забавляются тряпичной куклой? Лишь бы они исполняли свою работу! Да, конечно, они выставят фигуру Папы на носу своего корабля. Но какое мне до этого дело, если им волей-неволей придется свернуть на путь восстания? Всякая палка годна на собаку, и всякий боевой клич хорош, если им можно натравить народ на австрийцев.
– Какого же рода работы вы ждете от меня?
– Главным образом помочь мне переправить оружие через границу.
– Но как могу я это сделать?
– Именно вы-то и можете это сделать лучше всех остальных. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и предстоит немало затруднений с доставкой. Невозможно ввезти его ни в один из портов Папской области, придется доставить в Тоскану и переправить оттуда через Апеннины.
– Но тогда у вас будут две границы вместо одной!
– Да, но все другие пути безнадежны; невозможно провезти контрабандой большой транспорт через порт, где почти нет торговли. Если только мы получим наш груз в Тоскане, я берусь перевезти его через папскую границу. Мои товарищи знают каждую тропинку в горах, и у нас нет недостатка в местах, где можно прятать оружие. Транспорт должен прийти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.
– Дайте мне подумать пять минут. Возможно, что я могу быть вам полезна в этой части работы; но прежде чем говорить об этом дальше, я хочу задать вам вопрос: можете вы дать мне слово, что это предприятие не связано с ударом ножа или с каким-нибудь иным видом насилия?
– Разумеется. Само собою ясно, что я не предложил бы вам принять участие в деле, к которому вы относитесь отрицательно.
– Когда же вам нужен окончательный ответ?
– Времени терять не приходится, но могу вам дать два-три дня на размышление.
– Вы свободны в субботу вечером?
– Сейчас соображу… сегодня четверг… да, свободен.
– Ну, так приходите ко мне. Я обдумаю за это время ваше предложение и дам вам окончательный ответ.
В ближайшее воскресенье Джемма послала комитету флорентийского отдела партии Мадзини извещение, что она хочет взяться за специальную политическую работу и поэтому не будет в состоянии исполнять в течение нескольких месяцев работу, за которую она была до сих пор ответственна перед партией.
В комитете это вызвало некоторое удивление, но никто не сделал возражений. Ее знали в партии уже несколько лет как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на то основательные причины.
Мартини она сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «пограничной работе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом.
Они сидели на террасе ее квартиры, глядя на выступавшую вдали за красными крышами вершину Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая – обычные у него признаки душевного волнения. Несколько минут она молча глядела на него.
– Чезаре, вам это очень неприятно, – сказала она наконец. – Мне ужасно жаль, что вас это огорчает, но я должна поступать так, как считаю справедливым сама.
– Меня смущает не дело, за которое вы беретесь, – ответил он мрачно. – Я ничего о нем не знаю и думаю, что оно должно быть хорошим, раз вы соглашаетесь принять в нем участие. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.
– Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала его ближе. Он далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.
– Весьма вероятно.
С минуту он молча шагал по террасе, потом вдруг остановился около нее.
– Джемма, откажитесь. Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в дела, в которых вы потом будете раскаиваться.
– Чезаре, – мягко сказала она, – вы не думаете о том, что говорите. Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению вполне самостоятельно, дав себе время обдумать все предприятие. Я знаю, что вы недолюбливаете Ривареса как человека; но мы говорим о политической работе, а не о личностях.
– Джемма, откажитесь! Это опасный человек: он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем… и он любит вас.
Она отодвинулась назад.
– Чезаре, как могли вы вообразить такую вещь?
– Он любит вас, – повторил Мартини. – Берегитесь его, Джемма.
– Мой милый Чезаре, я не могу держаться далеко от него и не могу объяснить вам почему. Мы связаны друг с другом, и связь эта создана не нами, и не от нас зависит разорвать ее.
– Если ваша связь так крепка, то мне больше нечего возразить, – ответил Мартини усталым голосом.
Он ушел, сославшись на неотложные дела, и в течение долгих часов шагал по грязным улицам. Мир казался ему очень мрачным в этот вечер.