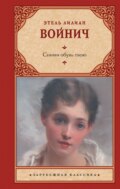Этель Лилиан Войнич
Овод
Часть вторая
Глава I
В один июльский вечер 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрицци, собралась небольшая группа лиц, чтобы обсудить план предстоящей политической работы. Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини{29} и не мирились на меньшем, чем демократическая республика и объединенная Италия.
Другие были сторонниками конституционной монархии и либералами разных оттенков. Но все сходились в одном – в недовольстве тосканской цензурой. Популярный профессор Фабрицци созвал это собрание в надежде, что, может быть, хоть тяжелые условия печати объединят представителей расходящихся политических групп и заставят их попытаться прийти к каким-нибудь определенным результатам без лишних пререканий.
Прошло только две недели с тех пор, как Папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области{30}, но волны либерального восторга, поднятого этим актом, уже катились по всей Италии. В Тоскане этот акт оказал даже воздействие на правительство. Профессору Фабрицци и еще кое-кому из флорентийцев, лидеров политических групп, этот момент показался благоприятным для того, чтобы направить все усилия на проведение реформы законов о печати.
В библиотеке Фабрицци, где происходило собрание, они выясняли теперь, какую позицию должны были занять в данный момент либералы.
– Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент, – заговорил певучим голосом один из присутствующих, уже пожилой седой адвокат. – В другой раз нам не придется увидеть такой благоприятной политической конъюнктуры, не удастся выдвинуть требования серьезных реформ. Но едва ли памфлеты{31} окажут благотворное действие. Они только раздражат и напугают правительство и уже ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого расположения мы и добиваемся. Нам следует помнить, что, раз власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.
– В таком случае что же вы нам предлагаете?
– В нашем распоряжении петиции.
– Великому герцогу?{32}
– Да. Петиции о расширении свободы печати.
Сидевший у окна брюнет с живыми умными глазами со смехом обернулся.
– Многого вы добьетесь петициями! – сказал он. – Казалось бы, исход дела Ренци{33} должен был излечить всякого от таких мечтаний.
– Я так же опечален, как и вы, синьор, тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци; я не хочу говорить неприятностей, но все-таки не могу не думать, что наша неудача произошла от нетерпеливости и горячности некоторых наших членов. Я, конечно, не решился бы…
– Все пьемонтцы никогда ни на что не решаются, – резко прервал его брюнет. – Не знаю, что вы называете нетерпеливостью и горячностью. Уж не тот ли ряд осторожных петиций, которые мы посылали? Это, быть может, для Тосканы и Пьемонта называется горячностью, но в Неаполе мы рассуждаем не так.
– К счастью, – заметил пьемонтец, – неаполитанцам приходится действовать только в Неаполе.
– Перестаньте, господа! Грассини голосует за петиции, а Галли – против них. А как вы думаете, доктор Риккардо?
– Я не вижу ничего плохого в петициях, и если Грассини составит петицию, я подпишу с большим удовольствием. Но я все-таки не думаю, чтобы можно было многого достигнуть этим путем. Почему бы нам не прибегнуть к петициям и к памфлетам?
– Да просто потому, что памфлеты вооружат правительство против нас и оно не обратит внимания на наши петиции, – сказал Грассини.
– Оно и без того не обратит внимания. – С этими словами неаполитанец поднялся и подошел к столу. – Не на правильном пути вы, господа. Соглашение с правительством ничего вам не даст. Нужно поднять народ.
– Легче сказать, чем сделать. Как вы приступите к этому?
– Смешно спрашивать об этом Галли. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по башке.
– Вовсе нет, – сказал Галли. – Вам так и кажется, раз перед вами неаполитанец, что у него не найдется иных аргументов, кроме ножа.
– Оставим это. Что вы хотите предложить? Тише! Господа, внимание! Галли хочет внести предложение.
Все общество, разбившееся на группы по два, по три человека, которые спорили в разных углах, теперь собралось вокруг стола, чтобы выслушать Галли.
– Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Видите ли, мне думается, что во всех этих ликованиях по поводу поведения нового Папы кроется опасность. Из того, что он взял новый курс политики и даровал амнистию, многие выводят заключение, что нам остается поручить себя, всех нас, всю Италию попечениям святого отца и предоставить ему вести нас в обетованную землю. Лично я, вслед за другими, готов удивляться новому Папе. Амнистия была блестящим актом.
– Его святейшество, я уверен, сочтет себя польщенным… – начал было презрительно Грассини.
– Перестаньте, Грассини. Предоставьте оратору слово! – прервал в свою очередь Риккардо. – Удивительная вещь: никогда вы с Галли не можете удержаться от перекоров. Совсем как кошка с собакой! Продолжайте, Галли!
– Я хотел сказать, – начал снова неаполитанец, – что святой отец, несомненно, поступает так с наилучшими намерениями. Другой вопрос, насколько удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии, конечно, месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна возбуждения, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что, прежде чем наступит середина зимы, иезуиты{34}, грегорианцы{35} и санфедисты{36} и вся их клика начнут строить новые козни и изводить отравой всех, кого они не смогут подкупить.
– Это очень похоже на правду.
– Так вот. Будем ли мы ждать, смиренно посылая одну петицию за другой, пока Ламбручини{37} и его свора не убедят великого герцога подчинить нас иезуитам, призвав еще, может быть, австрийских гусар наблюдать за порядком и держать нас в дисциплине, или мы предупредим их и воспользуемся их кратковременным замешательством, чтобы первыми нанести удар?
– Скажите нам прежде всего, в чем должен состоять этот удар?
– Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов.
– Да ведь фактически это будет объявлением войны.
– Да, мы разоблачим их интриги и козни и обратимся к народу с призывом объединиться на борьбу с иезуитами.
– Но ведь ни о каких иезуитах здесь не слышно. К чему же их изобличать?
– Не слышно? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько их появится. Тогда слишком поздно будет сдерживать их натиск.
– Да. Но, вы знаете, чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А раз так, то каким образом вы избежите цензуры?
– Я не буду избегать. Перестану с ней считаться.
– Так, значит, вы будете печатать без подписи. Это отлично, но все мы имели слишком много дела с подпольным печатанием, чтобы желать познакомиться с ним лишний раз.
– Не это я хочу сказать. Я бы предложил печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.
– Совершенно безумный проект! – воскликнул Грассини. – Это значит – из молодечества класть голову в львиную пасть.
– О, вам нечего бояться! – отрезал Галли. – Мы не попросим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.
– Воздержитесь от резкостей, Галли, – сказал Риккардо. – Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если только будет из-за чего. Но ведь ребячество – подвергать себя опасности по пустякам. Я лично хотел бы сделать поправку к высказанному предложению.
– Какую?
– Мне кажется, можно выработать такой тонкий способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновения с цензурой.
– Не понимаю, как вы это устроите.
– Те, кто будет говорить, сумеют, я уверен, выражаться обиняком, так что…
– Цензор не поймет, хотите вы добавить. Но если так, то как вы можете рассчитывать, что какой-нибудь бедный ремесленник или крестьянин, при его невежестве, докопается до истинного смысла? Это ни с чем не сообразно.
– Мартини, что вы скажете? – спросил профессор, оборачиваясь к сидевшему возле него широкоплечему господину с большой темной бородой.
– Я воздержусь говорить, пока не наберется больше фактов. Надо произвести опыт и посмотреть, к чему он приведет.
– А вы, Саккони?
– Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Ее соображения всегда так вески.
Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на софе, опершись подбородком на руку, и молча вслушивалась в прения. У нее были глубокие, задумчивые черные глаза. И теперь, когда она их подняла, в них, несомненно, светился насмешливый огонек.
– Меня немного смущает, что я со всеми расхожусь во мнении, – сказала она.
– Так бывает с вами всегда, – вставил Риккардо, – но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.
– Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся это одним оружием, нужно прибегнуть к другому. Словесный вызов – слабое оружие, уклончивая тактика затруднительна. Ну а петиции – просто детская игрушка.
– Надеюсь, синьора, – заметил с важным видом Грассини, – вы не предложите нам таких методов борьбы, как убийство?
Мартини дергал себя за усы, а Галли не стесняясь смеялся. Даже серьезная синьора Болла не могла удержаться от улыбки.
– Поверьте, – сказала она, – если бы я была настолько жестока, чтобы замышлять такие дела, то я, во всяком случае, не ребенок и не стала бы открыто говорить о них. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, – это смех. Если нам посчастливится облить смехом иезуитов, заставить народ смеяться над ними и их притязаниями, – мы одержим победу без кровопролития.
– Верю, что это так, – сказал Фабрицци. – Но я не понимаю, как вы рассчитываете осуществить ваш план?
– Почему вам кажется, что нам не удастся его осуществить? – спросил Мартини. – Сатира легче и скорее пройдет через цензуру, чем всякая серьезная вещь. Если придется писать намеками, то средний читатель с меньшим трудом поймет двоякий смысл шутки, чем сущность содержания научного экономического очерка. Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или выпустить сатирическую газету? Могу смело сказать: газету цензура никогда не пропустит.
– Я имею в виду не совсем то. Я думаю, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене или даже распространять совершенно бесплатно небольшие сатирические листки, в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, можно было бы выпускать эти листки с иллюстрациями.
– Вот великолепная идея! Если только она выполнима! Дело в том, что раз уж браться за такое дело, то надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?
– Вы отлично знаете, – прибавил Лега, – что большинство из нас серьезные писатели. Как я ни уважаю наше общество, но я боюсь, что наша попытка превратиться в юмористов будет напоминать слона, танцующего тарантеллу{38}.
– Я никогда не говорила, что нам нужно взяться за работу, к которой мы не способны. Смысл моих слов таков, что следует попытаться отыскать талантливого сатирика, – такой, вероятно, найдется в Италии, – снабдить его необходимыми средствами. Само собой понятно, у нас должна быть уверенность, что он будет работать в одном с нами направлении.
– Но где его достать? Я могу по пальцам пересчитать всех сколько-нибудь талантливых сатириков, но ни один из них не подойдет.
– Джусти{39} и так слишком занят. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте{40}.
– И кроме того, – сказал Грассини, – на тосканский народ можно действовать только более высокими средствами. Я уверен, что было бы, по меньшей мере, отсутствием политического такта рассматривать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе как предмет для шуток. Флоренция не город фабрик и торговых предприятий, как Лондон, и не место праздной роскоши, как Париж. Это город с великим прошлым.
– Таковы были и Афины, – прервала синьора Болла, улыбаясь, – но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы растормошить их.
Риккардо ударил рукой по столу:
– А, Овод! Как это мы не вспомнили о нем? Ведь это именно тот человек, который нам нужен!
– Кто это?
– Овод – Феличе Риварес. Не помните? Один из группы Муратори. Вот уже три года, как он оставил Апеннины{41}.
– О, вы знали этих молодцов? Я помню, впрочем, вы сопровождали их, когда они отправлялись в Париж.
– Да. Я проводил Ривареса до Ливорно и посадил его на марсельский пароход. Он не хотел оставаться в Тоскане. Он говорил, когда восстание потерпело неудачу, что в Тоскане теперь нечего делать – можно только смеяться – и что ему лучше перебраться в Париж. Но я почти уверен, что, если бы мы его пригласили, он вернулся бы, раз есть какая-нибудь возможность действовать в Италии.
– Как вы его назвали?
– Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, мне известно, что он жил в Бразилии. Это один из остроумнейших людей, каких я встречал. На лице у него большой шрам от сабельного удара… Странный он человек; но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.
– Не он ли пишет политические наброски во французских журналах под псевдонимом Le taon?[3]
– Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Контрабандисты Апеннин прозвали его Оводом за его язык, и с тех пор он стал подписываться этим именем.
– Мне кое-что известно об этом господине, – сказал Грассини многозначительным тоном, вмешиваясь в разговор, – и не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. У него, несомненно, есть внешний, бросающийся в глаза ум, хотя, мне кажется, его таланты переоценены. Очень вероятно, что у него нет недостатка и в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это в полном смысле слова авантюрист с темным прошлым. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в пустынных местах тропической Южной Америки. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить удовлетворительно, каким образом он дошел до такого состояния. А что касается восстания в Апеннинах, то ни для кого не секрет, что в этом печальном деле участие принимал всякий сброд. Все знают, что казненные в Болонье были не более как обыкновенные преступники. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддается описанию. Несомненно, что некоторые из участников были людьми с возвышенной душой.
– Некоторые из них в тесной дружбе со многими из присутствующих в этой комнате, – оборвал его Риккардо, и в его голосе звучала негодующая нотка. – Легко быть строгим к другим, Грассини, но не следует забывать, что эти «обыкновенные преступники» отдали жизнь за свои убеждения, а это побольше, чем дали мы с вами.
– А еще вот что, – прибавил Галли. – Когда кто-нибудь будет вам повторять выдохшиеся парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре он ошибается. Я лично знаком с Мартелем, адъютантом Дюпре, и слышал от него историю всех их похождений. Верно, что они нашли Ривареса скитающимся в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику{42}, был взят в плен и бежал. Он бродил по стране во всевозможных костюмах, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Но та версия, по которой выходит, что экспедиция подобрала его из милости, – чистейший вымысел. В экспедиции заболел переводчик и должен был вернуться обратно. Никто не мог объясняться на местных наречиях. Место переводчика предложили Риваресу, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. Мартель мне передавал, как свое твердое убеждение, что им никогда не удалось бы довести до конца своей задачи, если бы с ними не было Ривареса.
– Кто бы он ни был, – вмешался Фабрицци, – но должно же быть что-нибудь выдающееся в человеке, который сумел обворожить – а так это и было – таких двух ветеранов, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?
– Я ровно ничего не знаю об этом человеке. Я была в Англии, когда беглецы проезжали Тоскану. Но если о нем отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним, и товарищи, участвовавшие с ним в восстании, то этого вполне достаточно.
– О его товарищах и говорить нечего, – сказал Риккардо, – Ривареса обожали поголовно все, от Муратори до самых диких горцев! Кроме того, он личный друг Орсини{43}. Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.
– Я не совсем уверен, но мне кажется, что как-то раз я встретился с ним в то время, когда беглецы останавливались здесь, – сказал Лега. – Он горбат, или хромает, или что-то в этом роде.
Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал их перелистывать.
– Мне помнится, у меня есть где-то здесь полицейское описание его примет. Вы помните, когда им удалось бежать и скрыться в горных проходах, были повсюду разосланы их приметы, а кардинал – как бишь зовут этого негодяя? – да, кардинал Спинола{44} даже предлагал награду за его голову. Существует великолепный рассказ о Риваресе и об этой полицейской бумаге. Он нарядился в солдатскую форму и бродил по стране под видом карабинера, раненного при исполнении служебных обязанностей и отыскивающего свой отряд. И в самом деле он наткнулся на отряд, только на отряд шпионов, посланных Спинолой. Целый день ехал он с ними в одной повозке, рассказывал им душераздирающие истории о том, как он был взят в плен бунтовщиками и как его притащили в горное убежище этих разбойников; расписывал им ужасные пытки, которым его подвергали. Они показали ему бумагу с описанием его примет. Он наговорил им всякого вздору о «головорезе», которого прозывают Оводом. Потом, ночью, когда они улеглись спать, он вылил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и боевыми припасами… А вот и бумага, – сказал Фабрицци, оборвав рассказ: – «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст – около тридцати лет. Место рождения – неизвестно, но по некоторым данным – Южная Америка. Профессия – журналист. Небольшого роста. Черные волосы. Черная борода. Смуглый цвет кожи. Голубые глаза. Лоб – широкий, квадратный. Нос, рот, подбородок…» Да, вот еще: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу. Левая рука изуродована: недостает двух пальцев. Незалеченный шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок, – нужно быть осторожным при аресте».
– А ведь удивительная вещь, что с таким списком ему удалось обмануть отряд, разыскивавший его.
– Выручила его, несомненно, только смелость. Случись, что его заподозрили бы, он бы погиб. Ему удается выкарабкаться из всякого положения благодаря его умению принимать, когда он захочет, невинный, внушающий доверие вид… Ну так вот, господа, что же вы думаете о предложении? Риварес, кажется, достаточно известен некоторым из нас. Прикажете передать ему, что мы будем рады его помощи здесь на месте, или нет?
– Мне думается, – сказал Фабрицци, – прежде всего его следовало бы ознакомить с нашим планом и спросить, согласен ли он с ним.
– О, он согласится, будьте уверены, раз речь идет о борьбе с иезуитами. Он – самый непримиримый антиклерикал{45}, каких я только встречал. Он даже чересчур усердствует в этом направлении.
– Итак, значит, вы напишете ему, Риккардо?
– Конечно. Сейчас только припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо: вечно кочует. Ну а что касается памфлетов…
Они погрузились в горячие прения. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошел к синьоре Болле.
– Я провожу вас, Джемма.
– Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.
– Опять что-нибудь с адресами? – спросил он вполголоса.
– Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, надо теперь кое-что изменить. На этой неделе задержаны на почте два письма. И то и другое совершенно не важны, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Но нам нельзя рисковать. Если полиция заподозрит хоть один из наших адресов, мы должны сейчас же изменить их.
– Я приду к вам завтра. Сегодня у вас усталый вид.
– Я не устала.
– Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?
– Нет, так, ничего особенного.
Глава II
– Синьора Болла дома, Кэтти?
– Да, сударь, она одевается. Пройдите, пожалуйста, в гостиную, она сойдет через несколько минут.
Кэтти ввела посетителя в гостиную. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски – конечно, как иностранец, но все-таки вполне прилично; он не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, рассуждать во все горло о политике, как это часто делали другие; а главное – он приезжал в Девоншир{46}, чтобы поддержать ее хозяйку в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. Еще с тех пор этот тяжеловесный, неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот, который в эту минуту примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на полезную вещь домашней обстановки. Дружба между котом и Мартини завязалась уже давно. Когда он был еще котенком, а его хозяйка была так больна, что ей было не до него, Мартини взял его под покровительство и перевез из Англии в корзинке. И с того времени продолжительный опыт окончательно его убедил, что этот неуклюжий человек, похожий на медведя, – такой друг, на которого можно положиться.
– Как вы уютно устроились оба, – сказала, входя в комнату, Джемма.
Мартини бережно снял кота с колен.
– Я пришел пораньше, – сказал он, – в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. Там, вероятно, будет страшно много народу, и Грассини не дадут нам порядочного ужина. В этих аристократических домах никогда не умеют накормить.
– Ну вот, – сказала Джемма, смеясь, – у вас такой же злой язык, как у Галли. У бедного Грассини довольно и своих грехов, чтобы ставить ему в вину еще и то, что его жена – плохая хозяйка. Ну а чай сию минуту будет готов.
– А вы, я вижу, решились-таки надеть это изящное платье. Я боялся, что вы забудете о нем.
– Я ведь обещала вам, что надену его, хотя для такого вечера оно, пожалуй, слишком теплое.
– Ну, в Фьезоле{47} будет много прохладнее, а вам ничто так не идет к лицу, как белый кашемир. Я принес вам цветов к этому платью.
– О, какие славные розы! Я так их люблю. Но их гораздо лучше поставить в воду, я не люблю носить цветы.
– Ну вот. Это одна из ваших суеверных фантазий.
– Право же нет. Но, я думаю, им будет ужасно грустно провести вечер приколотыми к такой скучной особе.
– Боюсь, что нам будет скучно на этом вечере Разговоры будут невыносимо бесцветные.
– Это почему?
– Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснется Грассини, становится таким же тусклым и бесцветным, как и он сам.
– Ну, будет вам злословить. Это совсем некрасиво по адресу того человека, к которому мы идем в дом.
– Вы правы, как всегда, синьора. Ну, так я скажу: будет скучно, потому что половина интересных людей не придет.
– Чем это объяснить?
– Я сам не знаю: одни разъехались из города, другие больны, или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько немецких ученых и обычная неопределенная толпа туристов и русских князей. Еще кое-кто из литературного мира, пять-шесть французских офицеров, и никого больше, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве привлекательной новинки.
– Новый сатирик? Как? Риварес? Но мне казалось, что Грассини решительно не одобряет его.
– Да, это так; но раз о ком-нибудь много говорят и этот человек в городе, Грассини, конечно, пожелает, чтоб новый лев общества был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да и, будьте уверены, Риварес ничего не слыхал о том, как к нему относится Грассини. Правда, он может догадаться: он человек сообразительный.
– А я и не знала, что он уже здесь!
– Он приехал вчера… А вот и чай. Не беспокойтесь, не вставайте, я вам подам чайник.
Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно искренне не подозревала своей власти над ним, простота и сердечность ее дружбы – все это было светом его далеко не радостной жизни. И всякий раз, когда ему становилось особенно грустно, он по окончании работы шел к ней и сидел молча, довольствуясь тем, что смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Она никогда не расспрашивала его о причине его грусти, не выражала вслух своего сочувствия. И все-таки он уходил от нее подкрепленный и успокоенный, чувствуя, что «теперь он может протянуть еще недельку-другую», как он это определял. Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и когда, два года тому назад, его лучшие друзья были изменнически преданы в Калабрии{48} и перестреляны, как волки, быть может, только ее непоколебимая вера и спасла его от полного отчаяния.
В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о деле», что означало – о практической работе партии Мадзини, деятельными членами которой они были оба. Тогда она становилась совсем другим человеком: прямолинейным, холодным, строго логичным, безукоризненно пунктуальным и совершенно беспристрастным. Кто знал ее только по партийной работе, те считали ее просто хорошо тренированным и дисциплинированным работником, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но бесцветным и безличным существом. «Она прирожденная заговорщица, стоящая доброй дюжины таких, как мы; но зато и ничто больше» – так говорил о ней Галли. Трудно было распознать в этой Джемме ту «мадонну Джемму», которую так хорошо знал Мартини.
– Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? – спросила она, оглянувшись через плечо, так как она в это время открывала буфет. – Вот вам, Чезаре, ячменный сахар, а вот и засахаренные фрукты. И почему это, кстати, революционеры так любят сладкое?
– Нереволюционеры тоже любят сладкое, только они считают ниже своего достоинства сознаваться в этом… Так рассказать вам о новом сатирике?.. Знаете, это такой человек, что обыкновенные женщины будут бредить им, а вам он не понравится. Это своего рода профессиональный остряк, но остряк с злым языком. Он бродит по свету, да еще таскает с собой хорошенькую балетную танцовщицу.
– Что вы хотите сказать? Может быть, эта танцовщица – миф? Может быть, вы просто не в духе и чувствуете потребность подражать ему в злоязычии?
– Боже меня избави! Нисколько. Балетная танцовщица вполне реальна и притом достаточно красива для любителей грубой красоты. У меня лично другой вкус. Она венгерская цыганка или что-то в этом роде – так, по крайней мере, утверждает Риккардо. Из какого-то провинциального театра в Галиции. Но этот господин, по-видимому, ничем не смущается: он вводит ее в общество так спокойно, точно она его незамужняя родственница.
– Ну что ж, очень хорошо с его стороны, что он взял ее к себе из той среды.
– Вы можете, конечно, дорогая мадонна{49}, смотреть на вещи таким образом, но общество смотрит не так. Я думаю, большинство светских людей будет не особенно польщено тем, что он знакомит их со своей любовницей.
– Откуда они могут это знать, если сам он ничего не рассказывает?
– Это сразу видно; вы сами увидите, если встретитесь с ней. Но, я думаю, даже у него не хватит дерзости привести ее к Грассини.
– Да там и не приняли бы ее. Синьора Грассини не такая женщина, чтобы допустить подобное нарушение приличий. Но я хотела слышать о Риваресе-сатирике, а вовсе не о его частной жизни. Ему уже писали, как мне говорил Фабрицци, и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Это последнее, что я слышала. Всю эту неделю была такая уйма работы…
– Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. В денежном отношении, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать бесплатно.
– Значит, у него есть средства?
– Должно быть. Хотя это трудно согласовать с тем, что мы слышали тогда у Фабрицци. Помните, там рассказывали, в каком жалком состоянии его нашла экспедиция Дюпре? Но, говорят, у него есть паи в бразильских рудниках, и потом он имел огромный успех как фельетонист в Париже и Вене. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере полудюжиной языков, и если он останется здесь, это не помешает ему продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него всего времени.
– Это верно… Пора нам, однако, Чезаре, двигаться в путь. Я приколю только розы. Подождите минутку.
Она быстро побежала наверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и накинутым на голову длинным шарфом из черных испанских кружев. Мартини окинул ее взглядом художника и объявил:
– Вы точно царица – великая и мудрая царица Савская{50}.
– Ну, вы меня вовсе не радуете таким сравнением, – возразила она со смехом. – Если бы вы знали, сколько я положила труда, чтобы походить на типичную светскую даму! Какая это заговорщица, если она похожа на царицу Савскую! Она только привлечет внимание шпионов.
– Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на пустую светскую даму.
Мартини был прав, когда предсказывал, что раут будет многолюдный и скучный. Литераторы перебрасывались салонными фразами и, видимо, безнадежно скучали, а не поддающиеся описанию туристы и русские князья носились по комнатам, вопрошая друг друга, кто такие все эти знаменитости, и силились завязать умный разговор. Грассини принимал гостей с изысканной вежливостью.
Когда он увидел Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности, он не любил ее и в глубине души даже побаивался, но понимал, что без нее его салон в значительной степени потерял бы свою привлекательность. Его дела шли хорошо, ему удалось выдвинуться в своей профессии, и теперь, когда он стал богат и известен, его идеалом было сделать свой дом центром интеллигентного и либерального общества. Он с горечью сознавал, что эта разряженная маленькая женщина, на которой он так опрометчиво женился в молодости, со своей пустой болтовней и увядшей миловидностью не годится в хозяйки большого литературного салона. Поэтому, когда ему удавалось заручиться присутствием Джеммы, он мог быть уверен, что вечер будет удачным. Ее спокойные и изящные манеры вносили в общество непринужденность и простоту, и уже одно ее присутствие, казалось ему, стирало тот налет вульгарности, который вечно мерещился ему в его доме.