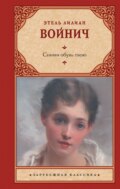Этель Лилиан Войнич
Овод
Глава III
– А я еще раз самым серьезным образом уверяю, ваше преосвященство, что ваш отказ угрожает спокойствию города.
Начальник города старался сохранить почтительный тон, каким он обязан был говорить с высоким сановником церкви, но в голосе его слышалось раздражение. Его мучила болезнь печени, жена разоряла его ужасными счетами, и вот уже три недели, как терпение его подвергалось жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное; недовольство зрело с каждым днем и принимало все более и более угрожающие размеры. Вокруг, по всей области, возникали бесконечные заговоры, и вся она была наполнена тайными складами оружия. Гарнизон был жалкий, а лояльность его более чем сомнительная. И ко всему тому приходилось иметь дело с кардиналом, которого в частном разговоре с адъютантом начальник назвал «святейшим воплощением ослиного упрямства». Все это довело его уже почти до отчаяния, а тут еще откуда ни возьмись появился Овод – это воплощение зла.
Начал он с того, что изъял из обращения любимого племянника полковника и его самого лучшего шпиона. Потом «лукавый испанский дьявол» совратил с пути истинного всех сторожей, запутал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в увеселительное место. Вот уже три недели, как он сидел в крепости, и власти в Бризигелле не знали, что с ним делать. Они снимали с него допрос за допросом, пускали в ход, чтобы добиться его признания, угрозы, увещания и всякого рода средства, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг вперед со дня ареста. Теперь начальство в Бризигелле начало уже думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Было, однако, уже поздно исправить сделанную ошибку. Военный начальник, отправляя легату доклад об аресте, просил у него, как особой милости, разрешения лично заведовать следствием; получив на свою просьбу милостивое согласие, он не мог взять ее назад без унизительного признания, что оказался не по плечу своему противнику.
Тогда, как это и предвидели Джемма и Микеле, ему пришла мысль выйти из затруднения, добившись военного суда. Это было единственное удовлетворительное решение вопроса, и упорный отказ кардинала Монтанелли скрепить его своим одобрением был последней каплей, переполнившей чашу неприятностей полковника.
– Я думаю, – сказал он, – что, если бы вы, ваше преосвященство, знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести от этого человека, вы иначе отнеслись бы к делу. Я вполне понимаю, что из добросовестности вы возражаете против неправильных юридических приемов, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.
– Для меня, – возразил Монтанелли, – нет случаев, которые можно было бы разрешить несправедливостью. Судить обыкновенного гражданина тайным военным судом – это несправедливо и незаконно.
– Разберем данный случай, ваше преосвященство! Заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в возмутительном покушении в Савиньо, и военно-полевой суд, назначенный монсеньором Спинолой, несомненно, приговорил бы его к смерти или каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор он не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ страны. Имеются большие основания подозревать, что он санкционировал, если не сам организовывал, убийство по меньшей мере трех агентов тайной полиции. Теперь его, можно сказать, поймали на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Он оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении их обязанностей. А теперь – он живая угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого, несомненно, достаточно, чтобы оправдать военный суд.
– Что бы этот человек ни сделал, – ответил Монтанелли, – он имеет право быть судимым по закону.
– На ведение дела обычным законным порядком потребуется много времени, ваше преосвященство, а нам дорога теперь каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.
– Если побег его возможен, то это уже ваше дело усилить надзор.
– Я делаю все, что от меня зависит, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а заключенный точно околдовал всю стражу. В течение трех недель я четыре раза сменял всех приставленных к нему людей, я не переставал налагать взыскания на солдат, а толку все никакого: я не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы. Глупцы! Они влюблены в него, точно в женщину.
– Это любопытно. Должно быть, он необыкновенный человек.
– Необыкновенно искусный в дьявольских выдумках. Простите, ваше преосвященство, но, право же, этот человек выведет из терпения и святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести допрос, потому что офицер, на котором лежит эта обязанность, не мог выдержать больше.
– То есть как?..
– Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли, если бы услышали хоть раз, как Риварес держит себя на допросе. Можно подумать, что ведущий допрос офицер – преступник, а он – судья.
– Но что же он может сделать особенно страшного? Он может, конечно, отказаться отвечать на ваши вопросы, но у него нет другого оружия, кроме молчания.
– У него есть еще острый как бритва язык. Все мы грешные люди, ваше преосвященство, и большинство из нас наделало в свое время промахов. Никому не хотелось бы, чтобы о них знал весь свет. Такова уж человеческая натура. А тут вдруг выкапываются все ошибки, сделанные двадцать лет тому назад, и бросаются вам в лицо.
– Разве Риварес коснулся какого-нибудь личного секрета офицера, который вел допрос?
– Да. Видите ли, в бытность свою кавалерийским офицером бедный малый вошел в долги и взял взаймы небольшую сумму из полковой кассы…
– То есть, на самом деле, украл доверенные ему общественные деньги?
– О, это было, разумеется, очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но его друзья сейчас же внесли за него всю сумму, и дело, таким образом, замяли. Он был из хорошей семьи и с тех пор был всегда безупречен. Не могу понять, откуда мог Риварес узнать про эту старую скандальную историю; но на первом же допросе он начал с того, что вывел ее на свет Божий, да еще в присутствии нижних чинов! И сделал при этом такое невинное лицо, как будто читал молитву! Само собой разумеется, что теперь об этом говорят во всем легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вы, конечно, поняли бы… Риварес ничего об этом не должен знать. Вы могли бы услышать все из…
Монтанелли повернулся к полковнику и посмотрел на него с выражением, какое редко бывало на его лице.
– Я служитель церкви, – сказал он, – а не полицейский шпион. Подслушивание у дверей не входит в круг моих профессиональных обязанностей.
– Я… я не хотел сказать ничего оскорбительного…
– Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса не приведет ни к какому результату. Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним.
– Позволю себе почтительно посоветовать вашему преосвященству не пытаться разговаривать с ним. Он совершенно неисправим. Было бы и безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. С большой робостью решаюсь я настаивать на этом пункте после того, что вы, ваше преосвященство, сказали; но ведь в конце концов я ответствен за спокойствие города перед монсеньором легатом…
– А я, – прервал Монтанелли, – ответствен перед Богом и его святейшеством в том, чтобы в моем епископстве не было никаких противозаконных поступков. Раз вы настаиваете на своем, полковник, я позволю себе опереться на свою привилегию кардинала. Я не допущу тайного военного суда в мирное время в этом городе. Я приму заключенного здесь, и притом без свидетелей, завтра в десять часов утра.
– Как вашему преосвященству будет угодно, – ответил полковник с мрачной почтительностью.
И ушел, ворча про себя: «Что касается упорства, то в этом они стоят друг друга».
Он никому ничего не говорил о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного кандалы и везти его во дворец. «Достаточно уж и того, – сказал он своему племяннику, – что этот высокопреподобный сын Валаамовой ослицы по-своему распоряжается законом. Недоставало только, чтобы солдаты вступили в заговор с Риваресом и его друзьями и устроили побег с дороги».
Овод под усиленным конвоем вошел в комнату, где Монтанелли писал за столом, покрытым бумагами. И вдруг ему вспомнился жаркий летний день, когда он сидел, перелистывая рукописные проповеди, в кабинете, очень похожем на этот. Ставни были закрыты, как и тут, чтобы не пропускать жары, а на улице продавец фруктов кричал: «Fragola! Fragola!»
Гневным движением отбросил он назад волосы, падавшие ему на глаза, и изобразил на лице улыбку.
Монтанелли поднял голову.
– Вы можете подождать в прихожей, – сказал он конвойным.
– Да не прогневается ваше преосвященство, – начал сержант вполголоса, чувствуя себя, очевидно, очень неловко, – но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что было бы лучше…
Глаза Монтанелли вспыхнули.
– Вы можете подождать в прихожей, – повторил он спокойным голосом.
Сержант и его солдаты покинули комнату с испуганными лицами, отдавая честь и бормоча извинения.
– Садитесь, пожалуйста, – сказал кардинал, когда дверь затворилась.
Овод сел, сохраняя молчание.
– Синьор Риварес, – начал Монтанелли после короткой паузы, – хочу предложить вам несколько вопросов и буду вам очень благодарен, если вы мне ответите на них.
– Мое г-главное занятие теперь в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.
– И не отвечать на них? Так я, по крайней мере, слышал. Но те вопросы предлагались вам чиновниками, ведущими следствие. Они обязаны были бы использовать ваши ответы как улики против вас…
– А в-вопросы вашего преосвященства?
Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах.
Кардинал сразу понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и в то же время приветливого выражения.
– Мои, – сказал он, – останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, не ответите. В противном случае я надеюсь, что вы это сделаете как личное одолжение мне, хотя мы совершенно и не знаем друг друга.
– Я в-весь к услугам вашего преосвященства.
Легкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, отбили бы охоту просить одолжения даже и у очень храброго человека.
– Скажите мне прежде всего, что вы собирались делать с огнестрельным оружием, ввоз которого вам ставится в вину?
– У-убивать им крыс.
– Ужасный ответ. Разве братья-люди превращаются для вас в крыс, если не могут разделять ваших убеждений?
– Н-некоторые из них.
Монтанелли откинулся на спинку стула и в течение нескольких секунд молча глядел на своего собеседника.
– Что это у вас на руке? – спросил он вдруг.
– Старые с-следы от зубов все тех же крыс.
– Извините, я про другую руку говорю. Там свежая рана.
Тонкая, гибкая рука была вся изранена, и кожа на ней ободрана. Овод поднял ее. На вспухшем запястье темнело большое пятно от ушиба.
– С-сущая безделица, как видите. Когда меня арестовали благодаря вашему преосвященству, – он снова отвесил легкий поклон, – один из солдат наступил на эту руку ногой.
Монтанелли взял его руку в свои и принялся пристально рассматривать ее.
– Но почему она в таком ужасном состоянии теперь, когда прошло уже три недели? – спросил он. – Она вся воспалена.
– Возможно, что тяжесть кандалов была не слишком удачным лечением.
Кардинал нахмурился:
– Они надели кандалы на свежую рану?
– Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для этого как раз годятся. От старых мало проку: они будут только ныть. Нельзя добиться, чтобы они болели как следует.
Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным вопрошающим взглядом, потом встал и выдвинул ящик, полный хирургических принадлежностей.
– Дайте мне руку, – сказал он.
Овод протянул руку с неподвижным, каменным лицом. Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, работа эта была для него привычной.
– Я переговорю с тюремным начальством насчет кандалов, – сказал он. – А теперь я хочу задать вам еще вопрос: что вы предполагаете делать дальше?
– Мой о-ответ очень прост, ваше преосвященство: убежать, если удастся. В противном случае умереть.
– Почему же умереть?
– Потому что, если начальнику не удастся добиться, чтобы меня расстреляли, меня приговорят к каторжным работам, а это для меня сведется к той же смерти: у меня не хватит здоровья вынести каторгу.
Опершись рукой о стол, Монтанелли молча размышлял. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыл глаза и отдался чудесному ощущению свободы от кандалов.
– Предположим, – снова начал Монтанелли, – вам удалось бы убежать. Что бы вы сделали тогда со своей жизнью?
– Я уже сказал вашему преосвященству: я стал бы убивать крыс.
– Стали бы убивать крыс. Следовательно, если бы я дал вам возможность убежать теперь отсюда, – предположим, что это в моей власти, – вы воспользовались бы вашей свободой, чтобы поддерживать насилие и кровопролитие, а не для того, чтобы предупреждать их?
Овод поднял глаза на распятие, висевшее на стене.
– «Не мир, но меч»…{72} как видите, я в хорошем обществе. Хотя, что до меня, я предпочитаю пистолет.
– Синьор Риварес, – сказал кардинал с непоколебимым спокойствием, – я не оскорблял вас, не позволял себе говорить небрежным тоном о ваших убеждениях, ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы, может быть, желаете заставить меня подумать, что атеист не может быть джентльменом?
– А, я с-совершенно позабыл, что ваше преосвященство считает джентльменство одной из высших христианских добродетелей. Я припоминаю вашу проповедь во Флоренции, произнесенную по поводу моего спора с вашим анонимным защитником.
– Я как раз собирался поговорить с вами по этому поводу. Не будете ли добры объяснить мне причину того особенного озлобления, которое вы питаете ко мне? Если вы просто избрали меня мишенью для стрел вашего остроумия, то это другой вопрос. Ваши приемы политической борьбы – ваше собственное дело, да мы в данный момент и не ведем политического спора. Но мне тогда показалось, что вы питаете ко мне какую-то личную неприязнь, а если это так, то я был бы очень рад узнать, не сделал ли я вам когда-нибудь зла или не дал ли вообще повода к вражде.
Не причинил ли кардинал ему зла!
Овод поднял перевязанную руку к горлу.
– Пусть ваше преосвященство припомнит Шекспира, – сказал он с коротким смехом. – В одной из его пьес есть человек, который не может выносить одного безобидного полезного домашнего животного – кота. Я питаю такую же неприязнь к священникам. Вид рясы вызывает у меня з-зубную боль.
– О, если дело только в этом… – Монтанелли показал жестом, что тема исчерпана. – Но все же, – прибавил он, – можно нападать, но не надо искажать факты. Отвечая на мою проповедь, вы заявили, что я знаю, кто скрывается под анонимом моего защитника. Это была ошибка. Я не обвиняю вас в сознательной лжи, но ваше заявление неверно. Я и по сей день не знаю имени этого писателя.
Овод с минуту глядел на кардинала очень серьезно, потом вдруг откинулся назад и разразился хохотом.
– О, s-sancta simplicitas![8] Ах вы, милые, невинные жители Аркадии! Так вы не угадали, кто это был? Так и не увидали следов раздвоенного копыта?
Монтанелли поднялся.
– Иначе говоря, синьор Риварес, вы сами написали обе части диспута?
– Это было очень нехорошо, я знаю, – ответил Овод, глядя на кардинала своими большими невинными голубыми глазами. – А вы все это проглотили целиком, как устрицу. Я очень дурно поступил, но ведь это было так забавно.
Монтанелли закусил губы и снова сел. Он понял с самого начала, что Овод старается вывести его из себя, и решил сохранить самообладание во что бы то ни стало. Теперь он начал находить оправдание раздражению полковника. Человеку, который ежедневно в течение двух часов допрашивал Овода, можно простить, если он иной раз и выругается.
– Прекратим этот разговор, – сказал он спокойным тоном. – Я должен объяснить вам главную цель моего свидания с вами. Она заключается в следующем: благодаря моему положению здесь как кардинала, местные власти должны будут считаться с моим мнением при разрешении вопроса, как поступить с вами, если, конечно, я захочу воспользоваться своей привилегией. Я сделаю это только ради того, чтобы помешать совершиться насилию над вами, поскольку оно не будет необходимо, чтобы предотвратить возможность насилий с вашей стороны. И я послал за вами, чтобы узнать, не жалуетесь ли вы на что-нибудь, – насчет кандалов я улажу, а во-вторых, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем подать свой голос.
– Я не предъявляю никаких жалоб, ваше преосвященство. A la guerre comme а la guerre![9] Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный в-ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Само собой разумеется, что оно мстит так сильно, как может. Что же касается того, какой я человек, то вы уже раз выслушали сделанную в несколько романтической форме исповедь моих грехов. Разве этого недостаточно? Или вы желаете, чтобы я повторил ее снова?
– Я вас не понимаю, – холодно произнес Монтанелли.
– Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого богомольца Диего? – Овод вдруг изменил тон и затянул голосом Диего: – Я жалкий грешник…
Карандаш задрожал в руке Монтанелли.
– Это слишком! – сказал он, вставая.
Овод засмеялся и, откинув голову, принялся следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по комнате.
– Синьор Риварес, – сказал Монтанелли, останавливаясь перед своим собеседником, – вы поступили со мной так, как не решился бы поступить даже со своим злейшим врагом ни один человек, рожденный женщиной. Вы проникли в тайну моего горя и сделали себе игрушку и посмешище из страдания вашего ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне: сделал я вам когда-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?
Овод откинулся на спинку кресла и улыбнулся своей тонкой, холодной, загадочной улыбкой.
– Мне показалось это таким з-забавным, ваше преосвященство: вы так близко приняли к сердцу мои слова. И потом все это нап-помнило мне немного бродячий цирк…
У Монтанелли побелели губы, он отвернулся и позвонил.
– Можете увести заключенного, – сказал он вошедшим сторожам.
И когда они ушли, он присел к столу, весь дрожа от непривычного чувства негодования. Потом взялся было за книгу отчетов, присланных ему приходскими священниками его епархии, но вскоре оттолкнул их от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод как будто оставил за собой свою страшную тень.
Глава IV
Вспышка гнева не помешала Монтанелли помнить о своем обещании. Он так энергично протестовал против кандалов, надетых на израненные руки заключенного, что несчастный полковник, окончательно потерявший голову, махнул на все рукой и велел совсем снять кандалы.
– Откуда мне знать, – ворчал он, обращаясь к адъютанту, – против чего еще будет протестовать его преосвященство? Если он называет жестокостью какую-нибудь пару наручников, то, пожалуй, он скоро поднимет войну против железных решеток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями! В дни моей молодости злодеи были злодеями. Так с ними и обращались. Никто тогда не считал, что изменник чем-либо лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех мерзавцев этого рода.
– Не понимаю, чего он вообще вмешивается, – заметил адъютант. – Он не папский легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону…
– Стоит ли говорить о законе? Нельзя ожидать уважения к закону после того, как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либеральной сволочи! Это чистое безумие! Понятно, монсеньор Монтанелли проявляет теперь свою власть. Он еще и при его святейшестве, покойном Папе, достаточно пробрался вперед, а теперь стал самой что ни на есть первой фигурой. Сразу угодил в любимцы и теперь делает что ему вздумается. Куда уж мне тягаться с ним! Может быть, у него есть тайная инструкция из Ватикана, почем знать? Все теперь перевернулось вверх дном: нельзя даже предвидеть, что принесет с собою завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь…
…Овод в свою очередь вернулся в крепость в сильном нервном возбуждении, близком к истерике. Свидание с Монтанелли почти исчерпало запас его выносливости. Еще миг – и ее бы не хватило… Заключительная дерзость насчет бродячего цирка вырвалась в минуту полного отчаяния: необходимо было как-нибудь оборвать свидание, которое могло окончиться слезами, продлись оно еще пять минут.
…Когда несколько часов спустя его позвали на допрос, он на все предлагаемые ему вопросы отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, перестал сдерживаться и дал волю своему языку, Овод засмеялся таким неистовым смехом, каким он еще никогда не смеялся. Несчастный полковник рвал и метал, грозил своему непокорному узнику самыми невозможными карами и в конце концов пришел, как когда-то Джемс Бертон, к тому выводу, что не стоит напрасно тратить время и нервы: все равно ни в чем не убедить человека, так мало доступного доводам рассудка.
Овода отвели назад в его камеру; лежа на сеннике, он отдался мрачному, безнадежному настроению, всегда сменявшему у него буйные вспышки. До самого вечера лежал он так без движения, даже без мысли. После пережитого утром бурного волнения он впал в какое-то странное, апатичное состояние: его собственное страдание стало для него теперь чем-то посторонним и казалось придавившей его бесформенной и тяжелой массой, в которой давно уже угасла живая душа. Да, в сущности, не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого способного чувствовать существа, – это избавиться от невыносимых мук. Но прекратятся ли они благодаря изменившимся условиям жизни или благодаря тому, что умрет способность чувствовать, – это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся убежать, а может быть, его убьют, но, во всяком случае, он больше никогда не увидит уже падре. А все остальное – одна суета и напрасное терзание души.
Надзиратель принес ему ужин, и Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом:
– Который час?
– Шесть часов. Я принес вам ужин, сударь.
Он с отвращением посмотрел на несвежее, дурно пахнувшее, простывшее кушанье и отвернулся. Он чувствовал себя не только разбитым душой, но и больным физически, и вид пищи поднимал в нем тошноту.
– Вы заболеете, если не будете есть, – поспешно сказал солдат. – Съешьте-ка хоть кусок хлеба, это вас подбодрит.
Он говорил со странной серьезностью в голосе, приподняв с тарелки кусок подмокшего хлеба. В Оводе вдруг проснулся конспиратор: он сразу угадал, что в хлебе было что-то спрятано.
– Оставьте, потом, пожалуй, съем, – сказал он небрежным тоном.
Дверь была открыта, и он знал, что сержанту, стоявшему на лестнице, слышно каждое слово их разговора.
Когда дверь снова заперли и он убедился, что никто не подсматривает за ним через глазок, он взял оставленный кусок хлеба и осторожно раскрошил его. Внутри он нашел связку тонких пилок, завернутую в клочок бумаги, на котором было написано несколько слов. Он тщательно расправил бумагу и поднес ее к скупо освещавшей камеру лампочке. Слова были написаны на таком маленьком пространстве и бумага была так тонка, что прочесть их было нелегко.
«Дверь отперта. Ночь безлунная. Перепилите решетки как можно скорее и приходите через подземный ход между двумя и тремя. Мы готовы, и другого случая может уже не представиться».
Он лихорадочно смял бумажку в руке. Итак, все готово, и ему надо только перепилить решетки на окне; какое счастье, что кандалы сняты! Не придется их пилить и тратить лишнее время. Сколько в решетке брусков? Два… четыре… и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. О, он справится с ними, если поспешит… Как это Джемме и Мартини удалось устроить все так скоро? Достать костюмы, паспорта, квартиры? Они должны были работать, как ломовые лошади, чтобы успеть… А принят все-таки ее план. Он засмеялся про себя над своей глупостью: как будто это важно – ее ли это план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было ужасно приятно: это она первая напала на мысль использовать подземный ход вместо веревочной лестницы, спуститься по которой предлагали сначала контрабандисты. Ее план был труднее и сложнее, но зато с ним не было сопряжено риска для жизни часового, стоявшего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда ему были предложены оба плана, он не колеблясь выбрал план Джеммы.
Сообразно этому плану, Сверчок, сочувствовавший им часовой, должен был при первом благоприятном случае отпереть без ведома своих товарищей железную калитку, которая вела из тюремного двора к подземному ходу под валом, и потом повесить ключ обратно на гвоздь в караульной. Овод же, получив извещение, что калитка отперта, должен перепилить решетку в окне, разорвать рубашку на длинные полосы, сплести из них веревку и спуститься по ней на широкую восточную стену двора. Потом он должен был ползти по ней на четвереньках в те минуты, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и ложиться плашмя и не шевелиться всякий раз, как тот повернется к нему. На юго-восточном углу стены была небольшая башенка. Ее полуразрушенные стены удерживал от падения густо обвивавший их плющ. Много камней вываливалось и целой грудой лежало во дворе у самой стены. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься во двор, потом осторожно отворить отпертую калитку и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней, стоявшей на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал. Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно прикрытого отверстия в склоне горы, которое они прорыли до самого туннеля. Никто и не подозревал, что склады запрещенных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщетно обыскивали дома мрачных горцев, у которых глаза сверкали гневом. Овод должен был выползти через это отверстие на склон горы, а оттуда пробраться в темноте до условного места, где его должны были ожидать Мартини и один из контрабандистов. Случай отпереть калитку после вечернего обхода представлялся не каждый день. Нельзя было из окна спуститься в очень светлую ночь: риск быть замеченным часовым был слишком велик. Итак, сегодня у него были все шансы на успех, и он не должен терять этого случая.
Он сел и стал есть свой хлеб, не вызывавший в нем, по крайней мере, отвращения, как остальная тюремная пища. Надо было съесть что-нибудь, чтобы поддержать свои силы. Потом он решил прилечь немного и попытался заснуть. Было бы рискованно начать пилить раньше десяти часов, а между тем предстояла трудная работа.
Итак, падре все-таки думал устроить ему побег! Это было похоже на падре. Но он никогда не согласился бы. Что угодно, только не это! Если он убежит, то это будет дело рук его товарищей. Он не примет услуги от священника.
Как жарко! Будет, наверное, гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно метался по своему сеннику, подложив под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытащил ее. Как она горит! Какая колющая боль! И все старые раны начали болеть такой тупой, упорной болью… Что это с ними?.. О, какая нелепость. Это просто от погоды, перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, прежде чем начнет пилить.
Восемь брусков, и все такие толстые и крепкие! Сколько ему еще осталось перепилить? Вероятно, уж немного! Ведь он уж пилит долго, бесконечно долго, и потому его рука так болит. И как болит! Насквозь, до самой кости! Но вряд ли работа могла вызвать такую боль. И та же жгучая, колющая боль в его хромой ноге… Неужели и это оттого, что он пилил? Он вскочил на ноги. Нет, он не спал. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решетку, а она еще даже и не тронута. Вот она вырисовывается за окном, такая же крепкая, как всегда. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.
Заглянув в глазок и увидев, что никто за ним не следит, он вынул одну из пилок, спрятанных у него на груди.
Нет, с ним ничего не случилось – ничего! Все это одно воображение. Боль в боку от расстройства желудка, простуды или чего-нибудь в этом роде. Да оно и неудивительно после трех недель отвратительной тюремной жизни и тюремного воздуха. А эта колющая боль во всем теле и учащенный пульс – отчасти нервное, а отчасти – результат сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как глупо не подумать об этом раньше!
Надо, однако, посидеть немного. Боль успокоится, и он снова примется за работу. Через минуту-другую все пройдет.
Сидеть спокойно хуже всего. Когда он сидит, боль мучит его беспощадно. Лицо его побледнело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за работу. Надо стряхнуть с себя болезнь. Чувствовать или не чувствовать боль – зависит от усилия его воли: он не хочет ее чувствовать, он заставит ее утихнуть.
Он снова встал и сказал отчетливым голосом:
– Я не болен. Мне некогда быть больным. Я должен перепилить эти решетки, и мне нельзя заболеть.
Потом начал пилить.
Четверть одиннадцатого, половина, три четверти… Он пилил и пилил… и каждый раз, когда пила, визжа, прикасалась к железу, ему казалось, что кто-то пилит его тело и мозг. «Кто же будет перепилен первый? – сказал он себе, усмехнувшись. – Я или решетка?» Стиснув зубы, он продолжал пилить.
Половина двенадцатого. Он все еще пилил, хотя рука его распухла, одеревенела и с трудом держала пилу. Но нет… Он не может остановиться и отдохнуть: стоит только выпустить из рук это проклятое орудие, и уже не хватит мужества начать снова.
За дверью послышались шаги часового, и приклад его оружия ударился о притолоку. Овод перестал пилить и, не выпуская пилы из рук, оглянулся. Неужели открыли?
Какой-то маленький круглый предмет, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Овод отложил пилу в сторону и наклонился, чтобы поднять его. Это был кусок свернутой в комок бумаги.
Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон… как они клокотали!