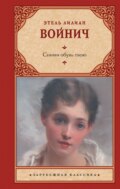Этель Лилиан Войнич
Овод
Глава X
К середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма познакомила его с жившим там молодым англичанином, пароходным агентом и либералом по воззрениям, с которым она и ее муж были знакомы еще в Англии. Он не раз уже оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их деньгами, когда у них наступал непредвиденный кризис, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийных писем и т. п. Но все это он делал как личный друг Джеммы, и всегда через нее.
Сообразно партийному этикету, она могла, следовательно, пользоваться этой связью для всяких целей по собственному усмотрению. Но могло ли это знакомство пригодиться в данном случае – другой вопрос. Одно дело – попросить сочувствующего партии иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или хранить в несгораемом шкафу его конторы какие-нибудь документы, и совсем другое – предложить ему перевезти контрабандой транспорт огнестрельного оружия для восстания. Джемма питала очень мало надежды на согласие.
– Вы можете, конечно, попробовать, – сказала она Оводу, – но не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если бы вы пришли к нему с моей рекомендацией, чтобы попросить у него пятьсот скуди{66}, он, конечно, немедленно дал бы их вам: он человек в высшей степени щедрый. Может быть, он одолжил бы вам свой паспорт, если бы понадобилось, или спрятал бы у себя в погребе какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о карабинах, он посмотрит на вас с изумлением и примет нас обоих за сумасшедших.
– Но, может быть, он натолкнет меня на другие пути или познакомит с сочувствующими делу матросами, – ответил Овод. – Во всяком случае, следует попытаться.
Однажды, в конце месяца, он пришел к ней одетый менее тщательно, чем обыкновенно, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.
– А, наконец-то! А я уж начала думать, что с вами что-нибудь случилось.
– Я думал, что безопаснее не писать, а раньше вернуться не мог.
– Вы только что приехали?
– Да, я прямо с дороги. Я заглянул к вам только затем, чтобы сообщить, что дело устроено.
– Вы хотите сказать, что Бейли согласился помочь?
– Больше, чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, транспорт, все решительно. Его компаньон и близкий друг Вильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, и Бейли протащит его через таможню в Ливорно. Поэтому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я поехал с ним до Генуи.
– Чтобы обсудить по дороге все детали?
– Да. И мы говорили до тех пор, пока я не начал так сильно страдать от морской болезни, что потерял всякую способность говорить.
– Вы так плохо переносите море? – быстро спросила Джемма, вспомнив, как Артур заболел морской болезнью, когда ее отец повез однажды их обоих кататься на яхте.
– Очень плохо, несмотря на то, что так много путешествовал по морю. Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Это славный парень, разумный и вообще заслуживающий полного доверия. Бейли ему в этом отношении не уступает, и оба умеют держать язык за зубами. А теперь расскажу вам все подробно.
Когда Овод вернулся домой, солнце давно зашло и цветущая японская айва, свисающая с садовой стены, выглядела темной в потухающем свете. Он сорвал несколько веток и понес их к себе в комнату. Когда он открыл дверь в кабинет, Зитта поднялась со стула в углу и побежала к нему навстречу.
– О, Феличе, я думала, что вы никогда не вернетесь!
Первым его побуждением было резко спросить ее, зачем она зашла в его кабинет, но, вспомнив, что он не видел ее три недели, он протянул ей руку и сказал несколько холодно:
– Добрый вечер, Зитта. Как поживаешь?
Она приблизила к нему лицо, как бы ожидая поцелуя, но он прошел мимо, сделав вид, что не замечает ее жеста, и взял вазу, чтобы вставить в нее цветы. В ту же минуту дверь широко раскрылась, и громадная собака ворвалась в комнату и стала прыгать вокруг Овода, лая и визжа от радости. Он оставил цветы и стал гладить ее.
– Шайтан, старый дружище, это ты? Ну, вот и я. Дай лапу.
Зитта взглянула на него жестким, сердитым взглядом.
– Хочешь обедать? – спросила она холодно. – Я заказала обед у себя; ты писал, что вернешься сегодня вечером.
Он быстро обернулся к ней:
– О-очень жалею, тебе не с-следовало ждать меня. Я только немножко оправлюсь и сейчас же приду. М-может быть, ты поставишь эти цветы в воду?
Когда он вошел в столовую Зитты, она стояла у зеркала, прикрепляя ветку цветов к корсажу. Она, очевидно, решила быть веселой и подошла к нему с маленьким пучком красных бутонов в руке.
– Вот бутоньерка. Я прикреплю ее тебе.
Во время обеда он старался изо всех сил быть любезным и поддерживал веселый разговор. Она отвечала ему, счастливо улыбаясь все время. Ее явная радость при виде его несколько смущала Овода. Он привык к мысли, что она ведет отдельное существование среди друзей и знакомых, близких ей по духу; ему никогда не приходило в голову, что она могла скучать по нему. И все-таки она, вероятно, тосковала, судя по тому, как обрадовалась ему.
– Хочешь пить кофе на террасе? – спросила она. – Сегодня такой теплый вечер.
– Хорошо. Я возьму твою гитару: может быть, ты споешь что-нибудь.
Он обыкновенно скептически относился к ее музыке и нечасто просил ее петь.
На террасе была широкая деревянная скамейка вдоль стены. Овод выбрал угол, откуда открывался красивый вид на холмы, и Зитта, взобравшись на выступ стены и поставив ноги на скамейку, прислонилась к колонне, поддерживающей навес. Она не особенно интересовалась живописным видом. Ей было интереснее глядеть на Овода.
– Дай папироску, – сказала она. – Я ни разу не курила со времени твоего отъезда.
– Прекрасная мысль, мне недоставало только папироски для полноты счастья.
Она нагнулась и взглянула на него серьезно:
– Ты в самом деле счастлив?
Лицо Овода прояснилось:
– Почему же нет? Я хорошо пообедал, передо мной теперь с-самый прекрасный вид Европы, скоро будет кофе, и я услышу венгерскую народную песню. Ничто не мучит моей совести, пищеварение у меня в порядке. Чего же еще можно желать?
– Я знаю еще что-то, чего тебе хочется.
– Чего?
– Вот. – Она протянула ему маленькую коробочку.
– Засахаренный миндаль! Почему ты не сказала раньше, до папироски? – спросил он с упреком.
– Почему, ребенок ты этакий! Да ты можешь есть его и после папироски. А вот и кофе.
Овод стал пить маленькими глотками свой кофе и есть засахаренный миндаль с важным и сосредоточенным наслаждением, точно кошка, которая пьет сливки.
– Как приятно напиться порядочного кофе после той гадости, которую дают в Ливорно, – сказал он задумчиво.
– Поэтому оставайся лучше всегда дома.
– Некогда… я завтра опять уезжаю.
Улыбка исчезла с ее лица:
– Завтра? Почему? Куда?
– В разные места, по делам.
Он решил в разговоре с Джеммой, что должен сам отправиться в Апеннины, чтобы войти в соглашение с контрабандистами относительно перевозки оружия. Переправа через границу Папской области была чрезвычайно опасной, но необходимой для успеха задуманного предприятия.
– Вечные дела! – сказала Зитта со вздохом и затем спросила: – Ты надолго уезжаешь?
– Нет, на две или, может быть, на три недели.
– Опять по тому делу? – спросила она отрывисто.
– «Тому» делу?
– Тому, из-за которого ты постоянно пытаешься сломать себе шею; все та же вечная политика?
– Да, это имеет некоторое отношение к политике.
Зитта отбросила папироску.
– Ты меня обманываешь теперь, – сказала она. – Тебе грозит опасность.
– Я отправлюсь прямо в ад, – ответил он лениво. – Может быть, у тебя там есть друзья, которым ты хочешь послать веточку плюща, – нечего, однако, обрывать всю зелень.
Она яростно обрывала ползучие растения, обвивавшие колонны, и гневным, резким движением откинула прочь пригоршню листьев.
– Тебе грозит опасность, – повторила она, – и ты не хочешь мне прямо сказать; ты думаешь, что со мной можно только шутить. Тебя еще повесят скоро, и ты не попрощаешься со мной. Эта вечная политика надоела мне.
– Да и м-мне также, – сказал Овод, зевая. – Поговорим лучше о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?
– Хорошо, дай мне гитару. Что мне спеть?
– Балладу о потерянной лошади. Она удивительно подходит к твоему голосу.
Она начала петь старую венгерскую балладу о человеке, который лишается сначала своей лошади, потом своего дома и, наконец, своей возлюбленной и утешает себя тем, что «еще более было потеряно на Могашском поле». Это была любимая песня Овода. Дикость и трагизм мелодии, а также грустная примиренность припева нравились ему более всякой нежной музыки.
Зитта чувствовала себя удивительно в голосе. Звуки выходили из ее уст сильными и ясными, полными страстной жажды счастья. Ей не удавались итальянские или славянские песни, и тем более германские, но венгерские народные песни она пела удивительно хорошо.
Овод слушал ее, широко раскрыв глаза и полуоткрыв рот. Она никогда так хорошо не пела. Но когда она пела последнюю строчку, голос ее вдруг задрожал:
О, все равно – больше было потеряно…
Она оборвала песню, зарыдала и спрятала лицо в зелень плюща.
– Зитта! – Овод встал и взял у нее из рук гитару. – В чем дело?
Она только судорожно рыдала, закрыв лицо обеими руками. Он тронул ее за плечо.
– В чем дело, скажи? – спросил он ласково.
– Оставь меня, – сказала она, рыдая, и отшатнулась от него. – Оставь меня!
Он спокойно вернулся на свое место и подождал, пока она перестала рыдать. Вдруг она опустилась на колени около него и обхватила его руками.
– Феличе, не уезжай, не уезжай!
– Об этом мы потом поговорим, – сказал он, мягко отстраняя обвившие его руки. – Скажи мне прежде, в чем дело, чего ты испугалась?
Она тихо покачала головой.
– Я чем-нибудь причинил тебе боль?
– Нет. – Она поднесла руку к горлу.
– Ну, так что же?
– Тебя убьют, – сказала она наконец. – Я слыхала, как один из людей, которые к тебе приходят, говорил, что тебе грозит опасность. А когда я спрашиваю, ты все смеешься надо мной.
– Дорогое дитя, – сказал Овод после некоторого молчания. – У тебя какие-то преувеличенные понятия о вещах. Конечно, когда-нибудь меня убьют. Это обычный конец революционеров, но нет никакой причины предполагать, что меня как раз убьют теперь. Я рискую не более всех других.
– Других? Что мне за дело до других? Если бы ты меня любил, ты не уезжал бы таким образом, оставляя меня в тревоге. Я не сплю по ночам, боясь, что тебя арестуют, и во сне мне кажется, что ты убит. Ты обо мне думаешь меньше, чем вот об этой собаке.
Овод встал и медленно прошел к другому концу террасы. Он был совершенно не подготовлен к такой сцене и не знал, что отвечать. Да, Джемма была права: он запутал такой узел благодаря своему легкомыслию, что теперь трудно будет распутать его.
– Сядем и поговорим обо всем этом спокойно, – сказал он, возвращаясь к Зитте. – Мы, кажется, не совсем понимаем друг друга. Конечно, я не смеялся бы, если бы знал, что ты серьезно тревожишься. Объясни, что тебя тревожит, и тогда, если есть какое-нибудь недоразумение, мы его выясним.
– Нечего выяснять, я вижу, что ты меня совсем не любишь.
– Дорогое дитя, будем лучше вполне откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, кажется, никогда не обманывал тебя насчет…
– О нет, ты всегда был совершенно откровенен. Ты никогда не скрывал, что считаешь меня потерянной женщиной, которая доступна была всем другим до тебя… Ты всегда это говорил…
– Зитта, что ты!.. Я никогда не думал ничего подобного, я никогда не говорил…
– Ты никогда не любил меня, – настаивала она капризным тоном.
– Да, я никогда не любил тебя. Но выслушай меня и постарайся не осуждать.
– Я и не осуждаю. Я…
– Подожди минутку. Вот что я хочу сказать. Я не верю ни в какую условную мораль и не исполняю ее предписаний. Я считаю отношения между мужчиной и женщиной вопросом личной приязни или неприязни…
– И денег, – прервала она с резким, отрывистым хохотом.
Он нахмурился и остановился на минутку.
– Да, конечно. В этом отвратительная сторона вопроса, но поверь, если бы я заметил, что не нравлюсь тебе, я бы никогда не воспользовался твоим стесненным положением, чтобы иметь тебя около себя; я никогда не поступал таким образом ни с одной женщиной в своей жизни и никогда не лгал ни одной женщине относительно своих чувств к ней; поверь, что я говорю правду. – Он остановился на минуту, но она ничего не отвечала. – Я думал, – продолжал он, – что если человек одинок в жизни, если он чувствует потребность в присутствии женщины около себя и если он может найти женщину, которая ему нравится и которой он тоже внушает доброе чувство, то он имеет право принять с благодарностью расположение этой женщины, не вступая с нею в более прочный союз. Я не вижу в этом ничего дурного, если нет несправедливости, обмана или оскорбления с той или другой стороны. О твоих прежних отношениях к другим мужчинам я не думал. Я только знал, что наша связь не тягостна и что каждый из нас свободен нарушить ее, как только она станет тяжелой. Если я ошибался, если ты иначе на это смотришь, то…
Он опять замолчал.
– То? – прошептала она, не глядя на него.
– То я был несправедлив к тебе, и меня это очень огорчает. Но я сделал это без всякого намерения.
– «Огорчает»? «Без всякого намерения»? Да ты каменный, что ли, Феличе? Неужели ты никогда не любил женщину в своей жизни и не видишь, что я тебя люблю?
Что-то в нем внезапно дрогнуло при этом слове. Так много времени прошло с тех пор, как ему говорили слова «я тебя люблю». Зитта вдруг вскочила и обняла его обеими руками.
– Феличе, уедем вместе со мной, уедем из этой ужасной страны, от этих людей, от политики. Что нам за дело до них? Уедем и будем счастливы. Уедем в Южную Америку, где ты жил прежде.
Физический ужас от воспоминаний вернул Оводу самообладание. Он отнял руки ее от своей шеи и крепко сжал их.
– Зитта, постарайся понять, что я говорю. Я тебя не люблю, а если бы и любил, то и тогда не уехал бы с тобой. У меня в Италии есть дело и товарищи.
– И еще кто-то, кого ты любишь больше, чем меня! – крикнула она с отчаянием. – О, я готова убить тебя! Не о товарищах думаешь ты, а я знаю о ком!
– Тише, – сказал он. – Ты взволнована и воображаешь то, чего нет на самом деле.
– Ты думаешь, что я говорю о синьоре Болле? Меня не так легко обмануть. С нею ты говоришь только о политике. Ты так же мало любишь ее, как и меня. Ты думаешь только о кардинале.
Овод вздрогнул.
– О кардинале? – повторил он машинально.
– Да, о кардинале Монтанелли, который здесь проповедовал осенью. Разве я не видела твоего лица, когда проезжала его коляска? Ты был белый, как этот платок. Да и теперь ты дрожишь как лист, как только я упомянула его имя.
– Ты не знаешь, о чем говоришь. Я ненавижу кардинала. Он мой злейший враг.
– Враг или нет, но ты любишь его более, чем кого-либо на свете. Посмотри мне в лицо и скажи, что это неправда, если можешь.
Он отвернулся и стал смотреть в сад. Она глядела на него украдкой, ужасаясь сама тому, что сделала.
Было что-то странное в его молчании. Наконец она подкралась к нему, как испуганное дитя, и робко потянула его за рукав. Он обернулся к ней.
– Это правда, – сказал он.
Глава XI
– А не м-могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? Бризигелла для меня опасное место.
– Каждая пядь земли в Романье опасна для вас; но в данный момент Бризигелла как раз безопаснее всякого другого места.
– Почему?
– Сейчас объясню. Не надо, чтобы этот человек в синей куртке видел ваше лицо: он опасный субъект… Да, буря была ужасная. Давно уж не приходилось видеть виноградники в таком разорении.
Овод вытянул руки на столе и положил на них голову лицом вниз, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший слишком много вина. Окинув быстрым взглядом комнату, посетитель в синей куртке увидел двух фермеров, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, упавшего головой на стол. Такую картину можно было часто увидеть в кабачках маленьких деревушек вроде Марради. Обладатель синей куртки решил, по-видимому, что сидеть и слушать – не к чему, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату кабака, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином о местных делах, он постоял там немного, заглядывая время от времени уголком глаза через полузакрытую дверь в комнату, где сидели за столом три человека. Фермеры продолжали потягивать вино и толковали о погоде на своем местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого вполне чиста.
Наконец шпион решил, по-видимому, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время дальше. Он заплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел вдоль узкой улицы.
Овод встал, зевая и потягиваясь, и сонным жестом потер себе глаза рукавом полотняной блузы.
– Недурно у них налажена слежка, – сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал им ломоть ржаного хлеба, лежавшего на столе. – Очень они изводили вас за последнее время, Микеле?
– Хуже, чем москиты в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду вертится шпион. Даже наверху, в горах, куда они когда-то не отваживались соваться, они теперь бродят группами по три-четыре человека. Не правда ли, Джино? Поэтому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.
– Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничный город всегда полон шпионов.
– Бризигелла как раз теперь очень подходящее место. Она полным-полна богомольцами, собравшимися со всех концов страны.
– Но она им совсем не по дороге.
– Она немного в стороне от дороги в Рим, и многие паломники, идущие на Восток, делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню.
– Я не знал, что в Бризигелле есть что-нибудь особенно замечательное.
– Там кардинал. Помните, он приезжал проповедовать во Флоренцию в декабре прошлого года? Так это тот самый кардинал Монтанелли. Говорят, он производит большую сенсацию.
– Весьма вероятно. Я-то не хожу слушать проповеди.
– Да у него, видите ли, репутация святого.
– Как это он себе добыл ее?
– Не знаю. Думаю, такой славой он пользуется потому, что раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста – пятьсот скуди в год.
– Мало того, – вставил тот, которого называли Джино. – Он отдает не только деньги, но и всю свою жизнь: помогает бедным, смотрит, чтобы за больными был хороший уход, с утра до ночи к нему приходят с просьбами. Я не больше вашего люблю попов, Микеле, но монсеньор Монтанелли не похож на других наших кардиналов.
– Да, он больше смахивает на блаженного, чем на плута! – сказал Микеле. – Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Народ любит покупать эти вещи, чтобы потом просить кардинала прикоснуться к ним. А потом они вешают их на шею своим маленьким детям от дурного глаза.
– Подождите минутку. Как же мне идти? В виде паломника? План-то, положим, мне очень н-нравится, но не годится мне показываться в Бризигелле в том же самом виде, как и здесь: это было бы у-уликой против вас, если бы меня арестовали.
– Вас не арестуют: для вас имеется превосходный костюм, с паспортом и всем, что требуется.
– Какой же это костюм?
– Старика богомольца из Испании – раскаявшегося разбойника с гор Сьерры. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших друзей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. Он и оставил нам свои бумаги, чтобы чем-нибудь проявить свою благодарность. Они теперь вам как раз пригодятся.
– Раскаявшийся р-разбойник? Как же быть с полицией?
– О, с этой стороны все обстоит благополучно! Он отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и все ходил с тех пор в Иерусалим и в разные святые места, спасая душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции в припадке раскаяния.
– Он совсем уже старик?
– Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а во всех остальных отношениях приметы его идеально подходят к вам.
– Где же я должен встретить Доминикино?
– Вы пристанете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. Когда вы придете в город, идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.
– Так он, значит, живет во дворце, несмотря на всю свою святость?
– Он живет в одном крыле дворца, а остальная часть превращена в больницу. Богомольцы будут ждать, чтобы он вышел и дал им свое благословение, а Доминикино появится в эту минуту со своей корзиной и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» И вы ответите ему: «Я жалкий грешник». Тогда он поставит свою корзину наземь и начнет утирать лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольди за четки.
– Тут мы, разумеется, и условимся, где собраться?
– Да, у него будет более чем достаточно времени, чтобы сообщить вам адрес, пока народ будет глазеть на кардинала. Мы придумали такой план; но если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.
– Нет, нет, ваш план годится. Смотрите только, чтобы борода и парик были хорошо сделаны.
– Вы паломник, отец мой?
Овод сидел на ступеньках епископского дворца. Седые пряди спутанных волос свешивались ему на лицо. Он поднял голову и произнес условный ответ хриплым дрожащим голосом, с сильным иностранным акцентом. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами.
Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на рыночной площади, не обращал на них внимания, но, осторожности ради, они завели между собой отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте, а Овод на ломаном итальянском с примесью иностранных слов.
– Его преосвященство! Его преосвященство идет! – закричали стоявшие у дверей дворца.
– Сторонитесь! Дорогу его преосвященству!
Овод и Доминикино встали.
– Вот вам, отец, – сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образок, – возьмите и это тоже и помолитесь за меня, когда дойдете до Рима.
Овод засунул образок за пазуху и обернулся, чтобы посмотреть на кардинала.
В лиловом великолепном облачении и пунцовой шапке, он стоял на верхней ступеньке и благословлял народ.
Потом он медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поймать его руку для поцелуя. Многие становились на колени, ловили край его рясы и прикладывали к губам.
– Мир да будет с вами, дети мои!
Услышав этот живой, звучный голос, Овод наклонил голову так, что седые волосы упали на лицо: Доминикино увидел, как посох задрожал в руке паломника, и с восторгом заметил: «Какой великолепный актер!»
Женщина, стоявшая поблизости, наклонилась и подняла со ступеньки своего ребенка.
– Пойдем, Чекко, – сказала она, – его преосвященство благословит тебя, как Господь благословил детей.
Овод сделал шаг вперед и остановился. Как жестока жизнь! Все эти чужие люди, все эти издалека пришедшие богомольцы и жители окрестных гор могут подходить к нему, говорить с ним… он будет класть свою руку на голову их детей. Может быть, он назовет этого крестьянского мальчика «дорогой», как он когда-то называл его…
Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть. О, если бы он мог спрятаться куда-нибудь в уголок и заткнуть уши, чтобы звуки не достигали их! Это было больше, чем могла вынести человеческая душа… быть так близко, так близко от него, что можно протянуть свою руку и дотронуться ею до той дорогой руки…
– Не зайдете ли вы ко мне погреться, друг мой? – сказал мягкий голос. – Мне кажется, что вы продрогли.
Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не сознавал, кроме болезненного ощущения быстро прихлынувшей к сердцу крови, которая, казалось, разорвет сейчас его грудь; потом она отхлынула назад и щекочущей, горячей волной разлилась по всему телу. Вдруг он почувствовал нежное прикосновение руки Монтанелли к своему плечу.
– Вы пережили большое горе. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?
Овод молча покачал головой.
– Вы паломник?
– Я жалкий грешник.
Случайное совпадение вопроса Монтанелли с вопросом пароля оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Автоматически он дал ответ пароля. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло его плечо, и дрожь охватила его тело.
Кардинал еще ниже наклонился над ним.
– Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам…
Овод наконец решился взглянуть прямо в глаза Монтанелли. Его самообладание возвращалось к нему.
– Это ни к чему не поведет, – сказал он, – горю моему не поможешь.
Из толпы выступил полицейский чиновник.
– Простите мое вмешательство, ваше преосвященство. Я думаю, что старик не совсем в здравом рассудке. Он совершенно безобиден, и бумаги его в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.
– За тяжкое преступление, – повторил Овод, медленно качая головой.
– Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше. Всегда, друг мой, можно помочь тому, кто искренне раскаялся. Не зайдете ли ко мне сегодня вечером?
– Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?
Тон вопроса был почти вызывающий. Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.
– Да сохранит меня Бог осудить вас, что бы вы ни сделали! – торжественно сказал он. – В Его глазах мы все одинаковые грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придете ко мне, я приму вас так, как я молю Его принять меня, когда придет мой час.
Внезапным страстным жестом Овод протянул руку.
– Слушайте! – сказал он. – И вы все тоже слушайте, христиане! Если человек убил своего единственного сына – сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти его и костью от кости его, если ложью и обманом он захлопнул его в капкан, из которого не было иного выхода, кроме смерти, то может ли такой человек надеяться еще на что-либо на земле или на небе? Я покаялся в грехе своем Богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне Господь мой «довольно»? Чье благословение снимет с души моей Его проклятие? Какое отпущение может загладить то, что я сделал?
Наступила мертвая тишина. Собравшиеся молча глядели на Монтанелли, и видно было, как задрожал крест на груди его. Он поднял наконец глаза и благословил народ слегка дрожащей рукой.
– Бог всемилостив, – сказал он, – сложи к престолу Его бремя твоей души, ибо сказано: «Сердца разбитого и сокрушенного не отвергай».
Он отвернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу, чтобы поговорить с кем-нибудь или взять на руки ребенка.
Вечером того же дня Овод пошел на квартиру, где должно было быть собрание. Адрес ее он прочел на бумажке, в которую завернут был образок, данный ему Доминикино. Это был дом местного врача – активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности как вождя, если только он нуждался еще в новых доказательствах.
– Мы очень рады снова увидеть вас, – сказал ему доктор, – но еще более порадуемся вашему благополучному исчезновению отсюда. Ваш приезд – дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вполне ли вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?
– З-заметить-то, конечно, заметили, да не у-узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?
– Он еще не пришел. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?
– Дал благословение? Это бы еще ничего! – раздался у дверей голос Доминикино. – Риварес поражает сюрпризами, словно рождественский пирог. Скольким еще талантам прикажете дивиться в вас?
– В чем дело? – лениво спросил Овод.
– Я и не подозревал, что вы такой великолепный актер. Никогда в жизни не видал я такой чудесной игры. Вы тронули его преосвященство почти до слез.
– Как это было? Расскажите, Риварес.
Овод пожал плечами. Он был в молчаливом настроении духа, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Все засмеялись, когда он рассказывал сцену, разыгравшуюся утром на рынке. Лишь один молодой рабочий остался серьезным и сказал угрюмым голосом:
– Вы, конечно, мастерски провели свою роль, да только я, право, не вижу, какой кому прок от этого театрального представления.
– А вот какой, – ответил Овод. – Я теперь могу расхаживать свободно по всему округу и делать что мне вздумается, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет усомниться в моей личности. Завтра весь город будет знать о сегодняшнем происшествии, и шпион при встрече со мной подумает только: «Это сумасшедший Диего, принесший покаяние в своих грехах на площади». А это мне на руку!
– Да, конечно! Но все-таки нельзя ли было бы добиться этого, не надувая кардинала? Он слишком хороший человек, чтобы устраивать с ним такие штуки.
– Мне самому он показался человеком порядочным, – лениво согласился Овод.
– Глупости, Сандро. Нам здесь кардиналы совсем не нужны, – сказал Доминикино. – И если бы монсеньор Монтанелли принял место в Риме, когда ему представлялся случай к этому, Риварес не надувал бы его.
– Он не принял его потому, что не хотел оставить свое здешнее дело.
– Гораздо вероятнее потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбручини. Они имели что-то против него. Это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в заброшенной дыре, как эта, то мы знаем, что это значит. Не правда ли, Риварес?
Овод пускал колечки из дыма.
– Может быть, д-дело в «р-разбитом и удрученном сердце»? – заметил он, откидывая голову, чтобы следить за колечками дыма. – Не пора ли нам, однако, приступить к делу, господа?
Собравшиеся принялись подробно обсуждать проекты контрабандной перевозки и способы хранения оружия. Овод слушал с жадным любопытством, прерывая время от времени спорящих резкими замечаниями по поводу какого-нибудь неточного сообщения или слишком смелого плана. Когда все присутствующие уже высказались, он внес несколько практических предложений, и большинство их было принято почти без споров. На этом собрание и кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, надо по возможности избегать долго затягивающихся собраний, могущих привлечь внимание полиции. Все разошлись после того, как часы пробили десять. Остались лишь доктор, Овод и Доминикино. Они трое составили комиссию для обсуждения некоторых специальных вопросов.