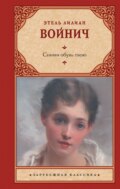Этель Лилиан Войнич
Овод
Ах да! Он ведь просто наклонился, чтобы поднять с полу комочек бумаги. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего особенного не случилось. Решительно ничего.
Он поднял бумажный шарик, поднес его к свету и аккуратно развернул.
«Приходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша последняя возможность».
Он уничтожил эту записку, как и первую, поднял свою пилку и снова принялся за работу в суровом, немом отчаянии.
Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми брусков были перепилены. Еще два, а потом можно будет вылезть.
Он стал припоминать случаи, когда им овладевали приступы ужасной болезни. В последний раз это было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не так внезапно.
Он уронил пилку, поднял инстинктивным жестом обе руки кверху, и с губ его сорвались – в первый раз с тех пор, как он стал атеистом, – слова молитвы. Он молился в беспредельном отчаянии, молился, обращаясь в пространство – ни к кому в частности и ко всему на свете.
«Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Я вынесу что угодно завтра, но только не сегодня!»
С минуту он стоял спокойно, сжав руками виски. Потом взял пилку и снова вернулся к работе.
Половина второго. Он взялся за последний брусок. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял кровавый туман, пот ручьем катился с его лба, а он все пилил, пилил, пилил…
Только на рассвете удалось Монтанелли заснуть. Он был совершенно измучен страданиями бессонной ночи и некоторое время спал спокойно. Потом стал грезить.
Сначала это были неясные, сбивчивые грезы; обрывки образов, один другого фантастичнее, мчались в быстрой, хаотической смене. И от этих видений веяло страданием, борьбой и тенью безотчетного ужаса. Потом он увидел во сне бессонницу – старый, привычный, страшный сон, терзавший его в течение долгих лет. И хотя это было во сне, он сознавал, что все это снится ему не в первый раз.
Ему казалось, что он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и заснуть. Повсюду снуют люди, болтают, смеются, кричат, молят, звонят в колокола, бьют в разные металлические инструменты. Он уходит от них, удаляется на некоторое расстояние от шума, ложится то на траву, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закрывает глаза, кладет на них руки, чтобы свет не мешал ему, и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его зовут по имени, кричат ему: «Проснитесь, проснитесь скорее, вы нам нужны!»
А вот он попал в огромный дворец с массой пышно разубранных комнат, где всюду стоят кровати, диваны, низкие мягкие софы. Спускается ночь, и он говорит себе: «Ну, здесь наконец я найду спокойное местечко, чтобы выспаться». Он выбирает темную комнату и ложится, как вдруг в комнату входят с зажженной лампой в руках; беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то кричит над его ухом: «Вставайте, вас зовут!»
Он встает и идет дальше, шатаясь и спотыкаясь на каждом шагу, словно раненное насмерть животное. Часы бьют час, и он знает, что половина ночи уже прошла. Половина драгоценной короткой ночи! Два, три, четыре, пять – к шести весь город проснется, и тишине наступит конец.
Он идет в другую комнату и только что хочет лечь на кровать, как вдруг кто-то поднимается с подушек и кричит: «Это моя кровать!» И с отчаянием в сердце он отступает.
Проходит час за часом, а он все бродит из комнаты в комнату, из коридора в коридор, из дома в дом. Уже забрезжило. Противный серый рассвет подкрадывается все ближе и ближе. Часы бьют пять. Ночь прошла, а он так и не нашел покоя. О ужас! Еще один день… еще один!
Он попадает в подземный коридор, низкий, сводчатый и бесконечно длинный. Весь коридор освещен яркими, как молния, лампами и люстрами, а сквозь решетчатый потолок доносятся смех, веселая музыка, танцы. Там, наверху, над его головой, в мире живых людей, справляется, должно быть, какой-то праздник. О, если бы найти место, где можно было бы спрятаться и заснуть! Самое небольшое местечко, хотя бы могилу! Он говорит это и спотыкается о край могилы. Смертью и плесенью веет от нее. Но что за беда? Лишь бы выспаться.
«Это моя могила!» – кричит голос Глэдис.
Она поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами, высунув голову из-под истлевшего савана.
Он становится на колени и с мольбой протягивает к ней руки:
«Глэдис! Глэдис! Пожалей меня хоть немного! Позволь мне вползти, занять около тебя свободное место и заснуть. Я не прошу твоей любви. Я не прикоснусь к тебе, не заговорю с тобой. Позволь мне только лежать около тебя и спать! Дорогая, я так давно уже не спал! Я не вынесу больше ни одного дня. Свет прожигает мне душу, шум обращает в пыль мой мозг. Глэдис, позволь мне войти в твою могилу и спать!»
Он хочет закрыть ее саваном свои глаза. Но она отодвигается и в ужасе кричит:
«Это святотатство! Ведь ты священник!»
И он идет все дальше и дальше, и выходит на морской берег, на голые бесплодные скалы, освещенные безумно ярким светом. Вода тихо и жалобно стонет, непрестанно моля о покое.
«Ах, – говорит он, – море сжалится надо мной! Ведь оно само устало до смерти и не может спать».
Тогда из морской пучины встает Артур и громко говорит:
«Море мое!..»
– Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!
Монтанелли разом проснулся. В дверь стучали. Он машинально поднялся и открыл ее, и пришедший разбудить его слуга увидел безумное, растерянное лицо.
– Ваше преосвященство, вы больны?
Монтанелли приложил руки ко лбу.
– Нет. Я спал, а вы испугали меня.
– Простите, ваше преосвященство. На рассвете мне показалось, что вы ходите, и я подумал…
– А теперь который час?
– Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть. Он говорит, что привез вам важные сообщения, и, зная, что ваше преосвященство поднимается рано…
– Он ждет меня внизу? Я сейчас сойду.
Он оделся и сошел вниз.
– Боюсь, что я нарушил этикет, явившись в такое необычное время к вашему преосвященству… – начал полковник.
– Надеюсь, ничего особенного не произошло?
– Произошло нечто очень важное: Риваресу чуть-чуть не удалось бежать.
– Если все-таки не удалось, значит, нет ничего важного. Как это было?
– Его нашли во дворе рядом с железной калиткой. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат наткнулся на что-то, лежавшее на земле. Принесли свет и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания у самой калитки, поперек дороги. Сейчас же подняли тревогу. Меня разбудили. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что все бруски решетки выпилены и с окна свешивается веревка, сделанная из разорванного носильного белья. Он спустился по ней вниз и пробрался ползком вдоль стены. Железная калитка, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража подкуплена.
– Но каким образом он попал на дорогу к калитке? Он упал со стены и расшибся?
– Я именно так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких следов падения. Солдат, бывший вчера дежурным, говорит, что вечером, когда Риваресу принесли ужин, он казался совсем больным и ничего не ел. Но этого не могло быть. Невозможная вещь, чтобы больной перепилил такую решетку и пробрался ползком по такой стене! Это немыслимо.
– Дает ли он сам какие-нибудь показания?
– Он без сознания, ваше преосвященство.
– Все еще?
– Минутами он как будто приходит немного в себя, стонет и затем снова забывается.
– Это очень странно. А доктор что думает?
– Он не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков болезни сердца, которой только и можно было бы объяснить состояние больного. Но в чем бы ни состояла его болезнь, ясно, что она скрутила его внезапно, когда он уж почти совсем убежал. Что до меня, я полагаю, что его сразила рука милостивого Провидения.
Монтанелли нахмурился.
– Что вы собираетесь с ним делать? – спросил он.
– Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок. Вот он – результат снятых кандалов, уж извините, ваше преосвященство.
– Надеюсь, – прервал Монтанелли, – что вы, по крайней мере, не закуете его снова, пока он болен. Человек в таком состоянии, как он теперь, вряд ли может сделать новую попытку к побегу.
«Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось, – пробормотал полковник себе под нос, уходя. – Пусть его преосвященство хоть подавится всеми своими сентиментальными бреднями – мне все равно. Риварес теперь крепко закован, и я не сниму с него кандалов, будь он здоров или болен».
– Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все уже было готово, когда он был около калитки! Точно какая-то безобразная шутка!
– И по-моему, – вставил Мартини, – единственное, что можно предположить, – это что наступил припадок болезни, что он боролся с ним, пока хватило силы, а потом, когда уж спустился во двор, потерял сознание просто от изнеможения.
Марконе принялся яростно вытряхивать пепел из трубки.
– Как бы там ни было, а дело кончено, и мы ничего больше не можем сделать для него. Бедняга!
– Бедняга! – повторил Мартини вполголоса.
Он вдруг понял, что и для него самого мир с исчезновением Овода стал пустым и мрачным.
– А она что думает? – спросил контрабандист, указывая взглядом на другой конец комнаты, где одиноко сидела Джемма. Руки ее лежали неподвижно на коленях, а глаза смотрели прямо в пространство, ничего не различая перед собой.
– Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Нам лучше ее теперь не тревожить.
Она, казалось, не замечала их; но оба говорили тихим голосом, как будто в комнате находился покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал свою трубку.
– Я вернусь вечером, – сказал он.
Но Мартини остановил его жестом:
– Не уходите: мне надо еще поговорить с вами. – Он еще больше понизил голос и продолжал почти шепотом: – Так вы думаете, что действительно больше нет надежды?
– Не знаю, какая уж может быть надежда. Вторая попытка для нас невозможна. Если бы даже он и был достаточно здоров, чтобы выполнить свою часть работы, то мы не можем сделать нашей. Всех часовых меняют теперь, подозревая их в соучастии. Сверчку уж не удастся вторично попасть в крепость – в этом вы можете быть уверены.
– А не думаете ли вы, – спросил вдруг Мартини, – что, когда он выздоровеет, мы сможем попытаться отвлечь внимание стражи и таким образом освободить его?
– Отвлечь внимание стражи? Что вы хотите сказать?
– Да мне пришла в голову мысль: если бы в день Corpus Domini{73}, когда процессия будет проходить мимо крепости, я внезапно загородил бы дорогу полковнику и выстрелил ему в лицо, все часовые бросились бы ловить меня, поднялась бы страшная суматоха, а вы и ваши товарищи могли бы в это время освободить его. Это даже еще и не план. Я только что это придумал.
– Вряд ли это удастся организовать, – сказал Марконе очень серьезно. – Надо, конечно, основательно все обдумать для того, чтобы иметь шансы на успех. Но… – он остановился и взглянул на Мартини, – но если бы и оказалось возможным устроить это, – взялись бы вы выстрелить в полковника?
– Взялся ли бы я? – повторил он. – Посмотрите на нее!
Других объяснений не понадобилось. Этими словами было все сказано. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.
Она не сделала ни одного движения с тех пор, как начался разговор. На лице ее не было ни сомнения, ни страха, ни даже страдания – ничего, кроме тени смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее.
– Торопитесь, Микеле, – сказал Марконе, открывая дверь веранды. – Только вы двое еще не выбились из сил. Остается еще масса дел.
Микеле, а за ним Джино вышли на веранду.
– Я готов, – сказал Микеле. – Я хотел только спросить синьору…
Он хотел вернуться к ней, но Мартини дернул его за рукав:
– Не трогайте ее. Ей одной лучше.
– Оставьте ее в покое, – прибавил Марконе. – Проку не будет от наших утешений! Видит бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех.
Глава V
Целую неделю Овод лежал в ужасном состоянии. Припадок был жестокий, а полковник, совсем озверевший от страха, не только заковал больного в ручные и ножные кандалы, но велел еще вдобавок привязать его к койке ремнями. Они были затянуты так туго, что при каждом движении врезывались ему в тело. Вплоть до конца шестого дня он перенес все это со своим обычным угрюмым стоицизмом. Потом гордость его подалась, и он чуть не со слезами умолял тюремного доктора дать ему опиума. Доктор охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство».
– Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? – сказал он. – Очень возможно, что он все это время только притворялся и что он хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У него хватит хитрости на что угодно.
– Если я дам ему небольшую дозу, то это вряд ли поможет ему усыпить часового, – ответил доктор, не будучи в состоянии подавить улыбку. – Ну а притворства бояться не стоит. Он почти наверное умрет.
– Как бы там ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть будет попокладистей. Он вполне заслужил применение довольно суровых мер. Может быть, это послужит ему уроком и научит его обращаться осторожнее с оконными решетками.
– Закон, однако, запрещает пытки, – позволил себе заметить доктор, – а эти «довольно суровые меры» очень близки к ним.
– Закон, надеюсь, ничего не говорит об опиуме, – сказал полковник с раздражением в голосе.
– Вам, конечно, решать, полковник. Надеюсь, однако, что вы позволите снять, по крайней мере, ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что он убежит. Он не мог бы держаться на ногах, если бы даже вы и освободили его от оков.
– Доктора могут ошибаться, как и всякий другой смертный. Он у меня крепко привязан и так останется впредь.
– Ну, так прикажите хоть отпустить ремни посвободнее. Истинное варварство – затягивать их так туго.
– Они останутся как есть. И я вас покорнейше прошу, сударь, не говорить со мной более о варварстве. Если я что-нибудь делаю, значит, имею на то основание.
Таким образом, облегчения не было и в седьмую ночь. И солдат, стоявший на часах у дверей камеры Овода, всю ночь дрожал и крестился, слушая душераздирающие стоны узника. Выносливость его изменила ему наконец.
В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно отпер дверь и вошел в камеру. Он знал, что совершает серьезное нарушение дисциплины, но не мог все-таки уйти, не утешив страдальца дружеским словом.
Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом. С минуту солдат молча стоял над ним, потом наклонился и спросил:
– Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.
Узник открыл глаза.
– Оставьте меня, – простонал он, – оставьте меня в покое.
И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, он уже спал.
Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал ушел навестить больного в Пьеве-д’Оттаво и не вернется раньше вечера.
Вечером, когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил:
– Его преосвященство желает поговорить с вами.
Полковник бросил на себя быстрый взгляд в зеркало, чтобы убедиться, что мундир его в порядке, потом принял исполненный достоинства вид и вышел в переднюю. Там ждал его Монтанелли. Он сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая пальцами по ручке кресла. Между бровей его легла тревожная складка.
– Мне сказали, что вы были у меня сегодня, – сказал он, круто обрывая вежливое приветствие полковника, и принял почти повелительный вид, какого у него никогда не бывало при разговоре с крестьянами. – Вероятно, вы приходили по тому самому делу, о котором и я хотел поговорить с вами.
– Мое дело касается Ривареса, ваше преосвященство.
– Я так и предполагал. Я много думал о нем последние дни. Но прежде чем говорить об этом, я хотел бы знать, не хотите ли вы сообщить мне чего-нибудь нового.
Полковник смущенно дергал усы.
– Дело в том, что я приходил узнать, не хочет ли ваше преосвященство чего-нибудь мне сказать. Если вы все еще противитесь предложенному плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.
– Разве есть новые затруднения?
– В следующий четверг, третьего июля, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решен до того дня.
– Да, в четверг Corpus Domini, это так. Но почему вопрос должен быть решен до этого дня?
– Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто становлюсь в оппозицию к вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если до тех пор мы не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, сюда собирается почти все население гор. Более чем вероятно, что будет сделана попытка силою открыть ворота крепости и освободить его. Это не удастся. Я уж об этом позабочусь, хотя бы мне пришлось отогнать их от ворот пулями. Что-нибудь в таком роде непременно случится в этот день. Здесь, в Романье, народ бесшабашный, и раз уж будут пущены в ход ножи…
– Я думаю, что можно постараться не довести дело до ножей. Я всегда находил, что со здешним народом очень легко справиться при умении обходиться с ним. Разумеется, если начать противоречить романцу или угрожать, то он непременно закусит удила. Но разве у вас есть основание предполагать, что затевается новая попытка освободить Ривареса?
– Я узнал вчера и сегодня утром от своих доверенных агентов, что по области циркулирует множество тревожных слухов и что готовится, очевидно, что-то недоброе. Но невозможно узнать подробности. Если бы мы знали их, легче было бы принять все меры предосторожности. Что касается меня, то после последней истории я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее.
– В прошлый раз вы говорили, что Риварес сильно болен и не может ни двигаться, ни говорить. Он, значит, теперь выздоравливает?
– По-видимому, ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен, если, конечно, не притворялся.
– У вас есть повод подозревать это?
– Доктор вполне убежден, что он не притворяется, но болезнь его весьма таинственного характера, должен я сказать. Так или иначе, а он выздоравливает, и с ним теперь труднее сладить, чем когда-нибудь.
– Что же он такое делает?
– К счастью, он почти ничего не может сделать, – ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. – Но его манера держаться – это что-то неописуемое. Вчера утром я пошел в его камеру, чтобы предложить ему несколько вопросов. Он слишком плох еще, чтобы приходить на допрос ко мне. Да и лучше, чтобы его не видели посторонние, пока он окончательно не поправится. Это было бы даже рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь историю.
– Итак, вы отправились допрашивать его?
– Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он теперь поумнел хоть немного.
Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и неприятную зоологическую разновидность.
Но, к счастью, полковник поправлял в это время свою портупею и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:
– Я не прибегал ни к каким чрезвычайным мерам, но был вынужден проявить некоторую строгость, тем более что ведь у нас военная тюрьма. Я надеялся потому, что кое-какие послабления могут оказаться теперь благотворными. Я предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя разумно. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту он глядел на меня точно волк, попавший в западню, а потом сказал совершенно мирным тоном: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно хорошие. Держите-ка ваше горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.
– Меня все это нимало не удивляет, – спокойно ответил Монтанелли. – Я хочу теперь задать вам вопрос: вы искренно верите, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме представляет серьезную опасность для спокойствия области?
– Самым искренним образом, ваше преосвященство.
– Вы думаете, что для предотвращения кровопролития абсолютно необходимо так или иначе избавиться от него перед Corpus Domini?
– Я могу только повторить, что если он будет еще здесь в четверг, то праздник не обойдется без свалки, и, по всей вероятности, очень серьезной.
– И, по вашему мнению, стоит только удалить его отсюда, как это предотвратит опасность?
– Тогда беспорядка или совсем не будет, или, в худшем случае, немного покричат и побросаются каменьями. Если ваше преосвященство найдет способ избавиться от него, я отвечаю за порядок. В противном случае я ожидаю серьезных событий. Я убежден в том, что подготовляется новая попытка его освобождения и что ее можно ожидать именно в четверг. Если же в этот день узнают, что его уже нет в крепости, этот план отпадет сам собою. А если нам придется отбиваться и в огромной толпе народу пойдут гулять ножи, то город будет, вероятно, сожжен, прежде чем наступит ночь.
– Почему вы, в таком случае, не переведете его в Равенну?
– Видит бог, ваше преосвященство, я с радостью бы сделал это! Но тогда невозможно будет помешать попытке освободить его по дороге. У меня недостаточно солдат, чтобы отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремневые ружья, или еще что-нибудь в этом роде.
– Вы продолжаете, следовательно, настаивать на военном суде и хотите получить мое согласие?
– Простите, ваше преосвященство: единственно, о чем я вас прошу, – это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды вроде того, где председательствовал полковник Фрэди, были иногда без нужды строги и только возбуждали народ, вместо того чтобы смирить его. Но в данном случае военный суд был бы разумной мерой, а в конечном счете и милосердной. Он предупредил бы беспорядки, которые сами по себе составляют уже несчастье и могут, весьма вероятно, вызвать возвращение военно-полевых судов, отмененных его святейшеством.
Полковник закончил свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью:
– Полковник Феррари, верите ли вы в Бога?
– Ваше преосвященство! – пробормотал полковник прерывающимся от волнения голосом.
– Верите ли вы в Бога? – повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.
Полковник встал.
– Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда еще до сих пор не отказывали в отпущении грехов.
Монтанелли поднял с груди крест.
– Так поклянитесь же на кресте Искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.
Полковник стоял неподвижно, растерянно глядя на кардинала. Он никак не мог разобрать, кто из них двоих лишился рассудка: он или Монтанелли.
– Вы просили, – продолжал Монтанелли, – чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что вы не знаете иного средства предотвратить кровопролитие. И помните, что если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.
Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.
– Я не знаю другого средства, – сказал он.
Монтанелли медленно повернулся, чтобы уходить.
– Завтра я дам вам определенный ответ. Но я должен сначала видеть Ривареса и говорить с ним наедине.
– Ваше преосвященство… если мне позволено будет дать вам совет… я уверен, что вы потом пожалеете. Да, кстати, он вчера прислал сказать мне, что желает видеть вас, но я оставил это без внимания, потому что…
– Оставили без внимания! – повторил Монтанелли. – Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете без внимания!
– Весьма сожалею, что ваше преосвященство так недовольны. Я не хотел беспокоить вас для того только, чтобы вы слушали его дерзости. Я уж достаточно хорошо знаю теперь Ривареса, чтобы быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне, кстати, сказать вам, что подходить к нему близко без стражи отнюдь не безопасно. Настолько даже небезопасно, что я счел необходимым обезвредить его применением мер, довольно, впрочем, мягких…
– Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, которого вы вдобавок позаботились «обезвредить применением довольно мягких мер»?
Монтанелли говорил спокойным голосом, но полковник почувствовал в его тоне скрытое презрение, и краска злобы залила его лицо.
– Ваше преосвященство поступит так, как сочтет лучшим, – сказал он очень сухо. – Я хотел только избавить вас от неприятности выслушивать его ужасные богохульства.
– Что вы считаете более тяжелым для христианина – слушать богохульства или покинуть брата-человека, находящегося в последней крайности?
Полковник стоял вытянувшись и весь застыв в своей официальной сухости. Лицо его казалось совершенно деревянным. Он был глубоко оскорблен обращением с ним Монтанелли и проявлял свое недовольство подчеркнутой официальностью манер.
– В котором часу желаете, ваше преосвященство, посетить заключенного? – спросил он.
– Я сейчас иду к нему.
– Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь сказать, чтобы его приготовили?
Полковник сразу спустился со своего официального пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.
– Благодарю вас; я предпочитаю видеть его как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свиданья, полковник. Завтра утром я дам вам свой ответ.