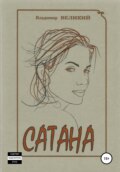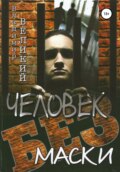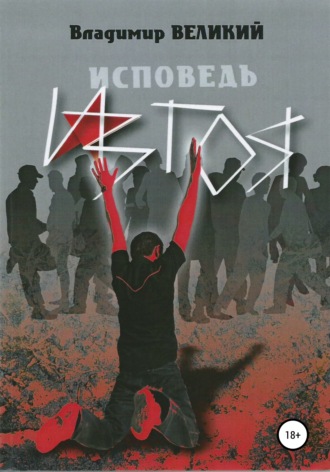
Владимир Великий
Исповедь изгоя
Чурсин с очень большим вниманием выслушал монолог своей любимой женщины. Некоторое время он молчал. Молчала и Кускова. В комнате на какой-то миг воцарилась мертвая тишина. Из сидящих за столом никто не хотел ее нарушать. Скорее всего, эта тишина способствовала серьезным размышлениям и умозаключениям, которые могли в какой-то мере изменить жизнь этой женщины и этого мужчины. Чурсин никогда не думал, что эта красивая женщина, профессор, доктор филологических наук, совсем недавно беспартийная, будет выполнять столь ответственное задание партии. В том, что с ней беседовали далеко не простые люди, он нисколько не сомневался. Как и не сомневался в правильном решении, которое приняла эта женщина. Одно он знал четко, что если бы она отказалась от поручения, то ей бы давно не было места в университете, не говоря уже о заведовании кафедрой. Да и он сам, выполняя ответственное задание партии в период уборки сельхозпродуктов, неоднократно прокручивал в своей голове один и тот же вопрос: «А что, если отказаться? И почему я должен все эти пять лет подряд ездить? А где остальные?». Через некоторое время он успокаивался, успокаивался окончательно. Он раньше и сейчас не сомневался, что партийный пресс, без всякого сомнения, его в один миг раздавит и выбросит как букашку. Бессильна против этой махины была и его любимая женщина. Он с жалостью смотрел на Инну и еще сильнее прижимал ее к своей груди. Кускова, словно понимая его размышления, также прижималась к нему и повторяла почти одно и тоже:
– Вот такие наши дела, мой любимый… Судьба – злодейка нас разводит…
Чурсин на ее причитания ничего не говорил. Он только ловил теплые губы очаровательной блондинки и с жадностью в них впивался. В верности умозаключений своей любимой он уже нисколько не сомневался. Как и не сомневался, что им никогда не суждено быть вместе. Быть или не быть счастливыми, для них определяла партия, в рядах которой он состоял уже семь лет…
Через некоторое время они успокоились и пошли гулять по городу. Тарск в эту новогоднюю ночь был особенно красив. Его центральная улица, носящая имя вождя мировой революции, утопала в море ночных фонарей и новогодних гирлянд. Перед огромным зданием областного комитета партии стояла главная елка города, вокруг которой толпились сотни горожан. То там, то здесь раздавался смех и здравицы в честь наступившего нового года. У многих были бутылки с шампанским. Кое-кто из участников новогоднего карнавала принес спиртные напитки из дома. Некоторые покупали их у спекулянтов, стоящих неподалеку от праздничного представления. Чурсин был безмерно счастлив, когда за червонец купил бутылку шампанского и получил впридачу два больших стакана. Он открыл бутылку, раздался сильный хлопок, и игристая жидкость ударило ему в лицо. Увидев это, Кускова засмеялась и стала слизывать с его щек и губ полусладкое вино. Через несколько мгновений их губы сомкнулись. В этот миг они были счастливы, как никогда. Они пили за любовь и за новые надежды. Им казалось, что в эту новогоднюю ночь счастливы не только они. Счастливы и все те, кто кружился в хороводе вокруг вечнозеленой красавицы. От внезапно наступившего счастья, они то и дело обменивались комплиментами. Особенно усердствовал Чурсин. Он был без ума от своей женщины, которая была сегодня, как никогда раньше, веселой и жизнерадостной. Инна сейчас была и божественно красивой. В том, что она краше и умнее всех, он и раньше никогда не сомневался. Не сомневался и сейчас. Кружась в толпе танцующих, он то и дело прижимал ее к себе и чмокал в ее губы. Иногда он отходил от нее на пару шагов, останавливался и затем пронзал своими глазами ее хрупкую фигурку. Ему очень нравилась эта женщина в длинной коричневой дубленке, шея которой была перевязана белым шарфиком. Ей все было впору и к лицу. И эти короткие коричневые сапожки на высоком каблуке и эта полукороткая прическа. Локоны ее белых волос ниспадали на воротник дубленки и делали его любимую еще красивее, еще привлекательнее…
Чурсин проснулся рано утром. Инна еще спала. Она иногда почему-то тихо всхлипывала во сне и чмокала своими губами. Он не стал ее будить, направился в соседнюю комнату. Во время ходьбы он мгновенно почувствовал физическую усталость, особенно ныли плечи и ноги. Страшно болела и голова. На какой-то миг он вспомнил вчерашний карнавал возле новогодней елки и улыбнулся. Включил телевизор. На всех каналах шли новогодние представления. Прошел почти час. Хозяйка все еще спала. Он очень осторожно вошел в спальню и почти на цыпочках подошел к кровати. Затем опустился на колени, немного приспустил одеяло и прикоснулся своими губами к грудям спящей. Через несколько мгновений он почувствовал тепло ее тела и запах дорогих духов. Он многие годы знал, что она всегда покупала очень дорогие духи. От внезапного прикосновения женщина проснулась и в прямом смысле притянула мужчину к себе за уши и затем крепко поцеловала его в губы. После этого они громко рассмеялись.
За стол они сели только через час. Оба пили за любовь. Она пила красное вино, он водку. После «Столичной» у Чурсина голова несколько просветлела. Он этому очень обрадовался и направился на балкон, чтобы подышать свежим воздухом. Он вскочил со стула и тут же сел. Страшная боль пронзила его поясницу. Хозяйка, увидев скорчившегося мужчину, весело засмеялась и произнесла:
– Это тебе, Егорушка, твоя наука отдается… Я ведь знаю, сколько надо просидеть за диссертацией, чтобы ее написать…
Чурсин ничего ей на это не ответил. Лишь после того, как он очень медленно разогнулся и привстал со стула, он с ехидцей огрызнулся:
– Да… В этом доля правды есть. Однако, ты писала куда больше…
Кускова его объяснения дальше не стала слушать. Она медленно привстала из-за стола и приблизилась к нему. Затем, поцеловав его в губы, тихо промолвила:
– Эх, ты, мой дуралей… Ты так все еще не можешь понять, почему у нас сегодня все и вся болит…
Чурсин и после этих слов был в полном недоумении. Он продолжал загадочно смотреть в глаза любимой. Кускова легким движением рук сбросила с себя халат зеленого цвета, и оставшись в одних ослепительно белых трусиках, страстно прижалась всем своим телом к мужчине. Затем она улыбнулась и поцеловав его, ласково прошептала:
– Эх, ты, мой любимый историк… Мой любимый мальчишка и мой любимый мужчина… Ты сегодня ночью был сильный, как лев, и ласковый, как котик… Поэтому мы в равной степени больны…
Чурсин только сейчас понял причины своей временной нетрудоспособности. Покрутив пальцем возле своего виска, он громко рассмеялся. Затем он мгновенно подхватил женщину на руки и понес ее в спальню. И до наступления очередного утра они были в плену любви и страсти. Не обошлось и без слез. Они были взрослыми людьми и прекрасно понимали, что они друг с другом уже никогда не встретятся. Причин этому было множество. Предстоящая работа Кусковой требовала от нее соблюдения определенных формальностей. Одна из них напрочь исключала присутствие молодого человека в ее окружении. Они также допускали мысль, что кое-кто из институтских коллег и сотрудников знает о любовном романе пожилой профессорши и молодого кандидата наук. По гражданским меркам, не говоря уже о партийных этикетах, это было нечто необычное, даже очень необычное. Любые учреждения и организации такой возрастной «водораздел» влюбленных, не говоря уже об их браке, никогда не приветствовали. Не было исключений и для них. Лишняя помеха, без всякого сомнения, могла навредить не только их отношениям, но и их карьере. После длительных раздумий они пришли к единому выводу – им больше не стоит встречаться. И времени уже для этого не было. Кусковой предстояло через месяц сдать все дела на кафедре и выехать в Москву. От бессилия что-либо сделать, они очень переживали и плакали. Особенно в отчаянии была Инна. Она то и дело вглядывалась в голубые глаза своего любимого мужчины и тихо шептала:
– Бог, ты мой! За что же ты меня так страшно наказываешь? Ну, за что же, скажи, мой Егорушка?
Чурсин на ее вопрос был бессилен что-либо ответить. Он только очень осторожно смахивал своей ладонью ее слезы и тяжело вздыхал. Одно мог он сделать сейчас как мужчина, как человек, это еще сильнее любить эту женщину. В том, что эта ночь будет последней в их жизни, никто не сомневался. И от этого понимания, и от этой безысходности, они все больше и больше окунались в океан любви…
Проснулись они поздним утром. У каждого на душе скребли кошки. Особенно тревожился за свою любимую Чурсин, который сейчас ее не узнавал. Ему не верилось, что эта осунувшаяся женщина с темными кругами под глазами, есть Инна Владимировна Кускова, профессорша, которую он всегда видел сильной и умной. Сейчас эта умница и красавица плакала, ее хрупкие плечи вздрагивали. На прощание она несколько приободрилась, и сильно сжав его руку, серьезно произнесла:
– Мой любимый Егорушка, послушай моего совета… Иди по этой жизни осторожно, очень осторожно… И еще я тебе скажу, как ученый человек. Пиши быстрее, как это возможно, докторскую диссертацию. Именно она тебе даст дорогу в будущее. Я давно заметила, что у тебя есть рвение к науке. И ты ее осилишь, мой Егорушка…
Чурсин после умозаключений своей любимой наставницы с грустью улыбнулся, затем поцеловал ее в губы и со слезами на глазах открыл дверь. Ему тотчас же вдогонку донеслось:
– Прощай, мой любимый, прощай навсегда…
Через полчаса Чурсин сидел в плацкартном купе пассажирского поезда. Вагон был почти пустой. Только в середине его сидела немолодая парочка, которая за трапезой о чем-то тихо шепталась. Он, как только поезд тронулся, получил постельное белье и сразу приготовил постель. Затем принялся размышлять о том, что произошло за время очередной встречи с Инной Кусковой. В том, что эта встреча была для них последней, он нисколько не сомневался. Он потерял эту женщину всего час назад, потерял навсегда. Потерял не по своей вине, а по вине того общества, по вине той системы, которую придумали сами люди, в том числе, и он сам, как человек и как коммунист. От этих мыслей ему становилось не по себе. Порою ему хотелось сорвать стоп-кран поезда и выпрыгнуть из вагона, затем помчаться к женщине, которую он сильно любил. Однако он этого не делал, не делал вполне осознанно. Он не сомневался, что ни он сам, ни его любимая женщина, да и они вместе вдвоем, бессильны сломать эту систему. Сейчас у него, как и раньше, утешением и надежой оставалась историческая наука. Она была для него не только его призванием, но и мерилом его таланта, его жизни. Он твердо решил, как можно, скорее писать докторскую диссертацию…
Глава вторая.
Склочник
С темой монографии Чурсин определился к концу августа. На это ушло почти полгода. Во время очередного летнего отпуска он опять по-человечески не отдыхал. Зато ему удалось побывать во многих библиотеках страны, в том числе и в Москве. Искать какие-либо контакты с Инной Кусковой он не стал. Занятие это было не только бесполезное, но и в некоторой степени даже опасное. В том, что она находилась на спецучете в серьезных органах, он не сомневался. Жажда научной работы с каждым днем, а то и с каждым часом, привлекала его к себе, забирала у него все его умственные и физические силы. Образ любимой женщины постепенно уходил на задний план. Он все продолжал снимать комнату у бабы Маши. Многолетнее пребывание квартиранта старую женщину устраивало. Он был очень спокойный, не буянил. Она никогда не находила у него пустых бутылок из-под спиртного. Не было у него и бычков от сигарет. Не водил он к себе и женщин. Длительные командировки постояльца также радовали старуху.
Несмотря на все свои человеческие и нечеловеческие странности, молодой мужчина вовремя платил ей деньги, как за проживание, так и за питание. После защиты кандидатской диссертации Чурсин попросил хозяйку готовить для него пищу и стирать белье. За любые дополнительные услуги он доплачивал. Однако этим он не слишком часто ее обременял. Днем его не было, ночью он спал. Даже в редкие минуты общения, диалога, как такового, между ними не получалось. Постоялец больше работал на прием. Узнав о том, кто из жильцов дома напакостил друг другу, или сколько стоят овощи на центральном рынке, он делал вид, что остальное его уже не интересовало. На заумные вопросы хозяйки он отделывался молчанием или отсылал ее к постоянному источнику информации – телевизору. «Черный ящик» она смотрела почти весь день. Он ее не только информировал о всех новостях в стране и за рубежом, но и спасал от ничегонеделания. Подруг в доме у нее не было, не было и мужчин. Ее ровесницы по возрасту, как таковые, в «хрущевке» отсутствовали. Ровесники-мужчины были, но она их страшно презирала. Считала, что все мужики одни только пьяницы.
Работа над темой монографии на нет свела контакты Чурсина со своими родителями. С того дня, когда он, не пожелав с ними встретить Новый год, уехал к любимой женщине, прошло почти восемь месяцев. Его радовало лишь то, что они его занятость понимали. Переживали его неудачи, радовались его успехам. Николай и Надежда довольно часто рассуждали о поступках своего единственного сына. Если в правильности своих они довольно часто сомневались, то в сыновьих – никогда. Гошка для них был не только человек уравновешенный, но и большая знаменитость. Через месяц после своего отъезда он принимал участие в телепередаче «За круглым столом». Надежда плакала, когда увидела своего сына на экране. Николай свое восхищение сыном отметил чисто по-русски, выпив стакан русской водки. Утром о выдающемся ученом говорили почти все жители Марьино. Рубщик мяса пришел на работу очень поздно. Все отходил от радости. Торговцы на него не обиделись. Они уже давненько знали, что у долговязого есть башковитый сын. Николай Чурсин в этот день рубил мясо с большим прилежанием, вносил свой вклад в выполнение Продовольственной программы Коммунистической партии.
Наступил сентябрь. Первым вопросом повестки дня заседания кафедры стоял вопрос об ученом секретаре кафедры, что удивило Чурсина. Бумажные дела вела Таркина Надежда Ивановна. У нее кроме этой нагрузки, других не было. Все знали, что она без всякого желания выполняла эту работу. Ссылаясь на головные боли, пожилая женщина часто филонила. В сей миг дела передавались Чурсину, который часами сидел на кафедре, чтобы зафиксировать содержание продолжительных прений своих коллег. С информацией выступил Горовой. Он очень долго мусолил этот вопрос. Все сводилось к одному. Коллеги по кафедре, за исключением Егора Николаевича Чурсина, не могут по состоянию здоровья или из-за занятости быть ученым секретарем. Чурсин не ожидал такого разворота событий. Он сделал самоотвод, ссылаясь на множество других общественных поручений. Было безуспешно. Единогласно проголосовали за его кандидатуру. Он посмотрел в сторону Таркиной, та ехидно улыбалась. Он тяжело вздохнул и сел за стол ученого секретаря.
Попытка новоиспеченного кандидата наук вынести на обсуждение коллег тему монографии закончилась для него полнейшим провалом. Для Чурсина это было неожиданностью. Сидящие, узнав об этом, пришли в настоящий шок. Первое, что его поразило, бросился в атаку против него заведующий кафедрой. Он выскочил из-за стола, и размахивая своими худыми руками, истошно завопил:
– Уважаемый Егор Николаевич! Вы же еще не обсохли от кандидатской диссертации, а уже заявляете о докторской… Я и мои коллеги никогда не стремились форсировать историческую науку…
Окинув взглядом сидящих, которые все расцвели в подобострастных улыбках, он очень серьезно добавил:
– Я прямо скажу товарищу Чурсину, как коллеге и как коммунисту… Вам надо еще подождать хоть лет пяток, чтобы в Вашей голове сформировались умные мысли, которые потом перерастут в научные тезисы…
Чурсин стоял посредине комнаты и молчал. Лицо его было ярко красным. На лбу выступила испарина. Реакция заведующего, который совсем недавно настойчиво его просил омолодить и освежить историческую мысль в институте, была для него, как гром в зимний день. Он также не мог понять и точку зрения очередного коллеги. Доцент Борис Григорьевич Кулаковский, оказался еще категоричнее, чем его шеф. Сгорбленный старик, голова которого, как иногда, казалось, доставала до пола, на этот раз превзошел себя. Он неожиданно для всех выпрямился, и засунув руки в карманы своего старенького пиджака, с заиканием произнес:
– Уважа-а-е-е-емые коллеги! Я не скрою, что у нас появился молодой карьерист, который неправильно понимает политику нашей партии… – На несколько мгновений он замолк. Что-либо говорить дальше, ему мешало обилие слюны в его рту. Он вытащил из кармана брюк носовой платок и вытер им свои губы. Затем продолжил. – И еще я скажу, скажу очень честно… Вам, Егор Николаевич, еще рано думать о докторской… Лучше шлифуйте методику лекций и семинаров…
Чурсин, все это время стоящий на ногах, не мог больше слушать настоятельные рекомендации и упреки своих коллег. Ноги его одеревенели. Он медленно сел на стул и опустил голову вниз. В его глазах стоял туман. Новоиспеченный ученый секретарь кафедры истории КПСС домой пришел очень поздно, все писал протоколы. На следующий день Анна Петровна сказала ему, что Горовой информацию об его теме монографии вычеркнул. Он ничего на это не ответил, он только кисло улыбнулся.
Через две недели начались очередные сельхозработы. Кафедра вновь рекомендовала Чурсина комиссаром. Прочитав давно знакомый лист с прежними фамилиями и старыми диагнозами, он решил на этот раз дать настоящий бой старческому произволу. Он направился в партийный комитет и зашел в кабинет заместителя секретаря парткома института. Доцента Ивана Сергеевича Паршина с кафедры политэкономии он знал, но близких отношений с этим человеком не имел. В большей мере они встречались по общественной работе, когда проводили те или иные мероприятия среди студентов. Ему многое в этом человеке нравилось, многое и нет. Совместная работа скрашивала личные человеческие достоинства и недостатки. Узнав о том, что Чурсин возражает против партийного поручения, ссылась на ранее многократные поездки, главный институтский идеолог сильно напыжился и со злостью сквозь зубы процедил:
– Товарищ Чурсин! Если Вы еще раз откроете рот, я Вас исключу из партии, исключу сегодня же…
Чурсин, стоявший перед небольшим, да и к тому же горбатым, человечиком, от неожиданности открыл рот. Он все еще не мог понять и переварить все то, что ему сказал партийный работник, его коллега по общественной работе. Он медленно закрыл рот и опять его открыл, намереваясь возразить. Было уже поздно. Паршин исчез из своего кабинета в неизвестном направлении.
Прошел месяц. Комиссар студенческого лагеря Егор Чурсин, как и раньше, добросовестно исполнял свои обязанности. Все это время молодой ученый и наставник молодежи был погружен в размышления. Поразмышлять было есть о чем. Особенно после его недавней поездки в институт. Ему необходимо было уточнить причины отсутствия двух кураторов групп, которые все еще не прибыли на сельхозработы. На сотню студентов было три преподавателя: начальник лагеря, комиссар и один куратор. В некоторые дни студенты работали далеко от лагеря или в разных деревнях. За молодежью был необходим контроль. Перед отъездом из «кооператива» проректор заверял Чурсина, что кураторы приедут на следующий же день. Прошло две недели, их все еще не было. Из институтских начальников в лагере также никто не появлялся. До города Чурсин добрался на попутных машинах. По приезду он сразу же пошел в приемную проректора, его на месте не оказалось. Идти в партийный комитет желания не было. Он решил немного переждать и неспеша пошел на кафедру. В том, что она будет пустая, он был уверен наверняка. Первокурсники под его руководством работали в селе. Он достал из кармана ключ, открыл дверь и сделал несколько шагов вперед. И в сей миг замер… В кабинете заведующего кафедрой сидели его коллеги и пировали. От увиденного у него чуть ли не отпала челюсть. Он сделал пару шагов в сторону своего стола и остановился. Идти дальше, у него не было сил. Ему не хотелось видеть то, что он видел. За двумя вместе сдвинутыми столами сидели все сотрудники кафедры, двенадцать человек. За исключением его, самого молодого кандидата наук, карьериста.
Появление Чурсина в самый разгар «культурного мероприятия», для сидящих было полнейшей неожиданностью. Они от страха все чуть ли не навалили себе в штаны. Получилось ли это у них, вошедший не мог определить. Однако то, что кто-то из его коллег испортил воздух, он не сомневался. Он на некоторое время приостановил дыхание, чтобы не вдыхать в себя спертый воздух. Участникам застолья было не свежего воздуха. На какой-то миг они растерялись. При появлении самого молодого историка морщинистое лицо заведующего кафедрой стало красным, словно по нему десяток раз прошлись крапивой. Сначала пожилой мужчина ничего не мог сказать. От страха он только шевелил губами и тряс головой. Чурсина поразила не только странное поведение своего начальника, но и гробовая тишина, царящая в комнате. Он прекрасно понимал, что сидящие за столом всего лишь несколько мгновений назад терялись в догадках, кто же открыл дверь, и главное, кто вошел. Свои, за исключением Чурсина, были на местах. Информация чужака о пьянке в рабочее время могла основательно подмочить репутацию историков. Пьянку, да еще на коммунистической кафедре, никто из начальников никогда не прощал. Это была аксиома, которая действовала десятки лет.
Горовой, словно провинившийся школьник, быстро засеменил навстречу Чурсину, и оскалив свои пожелтевшие зубы, с неподдельной лестью произнес:
– Егор Николаевич! Проходите, пожалуйста, проходите… У нас сегодня небольшой сабантуйчик… Андрей Федорович, наш заядлый рыбак принес пару карасиков, вот мы и решили их отведать…
Чурсин с дежурной улыбкой протянул шефу руку для приветствия и решительно вошел в комнату. Все сидящие, оскалив зубы, подобострастно стали с ним здороваться по ручке. Чурсин для приличия скушал маленький кусочек торта и выпил чашечку кофе. Затем, сославшись на занятость, простился с коллегами и спустился на второй этаж. Проректор был на месте. Он, узнав о цели визита комиссара, вновь пообещал ему в срочном порядке отправить недостающих кураторов. Обещание осталось пустым звуком. Кураторы на следующий день не прибыли. Не было их и до конца сельхозработ.
В конце октября неожиданно сильно похолодало. Среди студентов пошли слухи о том, что вот-вот их должны отправить в город. Требовали этого начальник и комиссар лагеря. Директор совхоза был против. Неубранного картофеля оставалось еще десятки гектаров. Своими силами он не мог его убрать. Трудоспособные мужчины занимались уборкой силоса и готовили животноводческие помещения к зиме. Жители деревни большого интереса к общественному картофелю не проявляли. Все равно сгниет. По этой причине, вполне возможно, селяне картофель воровали. Воровали не только они, но и городские жители, которые днем и ночью приезжали на легковых автомашинах, иногда даже на грузовиках. Итог словесной перепалки между руководством совхоза и руководством студенческого лагеря оказался не в пользу последних. Директор обратился в райком партии. Оттуда пришла телефонограмма: студентов оставить в совхозе до особого распоряжения и обеспечить их теплом. Для отопления помещений привезли несколько самодельных обогревателей. Днем агрегаты включали, на ночь отключали. Через час в коридорах вновь господствовал прохладный воздух. В небольших помещениях, в которых отдыхали студенты, ночью было относительно тепло. Кое-кто из первокурсников надевал на себя куртки, другую одежду. Начальник лагеря и комиссар в комнате спали вдвоем. От холода становилось иногда не по себе. Мужчины выходили на улицу и делали небольшие пробежки по территории лагеря. Затем вновь ложились спать.
Чурсин в эти холодные ночи часто окунался в размышления о сотрудниках своей кафедры. После их застолья он все больше и больше убеждался, что мужчины и женщины, убеленные сединой, были очень далеки от тех установок и трактатов, которые они читали с потертых конспектов. Ради солидной зарплаты старье было готово до самой смерти протирать свои шатаны. Даже всевозможные революции и эволюции в теоретической болтовне, муссируемые партией, мало что изменяли в укладе их жизни. До защиты кандидатской диссертации Егор Чурсин глубоко не вникал во все тонкости кафедральной жизни. Занятия, партийные поручения и научная работа забирали у него уйму времени. Его многолетний труд окупился сторицей. После присвоения ученой степени он получил дополнительные крылья в науку. Он не скрывал от себя, что отзывы о нем, как талантливом ученом, ему очень льстили. Положительно отзывались о нем не только сотрудники «кооператива», но и жители сел. За неделю до отъезда комиссара студенческого лагеря попросили выступить перед ветеранами войны и труда на центральной усадьбе совхоза. Лекция о международном положении слушателям очень понравилась. Секретарь районного комитета партии под шквал аплодисментов очень долго жал руку молодому лектору, кандидату исторических наук. Чурсин также надеялся, что он через пару месяцев получит должность старшего преподавателя кафедры. Он нуждался не только в укреплении своего престижа, но и в деньгах…
Во время радужных размышлений в его голову приходили и тревожные мысли. Он не сомневался, что стычка с заместителем секретаря парткома Паршиным и его неожиданный визит на кафедру, обойдутся ему боком. Беспокоило и то, что все коллеги его желание продолжать работать над исторической наукой встретили в штыки. И это вынуждало его думать и думать. Чем больше он размышлял, тем больше приходил к неординарным выводам. Кафедра истории КПСС в кооперативном институте была самой старой по возрасту. Из десяти преподавателей одному было за семьдесят лет, пятерым за шестьдесят, троим за пятьдест лет. Трем женщинам-сотрудницам каждой было под шестьдесят. Ему, самому молодому исполнилось двадцать восемь.
Средний возраст историков составлял 60 лет. Никто из них по-настоящему научными исследованиями не занимался. Причиной этому был не только возраст, но и нежелание напрягать свои извилины. Любая наука требовала определенных усилий, что отражалось на здоровье. Старики берегли свое здоровье, как зеницу ока. Приличная зарплата их также устраивала. Заведующий кафедрой получал 420 рублей, доценты по 320 рублей, старшие преподаватели по 180 рублей. На должностях ассистентов были два бывших политработника Советской Армии. Кроме 125 рублей каждый из них получал солидные пенсии – 200 рублей на нос. Офицеры запаса, не имеющие профессионального образования, и в связи с возрастом не привлекались в сферу научных исследований. Чурсин ни разу не видел и не слышал каких-либо отчетов о научной работе от этих сотоварищей. У них был другой козырь, который они использовали при любой возможности. Армейские политработники умели с большим пафосом говорить. Он им частенько завидовал, когда они в любом историческом факте находили руководящую роль партии.
Узнал Чурсин и то, что не все доценты имели профессиональное образование. Заведующий кафедрой, окончивший педагогический институт, перед началом войны преподавал географию в восьмилетней школе. Воевал, имел несколько боевых наград. Над монографией, тему которой он даже и сам иногда забывал, старик трудился больше десяти лет. Доцент Кулаковский до работы в «кооперативе» был инструктором обкома партии в одном из городов Украины. Его партийные привилегии сохранились и в Помурино. Борис Григорьевич жил в обкомовском доме, в одном из красивейших зданий города. Чурсин почти каждый день проходил мимо девятиэтажного дома из красного кирпича. Мощный особняк утопал в зелени. Научная работа бывшему партработнику была нужна, как мертвому припарки. О том, что надо заниматься наукой, он вспоминал только перед очередным конкурсом на замещение вакантной должности доцента. Кандидат в доценты звонил в редакцию газеты, и узнав о том, что объявление будет напечатано на следующий день, с раннего утра занимал очередь у газетного киоска на вокзале, который был самым большим в городе. Он в один присест скупал всю наличность городской газеты. Скупал не ради дальнейшей рекламы, скупал из-за страха, что иногородние историки могут его «застопорить». Месяц, время необходимое для подачи документов, старик ходил по институту очень сосредоточенный. Кое-что он обновлял и в своем внешнем виде. Вместо черного галстука, который от ветхости готов был развалиться на маленькие кусочки, он надевал ярко красный. Самый древний по возрасту представитель исторической науки «кооператива» был всегда любезен перед местным начальством. Чурсин, наблюдая за этим старым существом, поражался его изобретательности льстить и пресмыкаться.
Фантазия у старика не знала границ, особенно в период проведения торжественных или партийных собраний. Борис Григорьевич за полчаса до начала мероприятия становился возле двери актового зала. Кивком головы он приветствовал молодых и незнакомых ему сотрудников, со старожилами здоровался по ручке. С институтскими вождями он был особенно любезен. Увидев начальника, он мгновенно опускал свои плечи вниз, и одновременно протягивал ему руку. Затем слегка приподнимал свою небольшую голову, на которой «росло» около двух десятков седых волос. Через несколько мгновений его физиономия, покрытая густым лесом морщин, расцветала в подобострастной улыбке. Потом он притягивал чиновника к себе или долго жал ему руку. Это зависело от настроения последнего. После этого следовала целая обойма теплых слов лично в адрес этой персоны и членов его семьи. Чиновник, как правило, отвечал аналогичными комплиментами и пожеланиями. Кулаковский, последним закрывал дверь актового зала. Затем он с горделивой осанкой дефилировал через весь зал к своим коллегам, сидящим во втором ряду. Первый ряд занимал ректорат института, начальники различных служб.
Присутствующие в зале уже не сомневались, что после того, как сел на свое рабочее место старейший историк, можно начинать мероприятие. Борис Григорьевич на всех без исключения общественных мероприятиях был в президиуме. На мероприятиях, посвященных Дню Победы, его избирали как фронтовика. На читательских конференциях, посвященных различным вехам в строительстве социализма или трудам кормчих народной партии, он также был на самом видном месте. Активен он был и на заседаниях кафедры. С критикой был очень осторожен, критиковал дифференцированно. Он, как правило, не «кусал», а, наоборот, хвалил. Особенно доцентов. Стариков, которые читали лекции из фонда кафедры и добавляли пару цитат из очередного пленума ЦК КПСС или партийного съезда, он относил к когорте великих теоретиков партии.