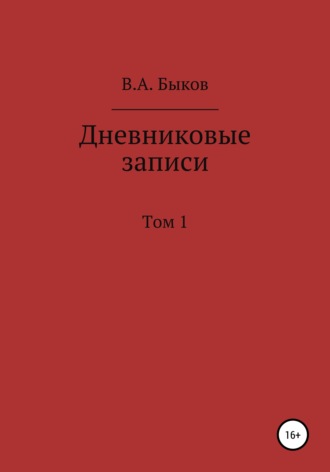
Владимир Александрович Быков
Дневниковые записи. Том 1
Сколько же они, особо автозавод, теряют из-за подобных «мелочей»? А ведь помню, приобретенная мною более 40 лет назад «Волга» (с домкратом, полным набором инструмента, банкой краски и даже еще с какими-то запасными частями) прошла 100 000 километров, и, к тому же, по молодости наших лет, чуть не все из них по лесным дорогам, по грязи и колдобинам. Не знал, не ведал ни сервисного обслуживания, ни ремонта. Не помню и о каких-либо обнаруженных дефектах. На мой инженерный взгляд и эта, новая машина, не плохая. Но вот мелочи..!
2001 год
10.04
Цалюк образумился. Споров нет, домысливаний тоже. Признал, что часто «реагировал с ходу, без подготовки, не упорядочив свои взгляды».
1 7.05
О Вернике
С Александром Борисовичем Верником я познакомился полузаочно, когда еще не работал на заводе. Я сидел в приемной директора завода (тогда Б. Г. Музрукова) и договаривался с его помощником об экскурсии для студентов УПИ, когда туда буквально влетел представительный, безупречно одетый, моложавый человек, перекинулся парой слов с секретарем и тут же вышел. На меня он произвел настолько сильное впечатление, что по окончании своих переговоров с Е. Г. Дуркиным я не удержался спросить у секретаря, как я потом узнал Руфины Евгеньевны Липатовой:
– Кто это только что сюда заходил?
– Главный конструктор Верник, – ответила она.
С Верником, после моего прихода на работу, я почти не встречался и разговаривал с ним только один раз, когда он оказался у моей доски во время своего очередного планового обхода своих КБ. Он задал мне пару вопросов. То же самое, в силу своей настырности, сделал и я. Думаю, что поэтому ему и запомнился. В это время произошла неприятная история с буровыми установками, он был с завода уволен и переведен на один из сибирских заводов. После этого я встретил его лет через пять в Москве в нашей министерской гостинице. К моему удивлению, он поздоровался и разговаривал со мной как со старым знакомым. Еще через сколько-то лет Верник стал Главным конструктором Электростальтяжмаша, перетянул туда М. И. Гриншпуна, посадил его на свой стул, а сам пересел в кресло Главного инженера. По ходу забрал приказом по министерству к себе на завод все трубное производство. Судя по делам в отрасли отечественного трубного производства, это был отличный тандем: превосходный организатор – Верник и талантливый конструктор – Гриншпун.
А еще через 20 лет мы с Б. Я. Орловым пригласили их обоих к себе на торжества по случаю 50-летия конструкторского отдела прокатного оборудования. Верник был на уровне, особенно, на прощальном ужине, который организовали в гостинице на ул. Калинина. Запомнился его разговор с Б. Д. Котельниковым. Верник своими производственными вопросами, причем весьма корректными и всегда к месту, загнал тогда нашего Котельникова буквально в тупик.
Упомянув здесь имя Липатовой, я позвонил ей, чтобы уточнить написанное. Мы мило с ней поболтали и наговорили друг другу массу комплиментов. Оказалось, что первая встреча с ней состоялась в 1948 году в полуторамесячном, как мы установили, интервале между ее поступлением на секретарскую работу и уходом с завода Музрукова. Таким образом, я знаком с ней почти 55 лет. В приемной уралмашев-ских директоров она просидела четыре десятка лет. Не знаю, как для других, но для меня лично она была образцовейшим секретарем. Всегда пре дупредительна, в отличном настроении, женственна, со вкусом одета. Сплошная приятность от каждой с ней встречи. Не помню, чтобы хоть раз она не устроила мне внеочередную встречу с директором. А желания у меня такие появлялись довольно часто по совершенно простой сугубо утилитарной причине: чаще всего по необходимости получения директорской подписи на какой-нибудь срочной бумаге.
Впрочем, аналогичные доброжелательные отношения, больше всего по той же причине – быстрейшего продвижения почты и решения разных вопросов – у меня были и со вторым директорским секретарем Зинаидой Васильевной Вешкурцевой, а также с секретарями: главных инженеров – Людмилой Витальевной Бабаевой, коммерческих директоров – Валентиной Дмитриевной Скуратовой и начальников производственной службы – Галиной Михайловной Коротаевой. Может быть, не совсем без их содействия, особенно при новых назначениях, у меня были отличные взаимоотношения и со всеми их хозяевами.
10.08
«Матус, получил твое письмо от 14.07. Рад ему не меньше, чем ты моему, и по тем же основаниям: переписка либо сокращается из-за убытия корреспондентов в мир иной, либо из-за все увеличивающейся лености тех, кто пока, слава богу, пребывает во здравии. Например, с Третьяковым, по первой причине, с Гриншпуном, кажется, – по второй, поскольку он ссылается на глаза и прочие хвори. Однако же, несмотря на мои многократные просьбы кончать с работой, продолжает читать лекции. Последний раз написал, что, пребывая сейчас в отпуске, с нетерпением ждет 1-го сентября! Интересно, с каким нетерпением его ждут студенты?
Для полного представительства нужна не только светлая голова, которая, как Марк считает, у него есть, но и все остальное, чтобы не слеп был, не глух и не хром, да и морда была бы не в морщинах. Я недавно по просьбе клуба молодых уралмашевцев (это теперь вместо комсомола) выступал с презентацией своих книжек. Через несколько дней принесли снимки той встречи. Было стыдно смотреть на себя: мерзостная физиономия до невозможности. Тоже, наверное, сидели, слушали и думали: какой же древний он старик. Никак не полагаю, что от того состоялась речь моя более для них занимательной. Да, впрочем, и сами были таковыми же. Иногда восхищались нашими учителями… со скидкой на возраст.
Правда, Марк профессор-доктор, а профессора, говорил его покойный друг из ВНИИметмаша острослов и прагматик Вердеревский, умирают не отходя от кассы. (Химич мне как-то сказывал осторожнее: люди их круга так поступают, сидя за рабочим столом. А москвичи, видишь ли, – у кассы).
Теперь об интересном. Думал, что мы философствовать закончили, а ты мне подкидываешь статейку, да к тому же весьма любопытную, подтверждающую мои размышления на данную тему, но как бы совсем с другой стороны и даже вроде с неким теоретическим обоснованием. Весьма тебе благодарен. Думаю, что статья о мышлении появилась не так просто. Для меня она еще одно мощное доказательство единства мира и ограниченности набора более или менее добротных, не высосанных из пальца, идей.
На назначенную тобой тему я думал давно и кое-что по сему поводу отразил в моих книжках. Толчком же к подобным рассуждениям, похоже, послужили возникшие в памяти картинки из детства, связанные с шараханьем лошадей и коров от автомобиля и трактора. Эта боязнь большой скотиной грохочущего транспорта очень быстро исчезла, чуть ли не во втором ее поколении, без всякого на то видимого обучения молодняка своими родителями. Такие и другие случаи из обычной жизни привели меня к следующему интуитивному выводу, сформулированному мною и записанному года два назад.
«Интуиция не только постижение истины без логического обоснования, основанное на собственном опыте, чутье или проницательности конкретной личности. Нечто большее, – это дух природы, оплодотворяющий нашу мысль через информацию, накопленную и неким образом обработанную и приспособленную живой жизнью для указанного на нас воздействия. Мы буквально наполнены не только собственными знаниями и опытом, а, в неизмеримо большей степени, таковыми предшествующего нам живого мира. Как они попадают в наше сознание и как извлекаются – меня не интересует, достаточно факта тесноты идей и бесконечной их повторяемости. Лишь истинным открытиям суждено быть «первыми» с тем, чтобы, в конце концов, также подвергнуться неизбежному повторению. Я назвал этот процесс интуитивным финализмом, вытекающим из предопределенных природой целей и законов жизни».
Более, я пришел к выводу, конечно, не доказанному, но, на мой взгляд, вероятно верному, что не только живое от живого получает ин-формацию, но и сама исходная материя не могла не передать живому своих законов существования. Так что я вправе считать Нудельмана и других, им упомянутых, полными единомышленниками, подтвердившими еще раз мою позицию, к которой я пришел самостоятельно, руководствуясь только здравым смыслом и фактами жизни. Вколотить в сознание человека методом обучения столько, сколько он знает сегодня, без подготовки его еще в утробной (и предшествующей ей) жизни было бы невозможно. Житейская мудрость и из века в век повторяющаяся человеческая глупость обязаны, кажется, тому же закону природы.
Кстати, из конструкторской практики я установил, что нашим коллегам, да и нам самим, свойственны практически одни и те же недоработки и упущения в работе. После того как я написал «Памятку», в течение многих лет я встречаюсь с таковыми, мной в ней названными, практически в неизменяемом наборе, без какого-либо исключения».
11.08
Юрий Альфредович Муйземнек. Я знал его чуть не с первых дней своего появления на заводе в 1950 г., а через три года даже участвовал с ним в грандиозном 700-километровом лодочном походе от Талицы до Тобольска, организованном Павлом Андреевичем Мальковым под звонким лозунгом «Уралмаш – селу». Поход проходил по всем «правилам» проведения подобных мероприятий: с красным флагом на головной лодке, торжественными встречами с местными «аборигенами», чтением им лекций и помпезными проводами. Не помню точно, но думаю, что эта агитационная мишура была придумана Мальковым не без Муйзем-нека, ибо других, способных на подобное, в нашей команде не было.
Сложилась дальше судьба так, что мы с Юрой, несмотря на столь объединяющее совместное путешествие, да еще в молодые годы, практически всю жизнь поддерживали связь на уровне коридорных и трамвайных встреч, всегда для меня интересных, но не более. И лишь последние 3 – 4 года при относительной свободе от служебных занятий сошлись близко, стали общаться часто и, как мне хотелось бы сейчас себе представить, с взаимной удовлетворенностью.
Ю. А. был большущий юморист. Кажется, не оставлял вне своего внимания и соответствующей на то реакции ни одной необычной, неудачной или ошибочной подвижки своих визави. Обладал сильной памятью и мог с остроумием рассказать о событиях далекого прошлого, давно всеми забытых либо опущенных в силу слабой наблюдательности.
При нашей первой пенсионерской встрече он, вспомнив о том далеких лет походе и пребывая в своем амплуа, не преминул тут же рассказать байку, как я в наглаженных якобы брюках (купленных мною перед походом за десятку, вместе с такой же цены парусиновыми
штиблетами) подтягивал их кверху для сохранения складок на штанинах, и как на это реагировал (не менее остроумный) Г. Н. Краузе: «Посмотрите-ка на того пижона, как он там в своей лодке усаживается, будто в театральное кресло». Правда, мне не составило труда парировать Муйземнека и напомнить, как «пижон» каждое утро омывался нырянием в холодную воду, когда вся остальная братия совершала то же протиранием глаз пальцами своих грязных рук, а в воду залазила не ранее полудня при ярком солнышке.
Другой случай. Договорились мы как-то с ним поехать в лес за грибами. С его разрешения пригласил для компании Диму Балабанова, знавшего чуть не все окрестные грибные места и, кроме того, превосходно, как мне было давно известно по многим с ним походам, ориентировался в любом лесу без карт и компаса. Дима, после того как мы слезли с поезда и слегка углубились в лес, оказавшись на свободе, разошелся и чуть не каждую свою фразу, с восхищениями о природе, найденном грибе или ягоде, стал сопровождать весьма однообразными непечатными словами. Я попытался остановить поток его красноречия: «Такие слова, Дима, «хороши», когда к месту». Без толку. Дима продолжал в том же духе и с той же частотой. Со стороны Муйземнека, удивляюсь, – никакой реакции, хотя по всему о нем знаемому должна бы быть.
Остановились на привал. Солнце, пригорок, светлый лес, тишина. Отличное настроение. Достаем припасы. Дима же под впечатлением, видимо, своего еще с утра завода, вместо того, чтобы заняться «делом», начинает снова портить нам настроение, но теперь уже в другом духе.
– Утром, – с подробностями рассказывает нам, – слупил пару яиц, столько же котлет с добрым гарниром, еще чего-то – не помню, выпил кофейку. Есть не хочу.
– Ну, кто же так поступает, – говорю ему, – собрался в лес с компанией, знаешь, что будет остановка, костерок, чаек. А ты… – Тут, как бы продолжая за меня, без малейшего заметного перерыва, Муйземнек:
– И вообще, мать ты такой и этакий… – А далее еще несколько «слов» к тому самому месту, о котором я толмачил целое утро. После столь образного муйземнековского назидания Дима не произнес ни одного матерка за весь оставшийся наш поход.
Или. Принимаю я как-то у себя дома Муйземнека и еще одного Юру – Петрова. По какому случаю – не помню, да это и неважно. Сидим за столом и как обычно ведем разговор о прошедших временах, естественно, с перечислением разных фамилий. На последние у второго Юры феноменальная память. Причем почти без исключения, кто бы и кем бы не был назван, оказывается либо родственником Петрова, либо давним его, с детских, школьных или институтских лет, приятелем. На худой конец, хорошим знакомым или родственником близкого друга. Не отметить сего факта и не поддержать любую названную фамилию, обязательно добавив к ней еще имя и отчество, – он не может.
Сидим вот так, болтаем. Названы уже десятки фамилий. Вспоминаем все трое, но с одной особенностью: Юрины фамилии идут без комментариев об их известности, наши же – обязательно с таковыми в упомянутом выше духе. И вот наконец, после очередного эмоционального всплеска, только-только Юра собрался открыть рот для уведомления нас о своем еще одном давнем знакомстве с названным мною человеком, как, намеренно его упреждая, Муйземнек:
– Друзья, а ведь я Пал Палыча знал еще с пеленок…
До Петрова юмор не дошел. После муйземнековских подробностей о том, как близок был ему П. П. и как тот не раз качал его на своих могучих руках, Петров продолжал в прежнем духе. Оказалось, и он знал П. П., разве несколько позже. Ну не чудо ли Муйземнек, ведь надо же было прореагировать так своевременно, точно и без осечки! Сказать «к месту» – коронный его номер. Играл он безукоризненно, ожидая подходящего момента (как и в приведенных случаях) с терпением, достойным блестящего охотника. Стрелял лишь после того, как дичь была видна всем, дабы все присутствующие могли четко запечатлеть его меткий выстрел.
У меня нет данных для компетентной оценки его деловых качеств, но, судя по тому, что я знал, видел и слышал из разговоров с ним и о нем, Ю. А. и тут был вполне заведенным, неравнодушным к делу человеком, вечно чего-то пробивающим, доказывающим и предлагающим свои проекты. Занимался всем этим фактически до последних дней и, будучи уже больным, мотался по разным командировкам, а чуть не за месяц до смерти по его просьбе я организовывал ему встречу с моим братом Леонидом по вопросу разработки проекта какой-то дробилки. Кажется, это была последняя его идея. Он не выходил уже из дома, но на встречу явился вполне собранный, точно в назначенное время и с большой внутренней заинтересованностью доложил нам о сути проблемы, о своих предложениях по ее решению.
Удивительная человеческая одержимость! Я несколько раз ему звонил после, напрашивался зайти, но он каждый раз просил отложить встречу. Ни разу не жаловался, говорил лишь: «Вот чуть-чуть аклимаюсь и поговорим»… Встретились на могиле.
А вот что мне вспомнилось в связи с кончиной Л. Кузнецова.
Смерть всегда неожиданна, даже когда о ней думают и ее ждут. Смерть Кузнецова не могу воспринять и не только потому, что лишь несколько дней назад его видел и разговаривал с ним – неизменно веселым, здоровым и ни на что не жалующимся, – но и потому, что он как запечатлелся в моей молодой памяти здоровенным мужиком – атлетом, так всегда таковым для меня и оставался.
Помню его взлетающую над сеткой руку, мощно всаживающую мяч в середину вражеской площадки, что особенно бывало впечатлительно на фоне наших отдельских игроков и совсем уж до гротескности зрелищно, когда однажды вместе с ним в команде играли два ее «сильнейших» из тех доморощенных: Быков (это я) и Соколовский.
Помню, как он буквально избивал меня на одной из майских демонстраций. Столь же мощно, как мяч, отбрасывал мое бренное тело на полметра в сторону с разворотом разве не на 180 градусов так, что я мгновенно оказывался лицом к гогочущей во всю глотку толпе. И, заведомо зная уже после 2-го, 3-го отлета, что это может учинять только один Кузнецов, в силу своего врожденного долгодумия и копания в причинно-следственных связях, никак не мог увязать последние между собой, поскольку заставал его торчащим чуть не в третьем от себя ряду теснейшим образом сбитой массы людей. Это был отлично поставленный спектакль. И лишь после едва ли не 10-го полученного удара, встретившись наконец с его смеющимися глазами, я осознал окончательно, кто же меня так долго и сильно лупил на посмешище всего честного народа.
Помню, как во время нашего переезда на новую квартиру он вместе со Стасом Карлинским, помощь которого была весьма сомнительной, в один присест затащил на третий этаж пианино, ободрав, правда, при сем все у него углы и все стены в подъезде.
Удивительный был человек. Постоянно излучал доброту и любовь, насыщая вас тем же. Вечно носился с какими-то свинтопрульными идеями: то несколько лет как автоматизировать смену клейм в клеймителе; то как устроить кулачковый привод шагания балок; то как сочинить новую более совершенную систему смазки или гидропривода. Думал сам, заставлял думать вас, и при этом действительно получалось что-то путное. Сердиться на него было невозможно, любое замечание он воспринимал настолько уважительно, сопровождал его такими умилительными дифирамбами в адрес критикующего, что тут же вызывал не возмущение, а некое даже ваше умиление. До конца дней своих сохранял, мало кому свойственную в зрелом возрасте, способность видеть мир детскими глазами. Только за одно это Кузнецова нельзя было не любить. И, кажется, так относились к нему все, кто его знал, без какого-либо исключения. Вечная ему память.
12.08
Вчера упомянул еще одну фамилию – Балабанова. Надо о нем кое-что сказать дополнительно.
С Димой я никогда непосредственно по работе связан не был, но из разных источников знал, что он слыл тяжелым человеком, весьма не в меру настырным, очень резко отзывался о всех своих начальниках, да и многих других, постоянно пребывал в каких-то непонятных конфликтных ситуациях, и потому, или по своим собственным желаниям (это я установить так и не смог), вечно отрабатывал где-либо на стороне: на посевных и уборочных, на сенокосах, на разных стройках и даже на борьбе с лесными пожарами.
Мы с ним близко сошлись по причине любви к местным, под субботу или воскресенье, лесным походам. В них он был отличный для меня компаньон и по своим знаниям ближайшей округи, и по всему остальному, что связано с таким времяпровождением. Мы ходили обычно только вдвоем, и похоже, ему это также нравилось. Вероятно, в силу моего лояльного отношения ко всяким человеческим недостаткам и отсюда объективной оценки людей. Кроме того, импонировало ему мое всегдашнее естественное, как говорят от души и сердца, восхищение чужими способностями людей что-либо делать лучше, чем я сам.
В части походов, он отличался: способностью свободно и безошибочно ориентироваться, причем даже там, где он до этого не бывал; найти удобную и красивую стоянку для ночевки с водой и готовыми дровами; умело и быстро в любую погоду разжечь костер; нарезать мягкого, густого лапника и устроить постель; выйти на будто ему давно известное ягодное или грибное место; наконец, просто рассказать что-нибудь для тебя новое, или давно забытое, из мира природы и лесной жизни.
Мы исползали с ним северные окрестности Уралмаша в округе 50-ти километров вдоль и поперек (однажды даже на лыжах) либо вдоль дорог, либо поперек их: например, с железной дороги на шоссейку или с одной из них на другую. Но особо запомнился один с ним необычный, специально нами для хохмы разыгранный поход, причем в другой стороне Свердловска.
Лет двадцать назад ноябрьской осенью с пятницы на субботу мы организовали экскурсию на Михайловский завод посмотреть там новый фольгопрокатный стан. С Димой заранее договорились: ничего никому не говоря, на обратной дороге, оторваться от компании и отправиться в лес. Так и сделали. Отъехав от Михайловска километров 15 (на карте там была маленькая речушка), под известным предлогом, всеми тут же поддержанным, остановили автобус. Когда все сбегали по нужде и стали рассаживаться по своим местам, последним залезавшим мы открылись и попросили передать остальным, что остаемся и дальше будем добираться самостоятельно. Наше заявление было принято за шутку и потому долго нас уговаривали, удивляясь нашему упорному розыгрышу их. Даже сделали попытку, в порядке поддержания нас и себя в таковой игре, сколько-то отъехать и вновь остановиться. И только окончательно убедившись в том, что мы не шутим, завелись, махнули нам и тронулись в путь. Какие там у них были дальше пересуды, не знаю, но какими-то впечатлениями по поводу нашего сумасбродства наверняка по дороге между собой обменялись.
Мы же с Димкой дождались, когда автобус наконец скрылся за поворотом, быстро скатились с горки и метров через 300 – 400 действительно выскочили на маленькую речушку, прошли еще столько же вдоль нее, нашли подходящее местечко и разожгли огромный кострище. С величайшим удовольствием поужинали, попили чайку, вдоволь насиделись у костра и наговорились, вспоминая все, что можно по таким случаям вспомнить, в том числе розыгрыш и представленную нами в лицах реакцию на него наших попутчиков. Затем, как обычно, нарвали лапника, разгребли костер, улеглись на нем и, глядя на ночные звезды, еще сколько-то, уже умиротворенно, помечтали вслух о прелестях и смысле жизни, прежде чем крепко заснуть.
Понятно, что назавтра у остывшего кострища, покрывшейся береговым ледком речушки и в осознании, что предстоит еще целый день добираться до дома, мы встретили утро со значительно меньшей веселостью. И точно, на Уралмаш мы приехали уже поздним вечером, но, надо признаться, только потому, что и здесь решили узнать еще что-нибудь дополнительное о здешних местах. Не сели на попутный автобус, а прошагали пешком десяток километров до местного трудового поезда, на нем доехали до большой дороги и только потом, уже на электричке, до Свердловска.
Нет, я не только весело работал, но и весело и нестандартно жил, и если бы дана была еще одна жизнь, то провел, кажется, ее точно так же, не поменяв в ней ни одного дня. А вот Балабанов сдал не то от старости, не то от чего-то другого. Звоню ему.
– Дима, давно с тобой в лес не бегали, может, сходим, разведем костерок? – Нет, – говорит, – не могу, один дома.
– Так это же отлично (он иногда сидит дома с маленькой внучкой), вот и пойдем. – Нет. Не могу… оставить квартиру.
– Как не можешь? – Так обворуют ведь!
– Ты чего, с ума сошел? – Обворуют…
Другой раз:
– Дима, давай завтра за грибами. – Одни? Вдвоем не пойду.
– Как не пойдешь, почему? – А вдруг что-нибудь случится…
– Ты чего, рехнулся? – Нет, вот втроем еще бы пошел. – И т. д.
Что за заскок такой у человека, – думаю каждый раз, – откуда он у него? Ведь явно ему не свойственное поведение. С другой стороны, а не оттого ли вечного у него болезненного недовольства, почти нетерпимости ко многим знакомым нам людям по причинам, в большинстве своем, мне не понятным? Не есть ли теперь оно от уже чисто старческого проявления еще одной его странности?
05.09
«Марк, дорогой! Получил и с большим наслаждением (несколько раз) прочитал твое последнее весьма содержательное и жизнерадостно-ностальгическое письмо.
Начинаю с приведенных тобою фамилий.
Ряд твоих фамилий с точки зрения деловых качеств, особо на фоне Целикова, Химича, Верника, Краузе, Манкевича, Штина, Ан-фимова (у которого, более позднего для меня, было и много мною неприемлемого), Муйземнека (он на днях умер), Карапетяна, Са-товского, Цалюка (не упомянутого тобой), Павлова, Соловейчика, Бай-бузенко, Поносова и Кравченко, не могу воспринять настолько, чтобы они на меня производили особое впечатление или, как я часто говорю, у гроба которых хотелось бы сказать что-то, кроме перечисления дат, должностей и участия во многих работах.
Исключение Соколовский. Он действительно многим не нравился и, вероятно, было за что. Но для меня самые лучшие качества в человеке, мне импонирующие, – это качества, какими я не владею совсем или слабо сам. И вообще я старался всегда видеть в людях больше всякие плюсы. Минусы я игнорировал и, руководствуясь монтеньевскими взглядами, относил их к папе и маме интересующего меня индивидуума. Так вот с учетом последнего, Соколовский для меня выдающаяся (опять, безусловно, в том же оценочном масштабе) личность. Он был «свинтопрули-стом», огромным катализатором идей (полезных, вредных, никчемных), но идей, из которых можно было выбирать, которые можно было развивать, сортировать и т. д., что намного проще, чем придумывать революционно новое. Не говорю о нем как о рыболове, охотнике, рассказчике разных баек. Ну, а человеческие слабости, недостатки, кроме родителей, очень часто от среды, от воспитания, – так у кого их нет, разве лишь в меньшей степени, а порой и умеючи скрываемых?
Зворыкина я почти не помню. Если не путаю, последний раз имел честь встречаться с ним на Краузинском 60-летии в Колпино, но всегда воспринимал его как неординарную личность. Зато М. И. Калашникову знаю как облупленную. Интересная, достаточно сумасбродная баба, к которой я питал всегда определенную симпатию, но как к бабе – не больше. Вот один характерный случай длиной в десяток лет моей с ней борьбы. У нас на станах километры трубопроводов. Когда-то на заре ее становления было придумано чистить и травить трубы в шестиметровых кусках, а потом соединять их при помощи фланцев. На каждый монтаж мы привозили их до двух вагонов, а там, по просьбе Заказчика, трубы варили встык, обработанные же, с просверленными под болты дырами, фланцы использовали… в качестве установочных прокладок под оборудование. Естественно, при этом ничего нами не предусматривалось, чтобы надлежащим образом качественно сваривать трубы встык. Мои просьбы к М. И. (как только я стал ее прямым начальником) перейти на требуемую Заказчиками технологию монтажа трубопроводов оказались безуспешными, несмотря ни на какие разумные, даже издевательские доводы, вроде: «Ну, поезжайте тогда на объект и прикажите, обяжите, уговорите их сделать так, как Вам надо». Химич отказался мне помочь, дабы не портить с ней отношений. Пришлось приказывать… но уже после ухода с завода Химича. И так чуть не во всем. Споры и споры. Аргументы с ее стороны чисто бабские. Но, должен признаться, по прошествии многих лет, несмотря на заявление о своем увольнении, ею брошенное мне на стол не без очередного завода, взаимная симпатия, мне кажется, у нас сохранилась до сего дня. Личность!
Белых, твой приятель, отличный, может, мужик. И воевал, и что-то сделал как инженер проекта, но вот под давлением обстоятельств написал с одобрения Химича никчемную и безграмотную по делу диссертацию. К слову, одно из того, что позволило мне сказать про Химича, как «жука», ибо это было нужно ему только в рамках поддержания своего академического амплуа; второе, в части «жука», вытекает прямо из приведенной его характеристики в предыдущем письме. Так вот, возвращаюсь к Белыху. Защитился он, а затем вместе с тем же Химичем до конца своей работы писал за казенный счет статьи по надежности, ничего общего не имеющие с реальным процессом ее обеспечения по делу. В этом плане, такие, как он, и вносили, начиная с 70-ых годов, свою «скромную» лепту в общий котел бессмысленной работы, разваливающей социализм. Как ты думаешь, воодушевляла ли она молодых, занимавшихся нужным делом? Кстати, ему по получении твоего послания звонил и передал привет. Он тебе передал тоже и сказал, что недавно послал письмо.
Остальные, тобой упомянутые (Румако, Брянцев, Храмцов и др.) неплохие все люди, есть про каждого и что вспомнить, но все же, согласись, без особого душевного энтузиазма, хотя, может, и тут не без нашего порой некоего внутреннего настроя.
А вот Верник, которого я знаю только по первому году своей работы и последующим кратковременным встречам, вроде тех юбилейных дней, когда мы имели честь принимать тебя с ним у нас в отделе, всегда производил на меня очень глубокое впечатление. Причем с самого первого почти полузаочного с ним знакомства, когда я его впервые, еще будучи студентом, случайно увидел в приемной директора завода. Потому был бы тебе весьма признателен за одну-две о нем странички добрых, достойных памяти строк, дабы их вставить в свой труд. Пиши, всегда рад твоему слову».
22.10
Сегодня исполнилось бы 50 лет нашему старшему сыну Александру. Он ушел из жизни по собственной воле летом 92 года, доставив за свою жизнь нам с женой и всем нашим родственникам массу радостей и удовольствий и ровно столько же печалей и горестей. Безупречные детские и школьные годы, блестящее окончание школы и такое же поступление в институт, более чем успешное обучение на первых его двух курсах, интересная служба в армии с добрыми оттуда письмами домой, поступление в вечерний институт и одновременно в конструкторский отдел с последующими своевременным окончанием института и быстрым продвижением по службе. При всем этом отличные природные способности к знаниям и труду и мое им периодическое восхищение и отцовская за него гордость. А рядом, в промежутках, при отвратительных моих при этом с ним отношениях, подростковые вывихи в 9-м и в 10-м классах (кроме последней четверти года), исключение из института за хулиганство, вынужденное поступление на работу в ожидании скорого призыва в армию, непонятная за неделю до этого скоропалительная женитьба, развод после армии и работа таксистом, снова женитьба, приятельские драки, судимость, еще одна женитьба, периодические попойки, связи с какими-то подонками … и конец.
Живое подтверждение моей простоты жизни в целом и чрезвычайной ее сложности в частностях. Мог ли представить, что наш первенец, в котором я признал полную копию себя не в какие-то там пять или десять лет, а в самый чуть не первый день его появления на свет, так, с такими многочисленными зигзагами, пройдет по жизни и так ее закончит?





