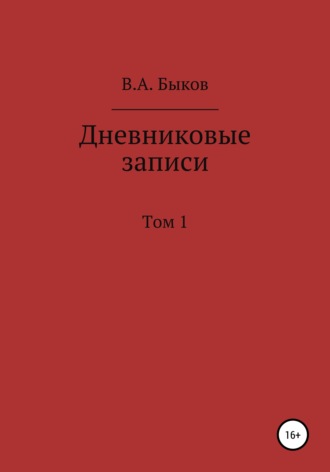
Владимир Александрович Быков
Дневниковые записи. Том 1
1951 год. Сентябрь месяц. В 7 часов вечера после рабочего дня мы грузимся в кузова нескольких грузовиков, и нас везут в район Белоярки на уборку картофеля. Устраивают часов в 11 на ночевку. Работаем полный день, возвращаемся домой снова ночью, и на третий день утром, как положено к 8 часам, выходим на работу. Я исключение: один из всех прихожу на нее с 5-минутным опозданием, а потому, по нормам и правилам тех лет, тут же вызываюсь на ковер и предстаю перед четырехугольником отдела во главе с Борисом Гавриловичем. Начинается обычная проработка: «Как это такой молодой и прочее, допустил столь недостойный проступок?». Веду себя абсолютно не конструктивно: придумывать «объективные» причины не умею и потому молчу. «Угол» не выдерживает, и кто-то из менее терпеливых начинает мне помогать.
– А может, – произносит один, – они поздно вчера вернулись из Белоярки?
– Конечно же, – подхватывает другой, – приехали в 12-м ночи.
И тут вступает в разговор Главный.
– Владимир Александрович, ну как так можно, почему Вы молчите? Уехали позавчера вечером, вероятно, не спали ночь, целый день работали в поле, вернулись ночью… А мы Вас прорабатываем. Люди самоотверженно трудились… – это он уже к своим коллегам, – а им устроили проработку… Как, товарищи, поступим?… Полагаю, дело надо закрыть и признать недопустимость подобных данному случаю разбирательств в дальнейшем…
Через некоторое время состоится научно-техническая молодежная конференция. Предлагают выступить на ней с сообщением об одном моем проекте. Доклады попадают предварительно на просмотр к Павлову. При коридорной встрече со мной останавливается и спрашивает с неизменной своей вежливостью:
– Владимир Александрович, я ознакомился с Вашим докладом. Это Вы сами написали или Вам кто-нибудь помогал?
На мой явно недоуменный взгляд, говорящий без слов о безусловной недопустимости для меня такого варианта, последовало:
– Превосходно. Я только так и представлял.
В поведенческом плане Павлов был непревзойденным руководителем. Всегда безупречно одет: в наглаженном костюме, свежайшей сорочке и блестящих черных штиблетах. Предупредителен, вежлив чуть не в любой момент и чуть не всем (по крайней мере, так всем представлялось) доступен для встречи и разговора.
Он не работал, а красиво руководил отделом, и потому работа остальных как будто делалась сама собой без видимого вмешательства Главного. От него требовалось только одно – его при ней артистически-художническое представительство. Исполнял он последнее (включая сюда, на столь же высочайшем уровне сделанные, все свои публичные выступления) играючи легко и просто. Любили его все, но особенно женщины, до которых он был охоч в неменьшей степени и сам. Похоже, секретарь имела даже приказ пропускать к нему в кабинет просителей дамского пола в любой на то подходящий момент. Слово «занят» было редким исключением. Так всеми и воспринималось.
Превосходно выглядел Павлов на ноябрьских демонстрациях, когда порой было уже весьма морозно. Он во главе отдельской (позднее ниитяжмашевской) колонны. Легкий пружинистый шаг, элегантное полудемисезонное пальто, шапка с поднятыми ушами, розовощек, как будто только из бани. Остряки пошучивали: «Да, у него против тебя, с синим носом, в два раза быстрее течет кровь, а под костюмом две пары белья из тончайшей 100-процентной шерсти. Вот и весь секрет».
А теперь скажите, как после подобной чуткости и внимательности можно было относиться к этому человеку, моему первому Главному конструктору, с которым мне довелось общаться не только на работе, но и вне служебной обстановки, – совместно на условиях самстроя возводить в конце 50-х годов гараж для своих личных автомобилей, бывать в общих командировках и даже не раз участвовать в ресторанных пирушках.
В те далекие годы решение массы вопросов замыкалось в московских правительственных организациях, потому командировочные встречи уралмашевцев в Москве были почти постоянным явлением и, когда собиралось пять-шесть человек, не пойти на ужин в какое-нибудь заведение было просто грешным делом.
Тут Павлов был не заменим. Конкурировать с ним мог разве только еще Краузе. И потому я, для полноты впечатлений от подобных встреч, опишу одну из них в ресторане гостиницы «Москва».
Начинал такое застолье всегда Борис Гаврилович, ему же предоставлялось право сделать общий заказ, что исполнял он безупречным образом, как бы и никого не спрашивая о вкусах и желаниях и в то же время полностью их удовлетворяя.
Прежде всего, им представлялась официанту (естественно, в подобных случаях мгновенно появляющемуся у стола, а то еще и до) наша компания. В зависимости от состава – либо как собрание выдающихся (на худой конец, просто ведущих) конструкторов, либо таких
же инженеров, а иногда объявлялся и подходящий на то повод посещения их. В тот вечер таким поводом послужило недавнее присуждение звания лауреата Ленинской премии Леониду Александровичу Ефимову, который был представлен обществу со всеми возможными эпитетами в его и наш, ближайших коллег, адрес.
Далее следовал заправского завсегдатая заказ.
– Нам для начала бутылочку столичной, закусочки на Ваше усмотрение, водички, а далее по обстановке. Одна просьба: проверьте, пожалуйста, есть ли на вашей кухне сегодня свежий судачок?.. И еще, – все на должном уровне и с учетом наших скромных инженерных возможностей.
– Борис Гаврилович, как можно? – вмешивается Краузе. – На такую компанию и по такому событию? Давайте, – уже к официанту, – сразу хотя бы три.
Павлов реагирует на эту не очень вежливую для него реплику мгновенно.
– Разумнейшее предложение. Запишите в заказ, как просит наш уважаемый Геннадий Николаевич, но начнем с одной: не будем торопить события, нам есть о чем поговорить.
Почти немедленно на столе появляется водка и бутылки с водой, сервируется стол, а через пять минут приносится закуска в ожидаемом, лично мною, ассортименте и оформлении и, похоже, в полном соответствии с павловским при заказе условием насчет кармана.
Первый тост за Павловым. К его обычному: «За случайную приятную встречу, за здоровье присутствующих, за наш родной завод, предоставляющий нам возможность проведения подобных «мероприятий», добавляются еще и теплые слова в адрес главного виновника торжества, отмечается его творческий потенциал, огромный вклад в современное прессостроение и все остальное в том же эпохальном духе.
Начинается застольный разговор, сначала спокойно-взвешенный, затем все ускоряющийся и все более эмоциональный и почти уже без пауз, а даже чуть ли не в очередь, о всяких интересных случаях, производственных и житейских, о людях, пересыпаемый анекдотами и рассказами о смешных и каверзных историях, которых, казалось, у каждого было на памяти бесчисленное множество.
Вспомнили и кое-что о самом Павлове. Краузе поведал нам, как Павлов, будучи ответственным представителем завода на монтаже первого отечественного рельсобалочного стана на Нижнетагильском меткомбинате, нашел выход из одного затруднительного положения.
– Для доставки рельсовых проб, – рассказывал Краузе, – был предусмотрен 10-метровый так называемый гравитационный (установленный с небольшим уклоном) рольганг, по которому эта длиной 1300 мм проба должна была катиться сама собой. Положили пробу на рольганг, а она не катится. Начались соответствующие «издевательские» реплики в наш адрес… Борис Гаврилович подходит к пробе, берет ее своей холеной рукой, с выступающим из-под рукава пиджака обшлагом, как всегда белоснежной рубахи и со словами: «А кто Вам сказал, что она должна перемещаться сама?», медленно вышагивая вдоль рольганга, плавно подкатывает пробу к копру. Одобрительный хохот. Рольганг к общему удовольствию принимается в эксплуатацию без каких-либо замечаний.
Смеемся и мы.
Я, в ответ на чью-то брошенную фразу об одном блестящем выступлении Павлова, рассказал аналогичный случай, связанный с его, столь же блестящим, докладом на совещании по рассмотрению планов новой техники институтов и заводов Минтяжмаша, которое состоялось тогда на Новокраматорском заводе.
– Вызывает меня Борис Гаврилович и просит подготовить ему сводный по институту доклад к названному выше выступлению. Добавляет при этом, что необходимые для того материалы по отдельным институтским службам будут мне доставлены. Свел я все полученное в один документ и в назначенный срок понес показать свое творение Борису Гавриловичу. Он мне: «Оставьте его пока у себя. Завтра полетим и в самолете посмотрим».
– В самолете, по моему напоминанию, он вновь уходит и предлагает посмотреть потом, в гостинице. Прилетели, устроились, я опять к нему, и вновь с тем же результатом: «Потом». Я завожусь и решаю больше к нему со своими «заботами» не лезть. На следующий день приходим на пленарное заседание. Первым, объявляется, выступает Целиков, вторым Павлов. Он спокойно слушает доклад Целикова и только где-то в середине его наконец просит меня показать ему мои материалы. Не успев даже кое-как их перелистать, поднимается на трибуну и в абсолютной тишине, в точно оговоренное время и ничего не перепутав и не наврав, заканчивает свое выступление. По залу прокатывается гул одобрения. Слышу рядом: «Вот кому надо бы выступать с пленарным докладом!».
– Борис Гаврилович, – пользуясь застольной свободой, спрашиваю его я, – откройте секрет, чего в этой истории было больше: Вашего желания проверить мою исполнительность и ответственность или демонстрации собственных экспромтных способностей?».
Павлов улыбается и оставляет мой вопрос без ответа. Появляется официант и шепчет ему, что судак свежайший, чуть не только пойманный. Борис Гаврилович с всеобщего согласия заказывает изготовить его на сковородочках… под сметанным соусом. И, с очаровывающей своей вежливой предупредительностью, просит принести все сразу по готовности…
Разговоры продолжаются. Судак оказывается наивкуснейший, в полном соответствии с нашими ожиданиями.
Время 11 часов. Расставаться не хочется. Идем, по предложению Ефимова, страстного картежника, к нему в номер сыграть партию в преферанс. Нас пять человек, потому бросаем жребий, кому быть… «половым». Половым выпадает стать главному инициатору предложения. Он явно расстроен, сочувствую и через 10 минут уступаю ему свое место за столом, а сам занимаю его. Через некоторое время, в предвкушении очередных давно мне известных павловских миниатюр, незаметно сообщаю Борису Гавриловичу, что все готово. Он бросает взгляд на стоящий у окна письменный стол и произносит своим хорошо поставленным голосом: «Вы посмотрите, что нам подготовили… Перерыв. Господа! К буфету». Подходим к столу, и пока наполняются рюмки, Павлов успевает доставить всем удовольствие еще одной своей коронной фразой: «Как это там у них?». И, одновременно артистически проводя указательным пальцем правой руки между шеей и внутренней стороной воротничка рубашки, вкладывает в нее всеми угадываемый двойной смысл: «Хорошо у них, однако и у нас совсем, совсем не плохо»… Леонид Александрович доволен, довольны все остальные. Расходимся в 2 часа ночи. Кто говорит, что в те советские времена люди знали только работу? Веселились, да еще как!
Однако человек слаб. Были и в биографии Павлова случаи, которые, казалось, никак не соответствовали его общепризнанному образу.
Строили мы упомянутые гаражи. Было принято решение за каждый пропущенный рабочий час штрафовать провинившегося на 10 рублей. Борис Гаврилович настолько «пропустил», что его штраф вылился в сумму 1500 рублей, которые и были причислены к стоимости гаража (правда, мизерной по тем временам и равной чуть ли не тем же 1500 рублям). Однако это последнее обстоятельство как раз, видимо, и произвело на него особо сильное впечатление: платить в два раза больше! Когда таковое было ему предъявлено, он буквально взвился.
– Как это так можно? Я добился разрешения на строительство в удобном месте, договорился о подводе к гаражам тепла и электричества… и у вас хватает совести предъявлять мне штраф? – И что-то еще в столь же скандальном виде, совершенно ему не свойственном. Кооператорщики тоже завелись, и штраф с него содрали, ссылаясь на имевшую место договоренность и якобы даже неоднократные ему о том напоминания. Правда, через некоторое время, при следующей встрече, он мне сказал:
– Я, кажется, прошлый раз наговорил лишнего?
– Не расстраивайтесь, никто не придал тому особого внимания, – ответил я, – мало ли чего случается в жизни?
Тем не менее нечто похожее с ним случилось еще раз.
Как-то нас послали на субботник по очистке заводской территории от всякого рода металлохлама. Каково же было мое удивление, когда я среди этого «хлама», подлежащего, как нам сказали, отправке на лом и последующую переплавку, увидел под открытым небом заказанный для одного из временно замороженных объектов новенький прави́льный пресс со всей его комплектацией, включая электродвигатель и все прочее. Я настолько возмутился, что тут же позвонил кому-то из высшего заводского начальства. Через полчаса появился Павлов и с ходу, ни о чем не спросив, буквально отчитал меня за проявленную самостоятельность, за то, что я лезу не в свои дела. Я вытаращил от удивления глаза и ничего ему, помнится, не сказал. Лишь подумал: «Неужели он оттого, что я позвонил прямо «наверх», минуя его?». На сей раз Павлов передо мной так и не извинился, хотя должен был знать, что тому прессу я нашел покупателя и он был отгружен, а не отправлен в металлолом. Слаб человек. Даже такой, как мной любимый Борис Гаврилович Павлов.
05.07
Александр Петрович Липатов был в чем-то похож на Павлова. Одинакового среднего роста, оба полноватой комплекции, с всегда цветущими лицами, большие эрудиты, настроенные на постоянную устойчивую волну быть приятными и доставлять удовольствие своему окружению и, прежде всего, особам женского пола. Однако Павлов, как говорят, был себе на уме, а потому по жизни достаточно много, хотя и очень красиво, играл. Липатов же воплощение полной открытости, порядочности и других благородных человеческих качеств, данных ему от природы. Вот уж истинно, мне представлялось, он за всю свою жизнь не обидел ни одно живое существо. Не от душевной ли доброты его хобби было сочинение стихов и плетение корзин? И не потому ли его первоклассные юбилейные стихи хранятся, вероятно, у доброй половины наших конструкторов, а многие, из числа им особо чтимых, помнят и его корзинки?
Одно время Александр Петрович из-за семейных неурядиц попивал несколько больше нормы и довольно часто после разного рода торжественных «собраний», на которые он был приглашаем почти без исключений, оставался у кого-нибудь ночевать. Пригласить и затащить его на ночь в свой дом отбоя не было. Не только из-за себя, но еще больше из-за своих домашних и, прежде всего, женщин. Думаю, что с такой приятностью, чуть не благодарностью, не принимался в домах ни один гость, да еще в поздний час, и в некотором
даже подпитии. Липатов, не успев переступить порог, начинал с всевозможнейших дифирамбов и дому, и хозяйкам, каждой персонально вне зависимости от ее возраста. То же – за вечерним чаем и утренним завтраком. Назавтра обо всем этом рассказывалось, и появлялись очередные желающие, при случае, затащить его к себе.
В работе он напоминал Павлова. Работа делалась у него также сама собой без видимого напряжения, но при большом желании его младших коллег. Помню, как по этому свойству его натуры мы с ним оскандалились. Он тогда был инженер проекта толстолистового стана, а я для него проектировал листоправильную машину. Сделали мы машину, изготовили ее, и я повел в сборочный цех Химича показать свое детище. Пришли, посмотрели. Химич меня поблагодарил и между прочим как бы заметил: «Машина-то у Вас… зеркального изображения, т. е. вместо правой – левая». Ошибка, конечно, грубейшая. И для меня, как прямого разработчика, и еще больше, непростительно больше, – для Липатова, инженера проекта стана. Однако вылезли мы из неприятного положения просто из-за моей, бзиковой уже тогда, страсти к максимальной симметричности всех своих сооружений. Моя левая отличалась от правой лишь одной заводской маркой – эмблемой: она у нас согласно отведенному машине месту на генплане оказалась с задней ее стороны. Для того чтобы марку перенести на нужную сторону, пришлось дополнительно просверлить 4 отверстия. Машина стала абсолютно симметричной. Хочешь – ставь ее в правый поток, хочешь – в левый.
Однако в каждом деле кроме прямых последствий есть косвенные. В данном случае плюсы последних много превышали минусы первых. Я получил превосходное подтверждение огромной целесообразности устремлений к симметричным формам, их явного преимущества (не только по упомянутой причине, а и по еще более значимым другим) в сравнении с асимметричными решениями. Естественно, в дальнейшем при обращении кого-нибудь в свою «веру» я не раз рассказывал об этом внешне впечатляющем копеечном выходе из той глупейшей ситуации. А для усиления непременно старался добавить: «И только благодаря практически полной симметричности нашей конструкции!». Не забывал и упомянуть Липатова, а при подходящем случае еще и рассказать про него какую-нибудь байку. Одна из них.
Года за два до выше приведенного случая, нас, нескольких молодых конструкторов, пригласили на заводской Совет по рассмотрению технического проекта того стана, о котором речь шла выше. Работали тогда, в 50-е годы, много, и подобные Советы, которые вел обычно главный инженер завода С. И. Самойлов, проходили в вечернее время. За полчаса примерно до его начала, во время отсутствия хозяина, под руководством Липатова развесили необходимые ему для доклада чертежи: все новенькие, исполненные тушью на полотняной кальке, и только один из них, гипромезовский генплан стана, представлен был в виде синекопии, причем достаточно уже потрепанной и замусоленной. Собралось конструкторское начальство и члены Совета. Расселись. У чертежей только Павлов и Липатов. Ровно в 8 часов появляется Сергей Иванович, бросает взгляд на чертежи, видит мутную синекопию генплана и, повернувшись к Павлову и Липатову, своим крикливым писклявым голосом учиняет им форменный разнос.
– Сколько раз я просил и Вы мне обещали представлять чертежи только в кальках, а здесь опять что? Что это за подтирочная бумажка? Ее как, прикажете, членам Совета в бинокли рассматривать? Вы-то сами на ней слепой хоть что-нибудь узреть в состоянии?
И далее в том же вопросном духе, без пауз. Павлов и Липатов перед ним без хотя бы мало-мальски заметной на их лицах реакции, без тени смущения, как будто так, чуть не с мата, только и должен начинаться любой Совет. Наконец Самойлов выдыхается.
Вступает Павлов и в своей театральной манере, спокойно, как будто до этого и не было никакого начальнического крика, произносит.
– Сергей Иванович, ваше указание принято и неукоснительно нами выполняется. Вы видите, что все наши чертежи представлены в кальках.
Показывает рукой на висящие кальки и делает небольшую паузу, которую моментально заполняет, будто по заранее имевшей место договоренности, Липатов.
– Здесь только одна синекопия гипромезовского генплана, но она больше для меня – докладчика – и членам Совета, как Вы дальше увидите, не потребуется.
Самойлов заводится снова, но уже более спокойно:
– Чего же Вы тогда молчали? У нас что, есть лишнее время?
Павлов делает попытку возразить: он, дескать, никак не мог прореагировать раньше по независящим от него обстоятельствам, но Самойлов его прерывает:
– Ладно. Прошу меня извинить. – Садится в кресло и продолжает: – Начнем. Нам нужно рассмотреть технический проект… Докладчик А. П. Липатов.
– Сколько Вам надо?
– 30 минут.
– Постарайтесь сократиться на 5 минут, что мы тут бездарно потеряли.
А дальше тот же спектакль, но уже совсем другого плана. Игра Самойлова в нем восхитительна, завораживает всех участников. Он безупречно корректен, вопросы точны и уместны, ни одного для формы. Во всех его репликах чувствуется незаурядный ум, знания, опыт, умение схватить главное. Заключительная речь впечатляюще хороша: без воды, без общих фраз, коими обычно заполняются подобного характера выступления начальнических лиц. Только по сути проекта и его месте в планах завода, министерства, страны с вполне конкретными и весьма обоснованными предложениями конструкторам и другим службам завода в части стоящих перед ними задач по его ускоренной и качественной реализации.
Поучительно, что многое из отмеченного, как потом устанавливалось участниками Совета, вполне отвечало или соответствовало их пониманию проблем и действительно требовало дополнительного акцентирования на них внимания на уровне Главного инженера, но было и такое, что не представлялось и не мыслилось даже главным исполнителям проекта.
Именно на данном Cовете, если мне не изменяет память, Сергей Иванович, обратив внимание присутствующих на изготовление заводом в ближайшее время большого количества прокатных станов, перечислил для убедительности все объекты и предложил подумать над созданием в цехе крупных узлов специализированного участка для обработки их станин и других, подобных им крупных деталей. Дабы станину, пояснил он, не таскать от станка к станку и не выверять там ее сутками, а, наоборот, установив раз на участке, обработать всю за один, как говорят, заход да еще и с совмещением отдельных операций. Этот участок был срочно создан, и через какие-нибудь полгода в цехе 29 можно было увидеть, как огромная первая станина обрабатывалась одновременно со всех четырех сторон. Во столько раз, если не больше, был сокращен и общий цикл изготовления.
И если зашла речь о Самойлове, то не могу не отметить, что с его именем связан период самого значимого роста завода и его возможностей. Новые объекты, новые технологии, новые процессы на самом заводе. Высокочастотная закалка деталей и другие способы их поверхностного упрочнения, электрошлаковая сварка, бесчисленные мероприятия по снижению трудоемкости изготовления оборудования, крупномасштабный переход с литья на сварные и сварнолитые конструкции, агрегатная обработка и поточные линии для наиболее массовых узлов – все это внедрялось тогда, в годы главного инженерства Самойлова.
Самобытный, одержимый, преданный делу и только делу человек! Таким он оставался и после ухода с завода на преподавательскую работу в УПИ. Помню, как однажды, уже на склоне его лет, случайно встретившись в коридоре заводоуправления, я задал ему стандартно-вежливый вопрос о здоровье и жизни.
– Не жалуюсь, – ответил он мне. – Но, Вы знаете, по моим годам, кажется, живу не очень спокойно: все время ловлю себя на осмысливании каких-то идей.
В нем оставался дух прежнего постоянно ищущего человека, дух бывшего, самого лучшего из всех на нашем заводе главных инженеров. Да пусть не обидятся на меня другие, что также достойны нашей памяти.
И вот по прошествии тех лет, когда в какой-либо компании заходил разговор о нашем заводе, его работе, о нам в ней чем-то нежелательном, я придумал задавать один вопрос. А не с уходом ли двух людей: С. И. Самойлова и Г. Н. Краузе (о котором я еще не раз вспомню) – Завод постепенно стал сдавать свои позиции? Конечно, я понимал всю ограниченность такой трактовки проблемы, ибо начала сдавать свои позиции вся страна, но что-то в нем, этом вопросе, было от действительного. Ведь точно так же, может по другим лишь причинам, стали уходить подобные им люди – представители первой волны соцстроительства – и в других местах.
26.09
Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения физиолога Ивана Петровича Павлова, который состоявшими на службе прагматика «всех времен и народов» Сталина был превращен чуть не в главного апологета естественнонаучных основ диалектического материализма. Знаменательны в этом плане взаимоотношения между марксистским ортодоксом Бухариным и таким же фактически ортодоксом, но в физиологии, Павловым.
Начались они с непримиримой критики: одного – «в догматическом характере марксизма», а второго, как и должно в подобных спорах, – в столь же догматической обывательской «точке зрения». Павлов при этом, надо признать, выглядел, несмотря на всю его ортодоксальность, много сильнее, чем Бухарин, писавший в своем стандартном виде: красивых словосочетаний и несбывшихся мечтаний, вне логики и здравой аргументации. Так в споре прошло несколько лет, пока Бухарин, надо полагать, не получил «соответствующих указаний». Он встречается с Павловым «на равных», поет ему разные дифирамбы, в чем-то соглашается с его критикой, чего-то обещает… и между ними мгновенно, в полном согласии с марксистским «бытием, определяющим сознание», устанавливается тесная дружба. Павлов становится активным защитником советской власти, а Бухарин избирается Академиком, возглавляет Институт истории науки и техники, регулярно наезжает в Ленинград и всякий раз встречается там со своим новым коллегой. Такова метаморфоза!
Условные рефлексы, пригодные, разве, для объяснения поведения червяка; диалектический материализм вне природного естества
всего живого – прямое следствие человеческой одержимости. Не зря еще один ортодокс, но умница, Троцкий в прямой спор с Павловым не вступал и просто полушутливо-полуиздевательски написал ему в частном письме, что его учение, «как частный случай, охватывает теорию Фрейда, с ее сублимированием сексуальной энергии». Но, в отличие от фрейдистского «полунаучного, полубеллетристического метода вприглядку, сверху вниз, оно, – писал Троцкий, – опускается на дно и экспериментально восходит вверх», а потому «оценка психоаналитической теории Фрейда под углом зрения теории условных рефлексов составила бы благодарную задачу для «одного из Ваших учеников…». Такова в данной истории реакция Троцкого!
До чего же приятно чувствовать себя не зацикленным на чем-либо нормальным человеком. К этим трем одержимым «светочам» мировой мысли я относился всегда критически и не менял взглядов на них со студенческих лет.
Ну, а при чем тут Сталин? Все говорит о том, что именно по его указанию Бухарин «влетел» в очередной раж демонстрации своих «интеллектуальных» возможностей перед Павловым, неадекватно воспринятых последним… Но в полном соответствии с желаниями Сталина по использованию имени ученого для пропаганды достижений страны Советов и ее Главного строителя. Горький, Толстой, Куприн, теперь еще и Павлов – все для одного и того же. Драчка Бухарина началась при Ленине, а мир между ними – при Сталине.
12.12
«Дорогой Андрей Владимирович! Твое последнее письмо получено мною почти полгода назад. Я приношу извинения за свое непомерное свинство, тем более, что ему, помнится, как бы предшествовали кое-какие мои претензии к тебе за аналогичную задержку с ответом. У тебя на то были вроде причины, у меня их нет, хотя и увлечен был прилично как раз в это время работой.
Прежде всего, разделался с В. М. и закончил в обещанный срок проект участка резки и уборки заготовок для МНЛЗ. Не успел закончить, как меня пригласили на старое место работы под предлогом заняться станом 5000 для известной, наверное, тебе затеи с производством собственных одношовных труб для Газпрома.
Приглашен я был чуть ли не на следующий день после увольнения на пенсию Орлова (он сейчас устроен в информационной службе нашего Бизнес-центра по прокатному оборудованию, который возглавлял последний год сам и где стал теперь начальником мой воспитанник В. П. Скабин). Так вот значит пригласили, а я с ходу к ним, меня принимавшим, с двухчасовой лекцией об этом проекте века.
Через пару дней мы договорились о реальной программе действий, и я сейчас делаю им, в рамках заключенного контракта, два реальных приземленных небольших аванпроекта осовремененных правильных машин для листа и профильного проката, в том числе для рельсов. Разговоры о трубе со мной пока прекратились.
Заканчивается второе тысячелетие. Поздравляю тебя с ожидаемой сверхкруглой исторической датой, свидетелями которой мы скоро окажемся волею предпосланной нам Богом судьбы. Всех тебе благ, здоровья и отличного настроения. Того же всем твоим родным и близким. Крепко жму твою руку и остаюсь с мечтой о встрече».
Копия письма Росселю.
«Уважаемый Эдуард Эргартович! Последнее время Вы уделяете много внимания проблеме производства труб большого диаметра. Однако названная проблема с точки зрения ее технического решения сформулирована, как мне кажется, абсолютно в безальтернативном варианте, продиктованном односторонними интересами Газпрома, причем интересами, полагаю, не совсем безупречными.
Почему только одношовная труба?
Насколько помнится, в свое время первый зарубежный комплекс по производству одношовных труб из сверхширокого листа (потенциальная возможность получения которого в те времена представлялась самостоятельной стратегически важной задачей) был построен специально для нашей страны, под ее неограниченные тогда финансовые возможности. Новая технология, новое оборудование и отлично поставленная реклама сделали свое дело, и просто высокое качество труб во всей их совокупности было отнесено к одному на трубе шву. Дорогая труба стала приобретаться не только от нашей безысходности, но и как бы ради моды, почти точно так же, как это имеет место в области смены женских юбок.
Спрашивается, если по достойно хорошей технологии можно сделать весьма надежную и добрую одношовную трубу, то почему ее нельзя сделать таковой же, но весомо более дешевой, например, с двумя швами? Ведь при высокой вероятности получения качественной одно-шовной трубы (даже если мы отнесем ее, вероятность, только к одному шву, не считая остальной металл) вероятность получения брака при двухшовной трубе не выйдет на другой уровень; она останется, при сравнимых способах и технологическом обеспечении, практически того же порядка, а если при этом будут учтены все факторы, определяющие качество и надежность данной продукции, то тем более.
А вот комплекс сооружений для производства одношовных труб, особенно его листовой стан 5000 будет стоить, по самой скромной оценке, раза в два-три дороже. При увеличенной в два раза (по сравнению с двухшовной трубой) исходной ширине листа масса стана возрастет в квадрате, а сложности по его созданию чуть ли не в кубе. Почти каждый определяющий узел станет уникальным сооружением, а изготовление их окажется на пределе возможностей машиностроительных предприятий. Значительно, хотя и не в такой степени, будет тяжелее и сложнее в изготовлении собственно трубосварочный комплекс. Аналогичным образом усложнится и эксплуатация названного оборудования.





