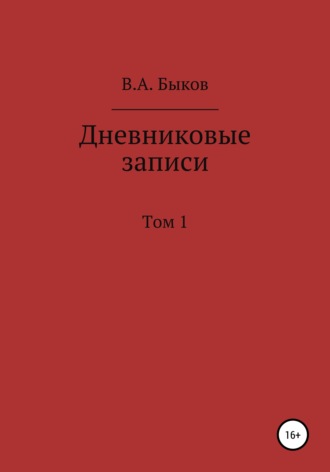
Владимир Александрович Быков
Дневниковые записи. Том 1
После этого официальную часть свернули, и мы, небольшой компанией «стариков», перешли договаривать в кабинет Кошкина.
Для начала вспомнили Голубкова как первого руководителя отдела МНЛЗ на Уралмаше. Признали, что он был приличным менеджером, а потому многократно назначался на роли руководителей самых различных у нас конструкторских подразделений, начиная от смазки и горного оборудования и кончая прокаткой. «А был ли он когда-нибудь на монтажах?» – задал кто-то вопрос. Был, говорят, на монтаже тонколистового стана в Магнитке. Помнится, туда для запуска главного привода клети еще вызывался им в помощь Химич.
Нисковских тут упомянул фамилию Троицкого, который вроде никакого отношения к разливке не имел, но с которым они в 50-м году были там же на монтаже. А я в связи с этой фамилией не удержался и рассказал байку о том, как Троицкий женился и как тогда мы бедно, но весело жили.
Так вот в конце ноября 50-го года приезжает он с Магнитки для переоформления командировки. Стоим мы на площадке нашего четвертого этажа часов в 12 дня и ведем разговор о тамошней их монтажной жизни. Спрашиваю его:
– Когда обратно? – Завтра.
– И что, опять так холостяком и поедешь? (За два месяца до этого я его познакомил с Юлей – подругой своей будущей жены.) Давай женись, и явишься туда солидным мужем.
– Как можно, так скоропалительно? Ты чего, шутишь?
– Почему шучу, вполне серьезно советую.
На этом мы расстаемся.
Через три часа прибегает он, запыхавшийся, и сообщает…
– Быков, женюсь! Свадьба в 7 вечера. Приглашаю вас с Галей и бригаду Краузе, человек десять.
На свадьбе в родительском доме невесты, куда мы пришли, на столе стояли… чекушки с водкой и пара гусей, случайно купленных тещей на местном рынке. В качестве подарка от бригады Краузе вручил Троицкому серебряную рюмку, ценой рублей в сто, в старом дохрущевском исчислении. Было экспромтно весело. Настолько, что Краузе, когда мы вышли от молодоженов, в ответ на наш с Галей неоднократный ему вопрос, где он живет и куда его вести, каждый раз извлекал из себя только одну неизменную фразу: «Насупротив вас». Пришлось его тащить ко мне домой на Эльмаш, а потом провожать Галю и возвращаться обратно, уже пешком. Однако утром вся наша свадебная братия, исключая отъезжающего в Магнитогорск жениха, была на работе ровно в 8-00 часов, и в полном составе. Посмеялись. Хозяин кабинета Кошкин вспомнил о своей собственной столь же скороспелой свадьбе…
Затем открыли книжку, и по ассоциации с рассматриваемыми в ней фотографиями завели разговоры о людях, на них изображенных. О премьере Косыгине, как он не повел даже глазом, когда случился аварийный прорыв металла на уралмашевской экспериментальной установке. О нашем министре Афанасьеве, когда он, будучи мужиком огромного роста и борцовского телосложения, во время поездки в Японию таскал собственноручно для всех остальных неподъемный чемодан с подарками зарубежным коллегам. Еще раз о Химиче и Кра-узе, непременно упоминаемых по случаю подобных встреч. Вспомнили и Соловейчика, отличавшегося среди нас, известно, малым ростом. Как он ловко компенсировал его своей всегдашней солидностью, гордо поднятой головой, выпяченной вперед грудью и четко поставленной речью, особо при деловых разговорах, и как благодаря этим качествам весьма достойно представлял завод на монтажах наших объектов. Поговорили еще о чем-то и стали прощаться: у хозяев был рабочий день и надо было дать им возможность позаниматься сколько-то производственными делами.
05.12
Еще о книге Нисковских. Как-то я отметил исключительную силу человеческой страсти, когда действует не разум, а то, что определяется природной сутью человека и его бытием. Когда из-за элементарного завода, обиды, оскорбления человек становится невосприимчив к любым самым сильным аргументам. Здравый смысл отступает перед ничтожным упрямством. Компромисс, достигаемый в великих делах, становится невозможным в мелочах. Позиция лояльного арбитра двух дерущихся моментально меняется, как только он становится активным сторонником одного, а еще больше, если вдруг проникается своей собственной.
У нас с Нисковских существовала некая негласная договоренность ухода от споров в части оценки исторических событий, а поскольку они порождены людьми, то, естественно, и конкретных личностей, больше всего в части оценки деяний Сталина.
Я более открытый человек в провозглашении своих взглядов. Виталий же, как правило, отмалчивался и тем более старался уклониться от полемики, но вот не выдержал и, прямо в пику мне, изложил свою точку зрения на все до того мной ему наговоренное. Не могу не оспорить его позицию, или хотя бы не уточнить ее.
В своей книге Нисковских называет Сталина, потрясавшего миром и «заставившего» написать о себе тысячи книг, статей, воспоминаний, «одной из самых одиозных личностей двадцатого века». Считает «в высшей степени аморальным бросать на одну чашу достижения страны, а на другую человеческие судьбы» и, вместе с тем, как бы противореча себе, признает, что «история сохранит все, включая и светлые и мрачные ее стороны». И верно, конечно, его последнее. Когда это нам известная и нас особо занимающая история делалась не «аморальным» образом? И вообще, в части оценки деяний великих людей следует для объективности не забывать известное высказывание Гегеля:
«Всемирная история совершается в более высокой сфере, чем та, к которой приурочена моральность и которую составляет образ мыслей частных лиц, совесть индивидуумов. Нельзя к всемирно-историческим деяниям и к совершающим их лицам предъявлять моральные требования, которые неуместны по отношению к ним. Против них не должны раздаваться скучные жалобы о личных добродетелях, смирении, любви к людям и сострадательности… Великая личность вынуждена растоптать иной невинный цветок, сокрушить многое на своем пути». Или того же Энгельса (тоже весьма неглупого человека, если отбросить его непомерную увлеченность марксизмом), который упоминал о том, что любой исторический процесс сопровождается великими историческими бедствиями.
Добавлю и от себя, что такая личность, как правило, появляется и действует на грани исторических эпох, когда идиотизм предшествующей достигает такого уровня, что он не может быть низвергнут без элементарного насилия. Того самого «суда истории», «суда народа», о которых я уже не раз упоминал.
В утверждениях Нисковских усматривается, кроме того, еще и просто некая тенденциозность. Отмечает он, например, «грандиозные успехи», наличие в стране «эмоционального подъема, способствующего успешному свершению грандиозных планов», но в контексте одного сплошного негатива. Индустриальные объекты строились у нас «за счет продажи зерна и продовольствия за рубеж» и создания в стране «искусственного голода»; «развитие промышленности происходило за счет бесплатного труда миллионов каторжан, многие ученые и конструкторы создавали свои шедевры за решеткой «шарашек» и т. д. А где же, спрашивается, все остальные, что «не сидели», и откуда у них энтузиазм и самозабвенное отношение к созидательному труду и, особенно, как раз в те сталинские годы? Ведь развал-то нашей системы начался уже после Сталина и отнюдь не от того, что было «покончено с крепостным правом на селе», «исчезла дармовая сила» лагерников и некому стало работать. Были к тому более глубокие основания. У меня об этом написано много историчнее и доказательнее. Но откуда такая предвзятость у весьма умного мужика, конструктора и даже аналитика по самому характеру своей профессии?
У нас с Виталием почти одинаковое социальное положение. Мы из преуспевающих крестьян, которые, как он замечает, были не «богатыми и не бедными», но, как мне кажется (естественно, по крестьянским меркам), все же были больше богатыми, о чем можно судить по приводимым нами конкретным фактам из жизни его и моих предков. А вот после революции пути наших отцов несколько разошлись.
Его отец, Максим Касьянович, с которым я был хорошо знаком и который мне был очень симпатичен, в 18-м году попал в белую армию, через два месяца со своим приятелем из нее бежал обратно в родное Баженово, некоторое время скрывался, а затем вступил в красную армию.
Несмотря на свое четырехклассное образование, быстро очаровал молоденькую машинистку Оленьку, окончившую гимназию и прекрасно знавшую французский и немецкий языки, тут же вступил в партию и вскоре был откомандирован в Екатеринбург, где ему предложили перейти на работу в ЧК. Затем Вятка, он уже начальник железнодорожного отдела ГПУ. Снова родной Урал, где он (своевременно) оставляет органы ЧК, но не совсем, поскольку назначается прокурором, и лишь еще через какое-то время переходит на хозяйственную работу. Несколько лет возглавляет в Кыштыме трест «Уралграфиткорунд», в 33-м году назначается директором графитового комбината в Одесской области, очень быстро переезжает в поселок Ульяновка на крупный сахарный завод, а спустя несколько месяцев назначается директором и поселяется в квартире бывшего не то владельцем, не то управляющим этого завода, отца известного Пятакова. Куда девались отцовские предшественники на графитовом комбинате и на сахарном заводе и чем занимался он в органах, Виталий умалчивает, но весьма подробно, с детской непосредственностью и увлеченностью бытоописует тех лет жизнь.
Директорский дом, расположенный на территории завода. Довольно большая и удобная квартира в доме, где кроме них, занимающих весь первый этаж, на втором жили семьи главного бухгалтера и главного химика завода. Примыкавший к дому фруктовый сад. Различная домашняя живность, обслуживанием которой занималась их домработница. Пионерский лагерь, куда его отвозил в повозке, запряженной парой лошадей, кучер Франц. Частые в доме высокопоставленные гости отца. Повар, который приходил к ним и развертывал «бурную деятельность на кухне перед приездом особо важных персон»…
Наступает 37-й год. Отца исключают из партии, снимают с работы. И они всей семьей оказываются в родном и бедном Баженово.
А вот другая история, не написанная, но многократно мне рассказанная Борисом Сомовым. Его отец старый большевик, активный участник послереволюционных событий, но как и отец Виталия, взял себе в жены не простую крестьянку, а поповскую дочь, изумительную женщину. Позднее она стала директором 22-й школы на Уралмаше, и ее любили чуть не все ученики. Одно время мы с Сомовым, когда его родители были уже глубокие пенсионеры (опять отмечу – мне очень симпатичные люди) и почти безвылазно летом жили у себя в учительском саду на окраине Уралмашевского поселка, бывали у них там чуть не каждый воскресный день и одно время строили даже им новый дом. Так вот его отца – секретаря райкома партии – где-то в тридцатые годы исключают из партии, семья переезжает в Свердловск и поселяется (после райкомовской-то жизни) в одну комнатку. Но относительно быстро Сомов восстанавливается обратно в партии и приобретает даже статус старого большевика. Каким образом?
В бытность его секретарской деятельности он познакомился с молодым парнем комсомольцем, которого Борис называл всегда не иначе как Ванькой. Этот Иван Шишлин стал протеже отца Сомова, очень быстро пошел в гору по линии НКВД и во времена «ежовщины» оказался в Свердловске. Занимал ответственный пост, жил в трехкомнатной квартире с паркетными полами и с окнами, выходящими на Дом Красной армии, который мальчик Боря с огромным любопытством рассматривал в ваньковский бинокль. Возможно, не без содействия Шишлина Сомова – отца и восстановили в партии.
Что же здесь удивительного? Да, как и у Виталия, – человеческая избирательность, но только у Сомова уж вовсе гротесковая. Сталин, при котором пострадал Сомов старший, стал в глазах Бориса не кем иным, как параноиком, а Ванька, сталинский палач, у которого руки были, по словам того же Бориса, «в крови по плечи», – его кумиром.
Почему это я так подробно о той их жизни? А потому, что оказался под впечатлением еще за неделю до этого прочитанной книжки, кажется, Рогова, в которой представлена точно такая же, но только не районного, а союзного масштаба, начальническая жизнь.
Рогов старший тоже становится чекистом с первых послереволюционных лет, переводится в Москву, затем в 34-м году, видимо в связи с убийством Кирова, – в Ленинград, а вскоре, естественно, не без личного указания Сталина, возвращается обратно и назначается… комендантом Кремля. В 39-м году он кончает жизнь выстрелом из пистолета в своем кремлевском кабинете.
Рогов младший также ничего не пишет о занятиях отца, кроме его карьерно-номенклатурного перемещения, но с подробностями описывает барскую жизнь своей семьи. Восьмикомнатную квартиру в охраняемом круглосуточно полуособняке. Светскую жизнь нигде не работавшей матери, имевшей каждодневное «право» на два места в любом московском театре. Свои детские, от скуки, поездки по Москве с личным шофером отца…
И так же, но только на два года позже и в другое место, их семья высылается из Москвы.
Главное, в этих повествованиях, как у многих других детей подобной судьбы, одинаковое отношение к репрессивной стороне жизни в нашей стране. Будто репрессии начались именно с их семей, а до этого вроде как бы ничего подобного не было, царила справедливость и сплошное благородство, Некое двойственное восприятие действительности, некая двойная мораль: до – морально, а после – аморально. Ни с Ленина и его команды при чьих-то «отцах», (я не говорю здесь о выше названных, которые, возможно, были достойным исключением в той обстановке массовой вакханалии), а лишь со Сталина и новой когорты других, плохих, «отцов», начались репрессии.
И если бы то были впечатления одних детей! Нет, и самые главные «пострадавшие», прямые организаторы и участники революции, вроде Троцкого, Бухарина и остальных, мыслили точно так же. Они будто вершили праведный суд от имени народа и по революционной необходимости, а вот их судили одни палачи и сволочи. Тут отнести все к одним исключениям уже никак нельзя.
Марксистская формула о бытии, определяющем сознание, весьма относительна. Но в части собственно жизни человека, его физиологической природной сути она действует почти безусловно. Отсюда проистекает не только сугубо личностная составляющая восприятия действительности, но и порождаются более глубокие причины проявления массовой «аморальности» людей, и отнюдь не по одним желаниям отдельных их представителей. Кем бы последние не являлись, они всегда, в большей или меньшей степени, свои желания подчиняли желаниям «народа». Общество как было, так и остается, по образному выражению прожженного плута, стяжателя и вымогателя Талейрана, разделенным на «стригущих и стриженых». Остается прежней и устремленность к «роскошно-красивой» жизни власти и отирающихся возле нее всех «стригущих», а отсюда сохраняется ненависть к ним со стороны остальных, «стриженых». Конец сего известен и в нем нет ничего, что бы шло
вразрез со здравым смыслом, ибо ненависть здесь является следствием «узаконенного» государством грабежа.
06.12
В продолжение темы о репрессиях. Поразительная однобокость и тенденциозность почти во всех писаниях. Будто авторы все собрались перед тем и договорились заранее, как свои мемуары «подоходчивее» преподнести читателю. У всех святость «до» и сплошная мразь «после». Великая вера в коммунистические идеалы, замечательные, преданные революционной справедливости люди «до» и полные ничтожества следователи и судьи с «рыбьими глазами», преисполненные злобы и ненависти после. Своеобразным исключением здесь является мой приятель Сомов (в части его отношения к Шишлину), хотя истоки его взглядов таковы же, как у всех остальных. Откуда такая метаморфоза в человеческом материале?
Передо мной два повествования: «Это не должно повториться» – Газаряна, бывшего ответственного работника НКВД, и «Крутой поворот» – Гинзбург, бывшей зав. отделом культуры областной газеты «Красная Татария», жены члена ЦИК СССР и члена бюро обкома партии. Разные судьбы, но в принципиальной основе – то самое бескомпромиссное подразделение на белое и черное, абсолютнейшее непонимание жизни и психологии людей. Какое-то несусветное завихрение в мозгах, в которых (по образному высказыванию «простой неграмотной бабы рязанской» – свекрови Гинзбург) «Ума палата, а глупости саратовская степь». Куда же их было девать этих одержимых старых большевиков (не без моего возможного известного исключения), отлично и массово научившихся сладко по-буржуйски жить, самозабвенно болтать про коммунизм и всеобщее равенство, нахваливать Ленина и проклинать Сталина?
Не успел дочитать этих двух, как попадают на глаза еще два повествования. «Воспоминания» Швед – жены ответственного работника «Уралплана», активного коммуниста, участника 3-го съезда комсомола и 15-го съезда партии Когана. И «Как это было» Жуковской – жены члена коллегии Наркомвнешторга, а затем, последовательно: завотделом внешней торговли в Комиссии партийного контроля и замнар-кома НКВД. У них такая же судьба, как у Гинзбург, и, один к одному, такие же представления о жизни. Ничего о большевистской неправедности их собственной и мужей жизни «до» и сплошные, в окружении жен бывших чуть не «святых» секретарей обкомов и прочих больших партийных и советских начальников, повествования о тюремной и лагерной жизни «после», вне какой-либо даже малейшей попытки отобразить истинные причины с ними случившегося – фактически полного морального разложения к 30-м годам всей их партийно-начальнической среды с ее цековскими санаториями и дачами, банкетами, театрами, закрытыми распределителями.
Некоторое исключение – воспоминания бывшего заместителя Главного военного прокурора Советской армии и Военно-морского флота Викторова. Написаны они, в отличие от предыдущих, с максимально возможной, им подчеркиваемой, объективностью. Но какой?
Объективностью поверхностной, прямо вытекающей из его прежнего должностного положения, обязывающего его формально рассматривать факты с позиций некоей чистой законности, в рамках, как он говорит, только того, что «он знает, что подтверждается документами» и что затвержено официальной юриспруденцией.
28.12
Был у Людмилы на обеде по случаю годовщины со дня смерти Льва Скобелева. Среди приглашенных, как обычно, его бывшие друзья по работе и учебе в институте. Пошли разговоры о прошлой «замечательной» жизни, о том, как много в ней было, особенно в 50-е годы, достойного нашего внимания. Вспомнили, по ассоциации с застольем, о тех времен изобилии в магазинах деликатесных продуктов: красной и черной икре, крабах, белой рыбе, изумительнейшего качества колбасах, их доступности даже в наши студенческие годы. Я про себя проиграл посему свой стандартный вопрос: Что это, свойство человеческой натуры сохранять в памяти приятное и забывать плохое, или на самом деле тогда было много этого достойного? Задал себе и второй вопрос: Почему люди, довольно часто хающие то время в целом и общем, чуть не с упоением вспоминают и рассказывают о разных конкретных частностях, в том числе и о «самой – по мнению Нисков-ских – одиозной личности двадцатого века» – Сталине?
Думаю, что любая проповедь абсолютной истины, религии (церковной, коммунистической, либеральной), претендующая на статус правящего мировоззрения, требует наличия «специалистов» по его истолкованию и защите. А устремленность их к сему базируется на извечном принципе интеллектуальной прислуги: кто платит, тот и прав. Не потому ли «защита» состоявшегося сегодня стала мощно блокироваться огромной армией деловых людей, которые, опираясь на действительные факты, полагают, что при Советах было много лучше чуть не в любой области: культуры, образования, науки, техники, искусства, законности и т. д. Причем настолько объективно лучше, что революционный переворот в стране может, кажется, состояться и до того, как завершится мною часто упоминаемый очередной виток спирали российской истории.
2004 год
21.01
«Дорогой Матус! Получил твое от 11.01 вчера. Откровенно говоря, не понял его.
Мне ничего не надо тебе объяснять, поскольку моя позиция расписана и с тобой разобрана. Не забывая и не путая тактику со стратегией, перечитай еще раз о ней в «Двух полюсах. Там есть ответы на все твои свежие «но» и прочие вопросы. Я не возражаю против разных разъяснений, но только не по отдельным фразам, а концептуально в рамках комплексного отображения проблемы.
О Голубкове, он умер года три, если не больше, назад. Я с ним сохранял самые теплые отношения до последних его дней. Поддерживал его и навещал часто. Любил с ним поговорить, однако как специалиста его не воспринимал, а видел в нем именно администратора, но и тут с массой неудовольствий. Так что кем-то брошенная о нем реплика, тебе не понравившаяся, меня не удивила, не покоробила. Но в плане чисто человеческом он остался для меня некоей загадкой.
Критик и «безукоризненный» пропагандист разных глупостей, грамотнейший мужик в «теории» и, одновременно, допускавший какие-либо явные «общепринятые» или «узаконенные» несуразности в практическом деле. Вроде, вспоминается, его многолетнего составления заявок на комплектующие изделия, которые я постоянно критиковал по их безграмотной сущности и по способу их исполнения собственными его усилиями и от которых я моментально избавился, как только сел в его кресло. Короче, полная противоположность Химичу, с которым я не мог его не сравнивать.
Был 09.01 на 50-летнем юбилее Андрея Копытова. Опять удивлялся и отметил все возрастающее застольное изобилие на фоне все сокращающейся работы. На следующий день спросил у своего Андрея: «А на какие шиши он так развернулся»? В ответ получил: «Так ведь у него только оклад 3000 долларов…». У нас Главный при той грандиозной тогда работе получал всего в пять раз больше самого последнего чертежника, а теперь плановик (не без способностей и определенной талантливости, на которые я обратил внимание в первые дни его появления в отделе, но все же плановик) работает с коэффициентом 50. А сколько тогда получает его начальник? Так что есть и у меня вопросы в части «культуры» и прочих проблем человечества. Жизнь действительно сложнее многих наших о ней представлений, особо в конкретных ее временны́х проявлениях. Почему, например, опять ускоренно готовится очередная революция, хотя давно известно, от чего проистекает, во что выливается и чем она грозит ее прямым организаторам или их наследникам?».
23.01
Года три назад Вальтер подарил рекламную книжку, которую он прихватил в банке «Северная казна». Недавно просматривая ее, обнаружил в ней массу подчеркнутых мною положений председателя совета директоров банка В. Н. Фролова на тему, что такое коммерческий банк и как его сделать преуспевающим. Чего только Фролов там не написал правильного и разумного. О прогрессивном мышлении, необходимости быстрого приспособления банка к текущей ситуации и к требованиям клиентов, заинтересованности банка в успехах последних, решении стать банком самых высоких технологий, о всем прочем, что только я мог себе представить в плане обеспечения взаимовыгодных, корректных взаимоотношений между банком и его клиентурой.
Возникли предложения по мною критикуемой принудительной автостраховке, я позвонил Фролову и договорился о встрече. Разговор, можно сказать, не состоялся, Ни при встрече, несмотря на пропетый ему мною дифирамб по поводу его «афоризмов», из которых я подчеркнул чуть не каждый третий. Ни через пару дней по телефону, по причине взятого им тайм-аута для ознакомления с врученной при встрече моей памятной запиской.
Получилась какая-то между нами вежливая перепалка, никак не корреспондирующаяся с его теоретическими концепциями и не похожая на то, что практиковалось при обмене мнениями в нашей среде, где ощутимо проявлялось стремление сторон к конструктивному диалогу. Но, к сожалению, тоже не всегда. И мне вспомнился один случай.
Долгие годы у нас отдел по электроприводу и автоматизации возглавлял В. М. Мамкин. У меня были с ним вполне доброжелательные отношения и до, и после того, как однажды между нами пробежала черная кошка. До нее мы находили всегда общий язык, и часто он даже ставил меня в пример своим сотрудникам.
Но вот где-то в 70-х годах мы назначили совещание у Мамкина по вопросу приводов нажимных устройств рабочих клетей балочного стана. Проблема заключалась в том, что мои коллеги-электрики придерживались в части надежности электрической части этих приводов таких же подходов, как и на клети блюминга. Но не учитывали при этом, что блюминг в те времена стоял в голове прокатного передела металлургического завода и, в составе одной своей клети, определял полностью работу всех остальных его станов. Балочный же стан и по месту своему в названном переделе, и по своей принципиально отличной от блюминга конструкции выходил на совсем иной, более «низкий уровень гарантий» по надежности в целом и, особо в части приводов нажимных устройств его 10 клетей, из которых пять являлись рабочими, а остальные – резервными, с возможностью оперативно быстрого и механизированного ввода в линию стана при любой на то как технологической, так и любой прочей необходимости.
Естественно, что в данных условиях требование электриков по такой же степени надежности данных приводов, что и на блюминге, было явно излишним. Выполнение же его было связано с установкой более мощных приводов, а это вело к увеличению габаритов и утяжелению не только 10 клетей и устройств по их установке в линию стана, но и усложняло, в той или иной степени, все остальное с ними связанное оборудование и даже общецеховые сооружения.
На совещании мы с Мамкиным разошлись во мнении, и мне пришлось в ответ на его начальническое «своеволие» применить сугубо обходной «нахальный» прием, уже неоднократно проверенный мной в отношении перестраховщиков. Чтобы развязать это гордиев узел, я взял и через пару дней выдал исполнителям измененное задание с уменьшенными в полтора раза нагрузками. Оно предоставило: мне – возможность установить на клетях электроприводы нужной мощности, а Мамкину и его команде – обеспечить желаемую ими их «надежность». Так было и сделано, и, как показало время, сделано абсолютно правильно. Однако суть не в технике, а в том, что данной истории предшествовало.
В то время у нас было в моде проведение так называемых политзанятий, с разными формами обучения персонала, в том числе, и комсостава. На занятиях нам читали лекции преподаватели высших учебных заведений города, а затем прочитанный материал мы «закрепляли» на семинарских занятиях. На одном из последних, как раз перед названным совещанием, было поручено выступить Мамкину с сообщением на тему «Руководитель и методы управления вверенным ему подразделением». Виктор Модестович превосходно подготовился и пафосно доложил о «теоретических» аспектах «управления», а буквально через полчаса в конкретной обстановке производственного совещания наглядно «продемонстрировал» теорию на практике.
Вместо рассмотрения вопроса по существу, чуть ли не сразу перешел на личностную характеристику, мою мотивацию. Конкретные аргументы стал опровергать экскурсом в прошлую историю, к неким аналогиям, которые мало или совсем не сопрягались и не корреспондировались с рассматриваемой проблемой. Вместо деловой, содержательной составляющей нашего спора стал, более чем нужно, обращать внимание на эмоциональную часть, так сказать, на музыкальное его сопровождение. Аргументы теоретического порядка позволил себе опровергать неизмеримо менее доказательными ссылками на практику. Забыл абсолютно о вежливом общении с любым собеседником, особенно, с подчиненным и тем, кто ниже рангом. Наконец, не нашел ничего более убедительного и заявил, что «этот вопрос электропривода относится полностью к компетенции их подразделения и он, как его руководитель, прекращает полемику и подтверждает принятое ими решение по установке на клетях двигателей ранее выбранной мощности». Я не стал выносить его «компетентное» силовое решение на рассмотрение к вышестоящему начальству, а продействовал так, как изложил выше. К чести Мамкина надо признать, что мою уже истинно «компетентную» наглость он проглотил достойно, осознав, видимо, абсолютную ее непрошибаемость. Однако того случая не забыл и, как мне рассказывали, несколько позднее, когда в дирекции НИИтяжмаша обсуждался вопрос о моем назначении на должность Главного конструктора, то решительнее всех против моей кандидатуры выступил Мамкин, заявив: «Быкова, Главным? Да вы все с ним наплачетесь, ведь с ним нельзя решить ни одного вопроса!». Я на него не обиделся и никогда об этой, ставшей мне известной, его характеристике ему не напоминал. До последних лет жизни у нас сохранились с ним вполне нормальные отношения. Более того, я был даже рад, что меня не назначили тогда Главным. Это позволило мне до конца своих рабочих дней заниматься только любимой техникой, не кривить душой, не подделываться ни под кого и «упрямо» добиваться того, что я считал правильным и соответствующим мной пропагандируемому здравому смыслу. Ради последнего я считал возможным применение любых средств, только бы они не вступали в противоречие с законом: обман, тенденциозную информацию, искажение фактов, манипулирование плюсами и минусами в угодную мне сторону и все прочее, что могло быть «проглочено» противостоящей стороной. Могло способствовать достижению достойной цели в споре, особо тогда, когда оппоненты являлись, кроме всего прочего, еще и менее компетентными (не менее знающими, а именно менее компетентными) в части комплексного, с учетом всех факторов, восприятия рассматриваемой в данный момент проблемы.
02.02
Видимо, по ассоциации со сталинским «Кратким курсом истории ВКП(б)» и с притязаниями на известность С. Г. Кара-Мурза недавно закончил и напечатал аналогичный «Краткий курс манипуляции сознанием» о том, как «на глазах одного поколения – участников событий космического масштаба – удалось взорвать огромную суперстрану». В силу неких привходящих обстоятельств, ограниченного, чем-то зашоренного взгляда человека на жизнь, написал он его так, будто до того не было в мире ничего подобного – ни Македонского, ни Тамерлана и Наполеона с их империями, ни Рима и Англии с ее колониями, ни всех остальных, которые так же именовали себя могучими державами, а потом, как и предопределено законами природы, разваливались, погибали и зарождались вновь, без наших на то переживаний и возмущений.
В книге масса интереснейших негативного плана характеристик манипуляторов сознанием народа в годы перестройки и демократии, начиная с Горбачева, А. Яковлева, Ельцина, их прямых приспешников и кончая «активно развенчивавшими» устои социализма интеллигентами в лице Солженицына, Сахарова, Н. Амосова, разного рода политологов и социологов, вроде Шмелева, Ципко, Заславской и прочих. По идее автора горбачевско-ельцинская контрреволюция явилась следствием того, что все перечисленные его «герои» неожиданно овладели наукой манипулирования сознанием. И не когда-нибудь там в годы советской власти взяли эту «науку» на вооружение, а только сейчас – именно с лет перестройки – стали активно ее, давно миром принятую, использовать.





