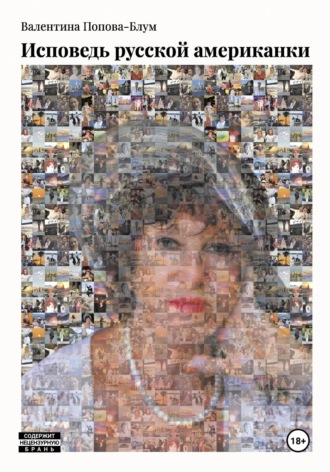
Валентина Попова-Блум
Исповедь русской американки
Рацион семьи улучшился, впервые за долгое время щеки Ирины порозовели от тепла и еды. Инженер относился к ней как к дочери, называя ее Meine Tochter, и частенько делил с ней свой обед. Любопытно, что звали этого немца Вальтер Михальский.
Война продолжалась, и инженер покинул Таганрог, как ни удивительно – с чувством беспокойства за этих, в общем-то, чужих ему людей. И совсем удивительно, что он еще разыщет их через несколько лет и явится к ним перед Рождеством с елкой в руках. После этого он бесследно исчезнет из их жизни, оставшись в благодарной памяти.
Сразу же после отъезда офицера немцы заберут у них рояль, объяснив, что он – немецкий. Неотъемлемая часть отца в их семье исчезнет. Но при всей боли потери защищать свое семейное сокровище было безумием. Потом, как-то проходя по улице, Александра услышала звуки знакомого рояля. Это была скорее интуиция, а не узнавание. Инструмент был прекрасно настроен и украшал гостиную немецкого офицерского клуба.
Дрожа от страха и от сильного волнения, она вошла туда и, плача, пыталась объяснить, что значит для нее и дочери этот рояль. Ей со смехом предложили присылать дочь заниматься на нем.
А тогда к Таганрогу подходили советские войска. Бомбежки оставляли страшные следы. Однажды Ирина видела на улице половину лошади и половину человека. Попал снаряд и в их цементный «Новый быт», к счастью, в дальнюю его часть. Но в их подъезде что-то обвалилось и задавило соседского малыша. Еды не было! Люди с тачками уходили в городки Украины, пытаясь поменять что-то на продукты.
Александра была убеждена, что взятие Таганрога советскими войсками сулит ей расстрел. И, прежде чем уехать, Вальтер помог им сесть в машину, следующую в Кривой Рог. Он раздобыл повязку переводчицы, и в дороге Александра, не знающая немецкого языка, несколько раз попадала в ситуации, которые могли кончиться для нее тем, от чего она бежала.
Таганрог не взяли. Они вернулись, но ненадолго.
В том же 1943 году война забрасывает мать и дочь в Германию. С потоком русских женщин, угоняемых на работу, их перемещают сначала в Польшу, в лагерь, и позже, по разнарядке, в Берлин.
Немецкая кровь мужа и отца – фон дер Лауница с учетом «кровопускания» в 1938 году дала некоторое послабление в строгости лагерной жизни: они были в роли пострадавших от советского режима. Но мытарства они испытали наряду со всеми остальными.
Они не сожалели, что покинули Таганрог: они знали, что там их ждала голодная смерть. Кроме того, работа Александры в газете при немецком режиме могла иметь действительно страшные последствия после освобождения города советской армией. Они слишком хорошо помнили, как наказывает советская власть.
Это было страшнее смерти от голода. А они хотели жить!
Когда Александра с дочерью попали в Берлин, город уже бомбили русские, американцы и англичане. Вместо стекол в окнах был картон. Бомбежки были ежедневными и оглушительными. В память врезались взрывы, кровь, бомбоубежища. Потом туда ходить перестали: страх притупился…
Жили они в Берлине в крохотной комнатушке. Александра не без труда, не зная ни слова по-немецки, нашла работу, что давало право на получение хлебных талонов, карточек на продукты и сигарет, тут же меняемых на хлеб. Место работы не имело значения по сравнению с перспективой витавшей над всеми смерти.
Используя лояльное отношение к дочери барона немецкого происхождения, Александра тут же попыталась устроить дочь для продолжения музыкального образования. До сих пор остается загадкой, как она объяснялась в Консерватории, добиваясь прослушивания Ирины. Дочь не приняли, посоветовав подготовиться получше в течение года, и даже предложили педагога-немца.
И в это тяжелейшее неспокойное время неистовая мать, выполняя волю бесследно канувшего в Лету мужа, берет напрокат пианино, чтобы обеспечить музыкальные занятия дочери. Но встретились иные трудности: при первых звуках пианино соседи начинали колотить в стены. Александра не сдавалась, мечтая увидеть Ирину пианисткой.
К Берлину подступала советская армия, и работающих женщин повезли в Чехию.
Александра и Ирина были в их числе, и опять их ожидали неопределенность, неудобная и несытая жизнь. Путь из Берлина лежал через Дрезден, до которого добирались на подводе, за что заплатили хозяину лошади сигаретами.
Сидя на подводе, они грелись на солнце и грызли твердую колбасу, заранее припасенную в дорогу, и черствый черный хлеб. В Дрездене они с большим трудом сели в поезд. Кругом была паника.
Люди бежали, кричали, на ходу бросали в окна свои чемоданы. Их группа состояла из десяти русских. Ирина была больна, кашляла: начинался плеврит. Они разместились на верхней полке, разулись и собрались полюбоваться Чехией за окном, как вдруг начался обстрел поезда американским самолетом. Крик: «Бегите!» – и люди, падая, спотыкаясь, несутся прочь от железной дороги. Все бежали по направлению к какому-то сараю. Ирина, задыхаясь, с болтающимся за спиной мешком, упала, не в силах подняться и сделать шага.
Окружающие решили, что она ранена. Опять начался обстрел, и мать закрыла дочь своим телом. Но дочь пыталась сделать то же самое. Наконец добежали до леска. Ирина, теряя последние силы, только твердила маме: «Оставь меня, оставь…» Самолет, разбомбив поезд, улетел. Ехать было не на чем и некуда…
Оставшиеся несколько человек добрались до фермы, и фермер разрешил им переночевать с коровами, на сене. Они повалились и провалились в глубокий сон. Наутро – о чудо! – Ирина проснулась здоровой. Нервное потрясение прогнало болезнь!
Мать и дочь прожили на ферме две недели, спали там же. Людей с поезда оказалось много. Мужчины помогали фермеру, женщины старались чаще бывать на кухне: им давали похлебку. Александра на кухне не показывалась – стеснялась просить.
Через несколько дней пришли чехи и забрали мужчин. Среди них был один немец – учитель из России, мечтавший стать лесником. Он варил картошку и старался накормить всех. Немец этот стал другом семьи на всю жизнь.
Позже тех мужчин, у кого не оказалось оружия, выпустили, и они вернулись.
Через две недели вся группа тронулась в путь, забрав из поезда то, что осталось, так как там уже поработали мародёры. Ирина с негодованием и удивлением видела, как несколько женщин с алчными лицами шарили по чемоданам, и подумала: «Ведь кто-то так аккуратно складывал свои нужные и любимые вещи». Эти женщины были похожи на крыс.
Отправились на подводе в Староконицы и там увидели первого американца. Он жевал жвачку, проверяя документы. Они прикинулись давнишними иммигрантами. Это было 5 мая 1945 года. От него они и узнали, что война кончилась!
Александра и Ирина разместились в американском лагере для перемещенных лиц и жили в комнате, где размещалось в общей сложности пятнадцать человек. Перегородок не было. Спали на полу. Мужчины по ночам играли в карты, не давая уснуть.
Женщины собирали ягоды в лесу. Однажды Ирина осталась в лесу, пережидая дождь, а когда вернулась, мать страшно при всех накричала на нее, не в состоянии скрыть тревогу за дочь из-за бродивших по лесу дезертиров. В лагере все пытались заняться тем, что хоть чуть подкармливало. Ирина переписывала ноты, за что ей починили ботинки. В американском лагере для перемещенных лиц условия были не из лучших.
В лагере время от времени неофициально появлялся советский офицер, выискивая русских. Большинство перемещенных, выехавших из Советского Союза, затаивались или молчали, не желая показывать, что они русские: страх отправки в Россию под конвоем был паническим. Позже кто-то сообщил об этом коменданту лагеря, и у ворот поставили американского часового. Поиски русских прекратились.
Однажды при перевозке на грузовике группу женщин, в которой находилась Александра с дочерью, подвезли к советскому лагерю. Часовые стали спрашивать, кто они? Онемев от ужаса, они молчали, и после многократных вопросов часовой сказал с раздражением: «Черт их знает, кто они!» И их повезли дальше. Еще долго они не могли вымолвить слова, с трудом оправившись от испуга.
Чехия оставила след в душе как страна сказочной природы, заслонившей собой горести, трудности и постоянное гнетущее ожидание без конца.
Они пробыли в Чехии до конца войны. Война кончилась, но не кончились мытарства, скитания, бездомная жизнь. Они оказались в громадном лагере под Мюнхеном, разместившемся в частично разрушенных бывших казармах, где обитало более восьми тысяч беженцев двадцати семи национальностей.
В этом лагере прожили они три года.
Здесь, в мюнхенском лагере, энтузиастами при содействии американской администрации лагеря была организована консерватория наряду с гимназией. Там были и госпиталь, и церковь.
Студентов в консерватории было не так уж много, но пять имеющихся роялей не обеспечивали желающих – возникала постоянная междоусобица.
Наконец-то Ирина смогла серьезно заняться музыкой, а мама светилась гордостью. Ирина училась сама и преподавала музыку детям, получая за это плату сигаретами, которые потом продавали на черном рынке по 50 марок за пачку. На эти деньги покупали еду. Того, чем кормили в лагере, было недостаточно, чтобы выжить.
Еду раздавали из громадных баков серого цвета, и сама еда представляла собой жидкое серое варево. Но «не хлебом единым жив человек»! Здесь, в лагере, среди прочих жили и необыкновенные люди, личности, оставившие глубокий след в жизни, счастье общения с которыми потом длилось несколько десятков лет.
Одним из них был Георгий Кочевицкий – первый и последний в жизни Ирины учитель, благоговение перед которым она сохранила в течение пятидесяти лет всей своей последующей жизни. Родившийся в Петербурге и получивший блестящее образование, он отсидел в лагере пять лет как политический заключенный. Перед войной Кочевицкий преподавал в Гомеле и, пройдя страшные дороги войны, оставаясь удивительным человеком, был верен своему профессиональному долгу.
Позже, будучи в Америке, он встретил Нину Берберову, русскую писательницу, профессора Принстонского университета, и стал ее мужем (третьим), продолжая оставаться самим собой, а не мужем знаменитой жены.
После его смерти многочисленные благодарные ученики будут пытаться разными способами увековечить его память. Ему посвящены книги.
Когда он встретился с Ириной, он находился в лагере, там и работал, формируя будущую культуру, не принадлежащую пока никакой стране.
Ирина училась, а мать, как всегда, работала от зари до зари. В лагере была русская церковь, старавшаяся, как могла, помочь, укрепить дух. Поддержать тело помогали американские посылки с продовольствием «Саче». Каждая из них, наверное, предназначалась одному человеку, но делилась на многих. Радости хватало ненадолго. Иногда в посылках попадались червяки в шоколаде, видимо, там были когда-то орехи.
Жизнь в лагере для перемещенных лиц была суровой: жили в комнатах по пятнадцать человек. Кусочек помещения, отделенный серыми одеялами, где умещалась кровать и у самых расторопных – тумбочка, назывался комнатой.
Соседками Александры и Ирины были проститутка и монашка. Странно, что у них никогда не бывало разногласий.
После того как больную проститутку увезли, на ее место поселилась старушка Варвара Петровна, ухитрявшаяся иногда испечь что-нибудь съестное и подкармливать соседских ребятишек. А в один прекрасный день к ней приехал сын, нашедший ее непостижимым образом, после того как долго прятался в лесу от немцев, питаясь гусеницами и ягодами.
Будущее представлялось неопределенным. О возвращении в Россию не было и речи из-за страха, боли и обиды. Немцев боялись тоже. «Человеческое радио» рассказывало о том, что американская зона – наилучшая, и мать и дочь стремились остаться в ней правдами и неправдами.
В результате многочисленных попыток удалось наконец через русскую церковь списаться с сестрой мужа в Калифорнии, и Александра с дочерью решили ехать в Америку. После долгих ожиданий, с помощью фонда имени Льва Толстого, возглавляемого дочерью писателя Александрой Львовной, которая направляла ходатайства на старинном русском языке в иммиграционные инстанции, они получили долгожданную визу на въезд в США.
И вот в ожидании сытого счастья и мирных впечатлений едут наши героини с оставшимися непроеденными пожитками в пересылочный пункт Бремен, где садятся на пароход, плывущий в благословенную Америку.
Несмотря на полное отсутствие комфорта на пароходе, приспособленном только для перевозки военных грузов, несмотря на мучительные ощущения от морской болезни, мать и дочь, стоя на палубе, вглядывались в бескрайние морские просторы, отдаляясь от войны, и пытались увидеть грядущую райскую жизнь.
После утомительного, но наполненного трепетом радостного ожидания пути пароход прибыл в Нью-Йорк. Их встретила статуя Свободы и… больше никто.
Но атмосфера ликования вокруг затмила тревогу, и они отдались чувствам, испытываемым всеми окружающими их людьми. Многие плакали, молились, простирали руки к берегу навстречу родным, встречавшим их, чтобы воссоединить разрушенные войной семьи. Многоцветные толпы людей, встречающих пароход, казались с корабля пестрым ковром.
Снова томительное ожидание дальнейшей судьбы, зависящей от кого-то, на центральном вокзале Нью-Йорка, без денег, без единого слова по-английски, под трепещущим американским флагом.
И вдруг – о счастье! – русские волонтеры, разыскивающие тех, кто нуждается в помощи. Они встречали русских беженцев, помогали сесть на поезд в нужном направлении, позвонить, дать телеграмму тем, кто их ждал, а иногда могли и приютить.
Их посадили на поезд, следующий в Лос-Анджелес. Как приятная неожиданность – в поезде им подали завтрак: красивые коробочки с корнфлексом и томатный сок. Они пили этот сок как нектар и не могли оторваться, а потом с удовольствием стали хрустеть сухими хлопьями, но тут подошел чернокожий стюард и очень деликатно предложил мисочку с молоком.
Снова дороги, снова вокзал и снова на вокзале – никого… Решили ждать… Через несколько часов в помещение вокзала буквально влетели родственники, которых они никогда в жизни не видели, и к ногам скиталиц, сидящих на чемоданах, упал мешок с апельсинами.
Объятия, слезы и рассыпающиеся сладкие плоды горячего калифорнийского солнца!
Дом у родственников оказался крохотным. Дядя в это время был безработным. Александра сразу засуетилась в поисках работы. Они с Ириной решили не быть обузой для родственников. Мать пошла работать на фабрику – шить, дочь работала по найму и играла в церкви.
Все возможности устроить свою семейную жизнь Александра – молодая, привлекательная еще женщина – отвергала категорически. Она хотела навсегда остаться верной своей любви и первому счастью. Так и жили вдвоем с дочерью.
Семья священника пресвитерианской церкви была знакома по посылкам с одеждой для лагерных, собранных церковью по инициативе тети, и принимала горячее участие в судьбе двух русских женщин. Дочь священника стала ей ближайшей подругой.
Дядя из благодарности написал большую картину «Христос с детьми» и подарил церкви.
Опять остро стоял вопрос жилища. Экономили каждый пенни. И вот священник прочел в газете о продаже трейлера – вагончика за 400 долларов.
Весь день, пока Александра была на работе, священник караулил вагончик, отгоняя других покупателей, и трейлер стал их первым собственным домом после стольких лет скитаний. Это было истинное счастье!
Священник любезно позволил поставить вагончик в своем дворе и даже разрешил пользоваться своей уборной. Никогда в жизни они не смогли забыть того счастливого момента, когда вошли в свой собственный дом, который казался им необычайно уютным, милым и вполне просторным, хотя мать с двадцатилетней дочерью спали на одной кровати. Люди из церкви снабдили их всем необходимым.
Александра ежедневно ездила на работу и изучала Америку из окна автобуса. На работе шила блузки, выполняя отдельные детали и получая за каждую по 10 центов.
Ирина пошла учиться. Жили на крохотную зарплату матери, поэтому денег катастрофически не хватало. Девушка занимала их в русском студенческом фонде, работала официанткой. Единственным развлечением, которое они себе позволяли, было кино. Больше ничего!
Александра пробовала менять фабрики, и жизнь состояла из длинных фабричных этапов пути и разных хозяев.
О муже и отце они ничего не знали. Сначала пытались что-то узнать, писать, потом перестали ждать и надеяться. Непроходящая боль потери, обида, скитания заслонили тоску по Родине. Только – память!
Потом пути матери и дочери на время разошлись. Мать недовольно, с ревностью приняла Иринино решение уехать учиться в другой штат. Однако дочери очень хотелось отдохнуть от затянувшейся настойчивой и властной материнской опеки.
Александра переехала в Сан-Франциско, где проживало много русских. Обзавелась подругами, появился близкий друг, но решения быть верной памяти мужа не изменила. Осталась вдовой!
Так в труде, воспоминаниях и любви к дочери незаметно пролетело почти двадцать лет. Подступала старость. Но жизнь еще бурлила в ней, и опять проявились сила духа, природные способности и нежелание быть обузой, хотя дочь в это время имела уже возможность обеспечить матери достойную жизнь и отдых.
В один прекрасный день Александра прочла объявление, что требуются люди, хорошо знающие русский язык. Александра заявила о себе, прошла трехступенчатые тесты и длинную проверку и в свои шестьдесят лет выехала на работу в Вашингтон, где трудилась до семидесяти лет. Она никогда не рассказывала об этом периоде жизни. Это было время «холодной войны» с Россией, и, видимо, требовались надежные люди, умеющие молчать. Она пригодилась в свои шестьдесят лет, и последние десять лет ее трудовой деятельности были отданы службе, о которой никто из родных ничего не знает до сих пор. Но она была внутренне горда своей необходимостью стране, давшей ей пристанище.
Александра Мартыновна Лауниц прожила долгую жизнь. Ей приходилось бороться за выживание в разных странах. Долго живя в нужде, а потом довольствуясь немногим, привыкшая к скромной, без излишеств жизни, она провела остаток своих дней в великолепном, роскошном доме дочери и зятя в Принстоне и до конца сохранила некое эстетство, невероятную чистоплотность и любовь к порядку, чувство и понимание красоты.
Она до глубокой старости не потеряла памяти и имела аналитический ум и интуицию в девяносто лет. Интеллект ее не угас и после девяноста – она всем интересовалась и, читая книги (только по-русски), выписывала непонятные ей слова, чтобы потом посмотреть в словаре.
Александра Мартыновна поражала развитым русским языком. Английский она так и не освоила, прожив в Америке 50 лет. В отличие от дочери, приобретшей английский акцент, мать сохранила чистый русский язык без каких-либо территориальных стилей произношения. Забавно, что к тому же она на лету схватывала молодежный сленг, шутливо подстроившись к нему в разговоре. Не только понимала новый для нее стиль, но и принимала с доброй иронией.
Это было невероятно после полувековой жизни в чужой стране, тем более что по-русски она последние 20 лет говорила только с дочерью. Александра уважала Америку, прощая ей всё негативное от не принимаемого ею «американского образа жизни». Она была благодарна этой стране. Она жила в ней и болела за нее. И только очень глубоко была спрятана русская душа и боль за Россию.
Эта женщина оставалась властной до конца своей жизни, хотя иногда понимала свое неадекватное отношение к той или иной ситуации и старалась хитроумно выйти из неловкого положения. Однажды я была свидетелем, как она громким голосом на чудовищном английском в присутствии посторонних «учила хорошим манерам» шестидесятипятилетнего зятя – блестяще образованного американца, очень состоятельного бизнесмена, кормильца и поильца, в чьем доме она доживала последние годы своей жизни. Ирина тогда плакала и говорила: «Билл выгонит из дома маму и меня…»
Александра стремилась подчинить себе не только своих близких, но и животных в доме, удивляясь, почему птичка и кошка не выполняют намеченного ею распорядка… Она управляла до последнего дня своей жизненной силой, своими поступками, желаниями и смогла подчинить своей воле даже жизненный конец: она наметила себе день и место смерти и рассчитала всё до минуты, не желая умереть вне дома. Она ушла не немощной тенью, а быстро и на активной ноте, резко выказав раздражение противоречащему ее желанию совету.
Она сделала всё так, как хотела сама…
После смерти Александры ее единственная дочь Ирина, урожденная баронесса, пожилая, тихая и невероятно добрая женщина, встреченная нами в полночь на Принстонском перроне, осталась наедине с депрессией.
Женщина, готовая помочь всем, будучи к своим семидесяти годам одинокой, закомплексованной, грустной, неуверенной в себе, боящейся своего мужа-миллионера и грустившая в своем роскошном доме, сидя перед окном, выходящим в великолепный сад и огромный парк.
Я провела с ней рядом пару лет, дружила с ней, развлекала ее, угощала русскими пирожками и писала эту историю для очищения ее души от страшных воспоминаний, пронесенных через всю жизнь. Что-то было в ее прошлом до американской благополучной жизни тайное, глубоко запрятанное, чего она боялась. Может, немец, описанный в ее рассказе, не до конца понятный или что-то другое.
Две ее взрослые дочери были далеки от нее, хотя иногда навещали, что ее пугало; они называли мать Ирины «бабушкой, которая гладит белье» и не любили Александру.
Муж Ирины был занят работой, меценатством пианиста Е. Кисина, строительством шикарного русского ресторана в Манхэттене и своими делами, и хотя он приезжал в Принстон, как на дачу, каждые выходные с подарками для Ирины (платья, шляпы, сладости), она не проявляла радости; пугливо, как птичка, трепетала и была словно парализована, молча воспринимая его активность в доме, на кухне (он любил готовить), считая его порции спиртного, и ждала, когда он уедет в город. Мама, пока была жива, тоже не выползала из своего отсека. Они боялись, что он их выгонит.
У Ирины бывали суицидальные порывы, и однажды они удались…
Я уже не жила в Принстоне и узнала о трагедии по телефону, отчего долго не могла оправиться.
Всё думала: если бы я была рядом, этого могло бы не случиться. Она пошла за мамой!
* * *
В моем американском периоде жизни было и есть много интересного, удивительного и яркого.
Довольно много времени ушло на мою адаптацию и натурализацию как американского гражданина.
Процесс это был сложный, нервный и важный. Долгожданный и нужный. И наконец он завершился!
День выборов
Речь пойдет не о нашумевшем сатирическом русском фильме о выборах губернатора в России, а о дне выборов президента США.
В этот день завершилась моя четырнадцатилетняя дорога через бюрократические джунгли к получению американского гражданства. Именно в этот знаменательный для Америки день выборов впервые в ее истории чернокожий парень из бедных слоев населения преимуществом голосов победил на выборах и стал первым чернокожим президентом в истории Америки, заставив переименовать в народе Белый дом на «Барак Обамы».
Именно в этот день я присягнула на верность и любовь к Америке. Совершенно искренне…
День на Гудзоне только просыпался, а я, ошалевшая, ночь не спавшая и наглотавшаяся в темноте валокордина, ибупрофена, фестала и пилюль от изжоги, уже ехала в Ньюарк – нью-джерсийскую базу иммиграционной бюрократии.
Целых три недели я зубрила историю США, систему государственного устройства и чуток географии, собирала дрожащими от нервозности и многообразия руками тысячи бумажных документов и их копий, складывала и раскладывала их по этапам и по важности. Утешая себя рассуждениями, что эта бумажная волокита и сам экзамен (интервью, как они называют) – ничто по сравнению со здоровьем, жизнью и смертью и вообще с общечеловеческими ценностями, я старалась удержать хладнокровие, но нервы предательски вибрировали, кишечник куда-то просился, а голова чугунела.
В принципе, результат ожидаемой грозной процедуры не мог изменить ничего в моей жизни ни кардинально, ни в различных правах на жизнь в Америке. Но чувство солидарности с миллионами иммигрантов за всю историю Американского государства и ощущение ожидания огромного дара – американского гражданства – будоражили душу и весь организм.
Столько лет проволочек, ожиданий, надежд и чувства безысходности; долголетнее истероидное ожидание письма с важным грифом; таинственное исчезновение документов…
Однажды, ожидая в иммиграционном суде очередной бумажки, я наблюдала, как сверхупитанные чернокожие девушки швыряли папки с документами из углов, где стояли их столы, в середину зала в огромный контейнер. Некоторые бумажки вылетали из папок, как упорхнувшие из неволи птички, и их никто не ловил, оставляя на свободе, может, навеки. После этого зрелища, с трудом оправившись от шока, я не удивлялась, что мой оригинал свидетельства о рождении «приказал долго жить» и мое продвижение по бюрократическому лабиринту застряло где-то в темном, не подметаемом углу.
Наконец этот желанный день, сулящий избавление от чувства неполноценности среди счастливых и свободных граждан, наступил.
И вот со строгим письмом о дате и точном, по минутам, времени для явки, я еду на интервью-экзамен, в то время как все американцы прилипли к радио и ТВ в ожидании приговора на ближайшие 4 года.
Втайне надеюсь, что офицерам иммиграционного ведомства, ожидающим результаты голосования за пост президента, будет не до нас, несчастных просителей из слаборазвитых стран (сильноразвитые «туды неходють»). Ведь с приходом нового президента связаны новые надежды на счастливое будущее, обязательно с большими деньгами. К тому же большинство работников этого ведомства в Ньюарке – чернокожие, и возможный новый президент аналогичного цвета, сильно возбудив общественность, просто окрылил наиболее темнокожую ее часть.
По правде говоря, на мой социалистический взгляд, это действительно огромное достижение демократии в стране, где только 230 лет назад было отменено рабство выходцев из Африки. Черный президент в Белом доме? И вся страна в эти часы этого дня балансирует на острие нерва в ожидании результатов голосования. Общество и даже семьи раскололись на «за и против», охрипнув в спорах, погрязнув в ссорах, обидных репликах и испорченных вечеринках.
Но я о себе. В роскошном здании иммиграционной Фемиды чисто и тепло, сумки и карманы проверяют вежливо. В туалетах, правда, напряженка с туалетной бумагой (понятно, расход уж очень большой), но в офисе все организовано достойно: в стаи не сбивают, ботинки снимать не заставляют, стулья удобные, телевизор беззвучно светится, а трудновыговариваемые имена жаждущих свободы со всех концов земного шара звучат старательно и громко.
Офицеры встречают претендентов на право быть равными с ними около указанной объявлением двери, и люди с трепетом исчезают за ней.
В зале тишина, нависает темная аура эмоций – надежд и волнений.
Внешне всё достойно и обманчиво безмятежно. И никто не глазеет по сторонам, сосредоточившись на своих внутренних органах (имеются в виду сердце, мозг и другие, отвечающие за ровное дыхание).
Один из офицеров, высокий белокожий средних лет человек, объявляя фамилию своего очередного ответчика, каждый раз трогательно добавлял в микрофон: «Доброе утро!» и улыбался.
Это наполняло мою и, наверное, чью-то еще душу нежностью и особой благодарностью к этому, безусловно, доброму человеку, наверняка чувствующему состояние сидящих и подбадривающему их своей приветливостью.
Некоторые офицеры открывали из разных углов запертые изнутри двери и долго держали их, пока человек просачивался. Лица были не то чтобы приветливые, но доброжелательные.
Я уже страстно хотела себе того, который желал доброго утра, и ждала, раздумывая в эти минуты о главном – бежать в туалет сейчас или позже…
По немому телевизору кандидат в президенты голосовал, наверное, за себя, с улыбкой для камеры прицеливался бюллетенем к прорези ящика судьбы. А в зале ожидания – застывшие лица.
Но теперь, как говорится, о еврейском счастье…
Меня объявили, и я понеслась к двери № 2 с двумя большими сумками: в одной – тысяча бумаг, вторая – моя каждодневная, в которой есть всё, что может понадобиться в случае, если я окажусь на необитаемом острове. Или, как в прежней советской жизни, чтобы в сумке уместилась капуста, хлеб и колбаса с молоком.
Подлетев к другому концу огромного зала ожидания, я уперлась носом в запертую дверь. Никто не держал ее, чтобы я просочилась.
Пока я соображала, как бы с достоинством, прилично, не раздражая местных важных чиновников, попасть внутрь, дверь открылась, и я увидела весьма коренастого темнокожего, без возраста, мужчину в нетемном переливающемся костюме. Образ дополнял жуткий желтый, в картинках, широченный, сбитый чуть набок галстук. Хмурое лицо выражало важное достоинство, превосходство, подозрительность и недоверие к клиенту, то бишь ко мне.
Я, подобострастно улыбнувшись, произнесла: «Доброе утро!» – забыв, к ужасу (осознав это уже после интервью), добавить слово «СЭР», чем можно покорить любого чернокожего (и белого тоже, если он совсем не выглядит на сэра).
Он бормотнул в ответ и, повернувшись спиной, зашагал в свой закуток. Я засеменила следом, мысленно отмечая форму бритого затылка, телосложение и походку бандитов-братанов из русских современных фильмов.
Только я собралась усесться на один из двух стульев, как он рявкнул что-то вроде: «Стоять, сядешь, когда разрешу».
Я замерла в ожидании, в несколько наклонной позе намерения приложить зад к стулу, но он рявкнул невнятно. Кажется, у него была проблема с верхними зубами, потому что рот там был несколько «впуклый», может, оттого его дикция была нечеткой.
А может, это мой слабый английский давал себя знать, если я не понимала бормотания с явным акцентом, территориальное происхождение которого я не могла определить (муж позже сказал, что, похоже, он из Вест-Индии и что он не был рожден в Америке. Вот она, американская демократия – «Кто был ничем, тот станет всем!»).
Короче, он рявкнул: «Подними руку!» – и я, неожиданно для себя, вскинула руку вперед и вверх, как в фашистском приветствии. Он рыкнул что-то опять невнятное, и я, содрогнувшись от сделанного, согнула руку в локте, подняв кверху ладонь, и поклялась, что сегодня говорю правду, после чего он милостиво разрешил мне сесть и свирепо начал задавать вопросы, тут же строго указывая на мои ошибки в бумагах (где твое отчество? Кто дал тебе право его упустить? Ты получила разрешение суда для этого? Почему две буквы «Н» в нем, если в свидетельстве о рождении одна; сколько раз я посмела быть замужем и так далее.). Я обреченно ожидала расстрела на месте.


