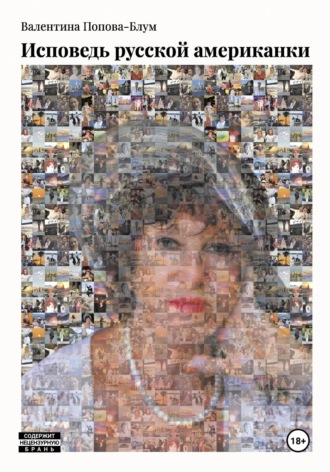
Валентина Попова-Блум
Исповедь русской американки
Бывает, что на культурное событие Нью-Йорка можно попасть и вовсе бесплатно.
Однажды я попала на бесплатный концерт, посвященный певице и бывшему администратору Метрополитен-оперы Беверли Силлз. Очередь тесно змеилась на огромной площади перед Оперой. Тысячи (!) людей стояли на солнце, спокойно разговаривая и ожидая организованной раздачи бесплатных билетов. И опять можно было взять два билета.
И мой муж – урожденный ньюйоркец, не имеющий понятия о таких чудесах, порадовался и концерту с первыми солистами, и встрече с известными людьми, рассказывающими о юбилярше, уже покинувшей этот мир.
Выступал и мэр Блумберг, и ее друзья Киссинджер и Барбара Волтер, и другие знаменитости.
И несколько тысяч человек наслаждались зрелищем бесплатно, вспоминая и отдавая дань этой весьма невыдающейся певице, но много сделавшей для Оперы даме.
Много раз, долго стоя в очереди (с подругой или книжечкой) за двадцатидолларовым билетом в Оперу, я восхищалась таким подарком – мэрии, как мне казалось, – людям со скромным достатком, позволяющим приобщиться к высокому искусству, пока кто-то знающий не объяснил мне, что это дары вовсе не щедрого мэра, а щедрой меценатки (к сожалению, забыла ее имя), оплачивающей оставшиеся непроданные или заказанные и не выкупленные билеты для небогатых фанатов оперы, жаждущих насладиться волшебной музыкой и невероятными постановками этого удивительного театра.
В один прекрасной год это прекратилось, и я узнала, что щедрая леди умерла.
Но через некоторое время подарочную эстафету перехватили другие меценаты и очереди страждущих вернулись. С благодарностью.
Можно купить и входной билет в Оперу, и вы будете стоя опираться на удобный парапет, обитый красным бархатом, как и весь театр, и перед вами будет крохотный экранчик с титрами на нескольких языках (русского нет, хотя нас там множество).
Да здравствует Искусство, доступное стремящемуся к нему народу!
А летом в августе перед зданием Оперы ставятся три тысячи стульчиков (жестких, и поэтому тут же продаются плоские подушечки с эмблемой Оперы по скромной цене) и можно увидеть записанные на HD оперы. Бесплатно. На площади, как бы в нише на Бродвее.
Спиной к Бродвею, перед фасадом Оперы, на котором между огромными фресками Шагала натянут большой экран, три тысячи человек и по полтысячи по бокам на теплом асфальте, как только стемнеет, погружаются в мир волшебных звуков и оперных сюжетов. Никто не разговаривает, не курит, некоторые попивают винцо (разрешено и тут же продается в хорошем выборе на лотках), жуют, лижут мороженое в полнейшей тишине, внимая и не тревожа соседей. А сзади и с боков светится и сверкает город.
Небо, звезды, луна и высоко пролетающие железные птицы делают зрелище фантасмагорическими. До трепета, восторга и волны благодарности…
Но я отвлекалась от рафинированного искусства. Ежегодные фестивали Линкольн-центра, проводимые в июле в течение многих лет, на которые билеты надо покупать в марте, иногда потратив около тысячи (из моего опыта) на недорогие билеты за полгода вперед.
Пройдусь для себя и для читающих «По волне моей памяти» по незабываемым впечатлениям.
Парижский «Комеди Франсез» привозил спектакль по басням Лафонтена, позднее свистнутых и хорошо переведенных на русский язык дедушкой Крыловым. Красиво оформленный и блестяще отыгранный, с роскошными костюмами и масками.
На японском театре «Кабуки» я, извините, совсем не «догнала» юмор от мужчин, переодетых женщинами, и шутки про естественные надобности и рефлексы.
Кукольный театр Резо Габриадзе с историей о войне глазами муравьев и их страданиями очень удивил углом зрения творца.
Его же спектакль с участием Барышникова, бегающего по сцене, изображая безумного бывшего летчика, представлявшего себя машиной. Интересная пьеса, основанная на реальной истории, в удивительном перевоплощении Барышникова, который молча двигался по сцене.
Странный спектакль, где тридцать тибетских монахов и один мальчик отобразили из картонных коробок на сцене все жизненные этапы человека как индивидуума и в коллективе, с намеком на популяцию, под очень странную, непривычную музыку. Было визуальное ощущение высокой философии.
Абсолютно потрясла музыка Монтеверди, исполненная в стиле кабаре, когда за столиками тесно сидят зрители-слушатели, наслаждаясь бокалом вина, его основой – виноградом, крекерами и сыром, ждут начала представления, удивляясь, где же сцена для артистов.
И вдруг за соседним столом чудный баритон начинает повествование, а тенор, сопрано и другой баритон из разных углов присоединяются и а капелла (без музыкального сопровождения) рассказывают о жизни и смерти, любви и ревности, драме и бытовых проблемах XVI века, так актуальных и сегодня.
Около каждого певца сидит молчащий актер, одними глазами, мимикой и иногда порывистыми движениями иллюстрируя музыкальные диалоги.
А ты только успеваешь поворачивать голову на звук, сдерживаешь слезы, чувствуя мурашки на коже и начисто забывая обо всем на свете…
Бывало, придя домой, я заставала блаженствующего под Монтеверди мужа, и от этих звуков вспоминала о загробной жизни, а мой жизнеутверждающий оптимизм не мог принять потусторонней неподвижности.
А тут такая махина чувств сваливалась на мозг, включая все органы восприятия, что до сих пор при воспоминании об этом музыкальном представлении разливаются в душе неведомые цветные волны…
Ну, конечно, были и странности, когда под музыку русской Леры Ауэрбах зрителям завязывали глаза, проводили под руки и усаживали на стул, предлагая почувствовать себя слепым. И, лишив зрения, тревожили слух мычанием коров, плачем ребенка, звуками природы и человека, музыкальными экспериментами или экскрементами (не берусь судить), и казалось, что или тебя морочат за большие деньги, или ты вовсе идиот, не догоняешь шедевров современности со своим консервативным старомодным вкусом.
В моем любимом «Армари» – огромном, на четыре блока (между Парк-авеню и двумя улицами в Манхэттене) красном здании, принадлежавшем военному ведомству (отсюда и Армари – оружие), где тренировались и маршировали военные из богатых семей и где иногда проходят зрелища и выставки, вследствие чего оно включается в состав помещений, где проходит Линкольн-центр фестиваль, – была интересная инсталляция-экспозиция: произвольно были расставлены стулья, скамьи, или люди просто садились на пол (как это здесь любят). Со всех сторон раздавались звуки – птиц, животных, техники, несмазанных дверей и телег, голоса, смех, плач, музыкальные вкрапления. Словом, все звуки мира и жизни. И войны, между прочим. И народ вертел головами, разглядывая много разного, в том числе и людей вокруг. Было ужасно любопытно и необычно, впрочем, как всё, что происходит в «Армари».
Даже Лондонский театр Шекспира представил там его пьесу в новом интерьере, необычном и объемном.
Трудно было понять привезенное однажды на фестиваль в Нью-Йорк японское садомазо XVI века, про которое нудно нараспев на своем языке рассказывает кучка японцев в луче тусклого света в середине сцены. Вроде и спать дорого и неудобно, но и следовать сюжету невозможно, особенно о японском житье-бытье и на их языке…
Можно параллельно читать титры, но не очень успеваешь, и в темноте глаза просто не хотели работать, а монотонность убаюкивала мозг. И предмет повествования был чудовищен: девушка из богатой семьи росла капризной, и служанка от зависти выколола ей глаза! Девушка стала садисткой, соблазнила слугу, и он как мазохист терпел ее издевательства. Все это было скучно, без чего-то колоритненького, что можно бы увидеть из представления о садомазо.
Боролась со сном в темноте отчаянно.
В один из июлей неизгладимое впечатление произвел спектакль, сыгранный на большом удалении от Линкольн-центра – на губернаторском острове, где раньше была огромная тюрьма и куда можно было добраться только на специально выделенном пароме для тех, кто потратился на билеты на спектакль.
Долго ехали, потом плыли, потом чапали по жаре мимо бывших тюрем. И пришли в большой амбар с лавками-амфитеатром.
Голландцы привезли пьесу Пазолини («коммуниста и педераста») о полном разрушении богатого благополучного европейского семейного очага пришельцем.
Но только после спектакля в голову пришло объяснение, по крайней мере, догадки о причинах такой значительной и труднодоступной отдаленности от Манхэттена.
По ходу спектакля разделись догола все персонажи, кроме собаки. И в таком виде подверглись сексуальному насилию со стороны пришельца.
Но случайно ли здесь (не знаю, как в оригинале у Пазолини) пришелец был явно арабской внешности, а буржуазная семья европейцев, вялых, скучающих в своем комфортном беспечном существовании, беззащитных, слабых, падких на порок людей, совсем не вызывала сочувствия в полном их унижении и социально-физическом уничтожении. Голые актеры (хорошо, что жаркий июль) подходили вплотную к первому ряду зрителей, давая убедиться в отсутствии телесных трико, и низко кланялись с надеждой на понимание высоких целей искусства.
Зрители в шоке машинально хлопали без обычной для Нью-Йорка неистовости, потом все мы молча вышли в душную темноту и долго брели в грустных раздумьях о судьбе Европы, а может, и Америки. И только на пароме, когда мы подплывали к сияющему торцу Манхэттена и перед нами открылся потрясающий обзор небоскребов-банков, корпораций, реклам и пьяненького народа на улицах, отлегло.
И появилась надежда, что, может, еще поживем и все обойдется…
Могу себе представить отклики и выплески зрителей, если бы это происходило в центре Манхэттена.
Хотя на ежегодных гей-парадах тоже навидаешься всякого! Но, правда, без демонстрации арабской угрозы разлагающемуся человечеству.
Интересен был и запомнился тоже в один из июльских фестивалей спектакль французского театра с маленькими трагедиями и комедиями из современной французской жизни. Тоже в «Армари». Огромное помещение по кругу заставили металлическими конструкциями, из которых составили ряды с сиденьями примерно для тысячи человек. А в середине на просторном подиуме находились большие круглые подставки, вращаемые и передвигаемые парой молодых людей в черном трико, невидимо ползающих по полу, двигая их. На один из круглых подиумов направлялся свет и разыгрывалась сценка из современной жизни французского общества. Светского и простонародного, из жизни молодых и старых, бедных и богатых.
И как только кончалась актерская миниатюра, свет падал на другой круг, а прежний отползал в темноту.
Запомнились несколько пронзительных миниатюр. Одна, без единого произнесенного слова, когда работяга приходит домой в грязной спецодежде, моет руки, садится за стол. Жена подает одно за другим блюдо, трогательно заглядывая ему в глаза и ожидая чего-то. Хоть слова. Он хмуро и устало ест, в лице безнадежность и безразличие, и, доев, отправляется спать, оставив жену с опустившимися руками и лицом. Молча!
И другая миниатюра, тоже без слов, кажется, вызвавшая просто поток слез.
Старики – муж и жена – сидят в креслах, и дверь (это всё, что на кругу), в которую стучит и пытается войти внук-наркоман.
Они не открывают, держа друг друга за руки, плача.
А за дверью (круг вращается) мальчик проходит все стадии эмоций – от мольбы о помощи, плача, тихих просьб до агрессии – в тяжелейшем состоянии абстиненции он пытается взломать дверь, чтобы получить деньги. Это было так страшно, правдиво, трагично и без разрешения ситуации. Они не открыли, и он валяется под дверью…
В перерыве всех зрителей пригласили вниз на подиум, мгновенно поставили длинные столы и подали домашние печеньки и чай. Актеры и дети, человек сорок, угощали. Было так трогательно, что люди с невысохшими слезами благодарили от души.
Вынула я из закутков памяти представление в парке, на природе, по Шекспиру. Там мы в числе немногочисленных зрителей (человек пятьдесят) пару часов ожидали на траве и протоптанных дорожках Баттари-парка прихода паромчика, перевозившего нас на остров.
А там мы, как идиоты, бегали за актерами, облаченными в одежды тех времен, со шпагами, по долинам и по взгорьям, холмам и полям. Останавливались в недоумении у «трупов», убитых в поединках, сомневаясь в нереальности происходящего…
Было смешно, но интересно. Артисты фехтовали и бежали на другой редут, а мы, зрители, трусили за ними в догадках, что же дальше. За это денег не брали. Но набегались мы до полусмерти.
Однажды купив билеты, как обычно, в марте, я долго ждала начала фестиваля в предвкушении впечатлений от созерцания прекрасного.
Начался он у меня с балета. На японцев после прежних мучений я не пошла.
Я выбрала Lincoln Center Festival, балет европейской труппы Rosas Faze, надеясь увидеть элементы хореографии Пины Бауш, гениальной, но непривычной и странноватой для консервативного русского вкуса и глаза. Моего, скажем.
Пина Бауш неожиданно сильно впечатлила меня – я узнала о ней из документального фильма «Пина», который за пару лет до этого номинировался на «Оскар» в своей категории, но не получил!
Тогда я посмотрела балет, если можно так выразиться. Балет походил на тест по психиатрии. Еле прошла. С трудом. Многие не выдержали испытания и выползли из зала.
Это напомнило, как в одном советском фильме показывали людей под психотропными препаратами, которые повторяли какое-то дикое движение снова и снова, без конца. Жутко было смотреть.
Сегодня я увидела это за немалые деньги.
Повтор движений (не более десяти) еще не караул. Можно рассмотреть в этом философию рутины жизни. Но повтор трех музыкальных тактов в течение пятнадцати минут с обозрением синхронных десяти движений вызывал желание заорать на весь зал или порешить из автомата ползала под эти такты.
Поэтому это и был тест на терпение и психическую устойчивость. Ползала не устояло и удалилось в душную реальность бытия, где психи не так сконцентрированы, а диффузно рассыпаны по улицам и помещениям.
Начинаешь ценить примитивную жизнь с ее маленькими радостями, и даже грязный, заплеванный и зассанный тротуар Девятой авеню умиляет реальностью.
И ты тихо отходишь от посещения психбольницы, стараясь выкакать это из памяти.
Но студентам, «балерунам и балериншам», было «пользительно» посмотреть на труд, упорство и настойчивость в старании войти в мир искусства. Даже сомнительного в данной точке и данном времени.
Я долго сомневалась, идти ли на второй балет той же психбольной «хореографши» или поберечь свою психику. Жадность победила. Хотела за свои шестьдесят баксов если не хлеба, то зрелищ! Подумала, что хотя бы послушаю музыку Бартока. И интересно было посмотреть, оправдано ли название «Микрокосмос» – что там в нем?
Та же хореограф и композитор Барток напоминали местами ожившего Модильяни. Четыре девахи в маленьких повседневных, будто несвежих черных платьях временами вульгарно задирали подолы сзади и спереди, иногда снимали подолы совсем, как бы иллюстрируя падение нравов, скакали козами по сцене, как по полю. Снимая нижнюю часть одежды, девушки выпячивали пятую точку, показывали мускулистые зады в белых тугих, словно резиновых трусах, выражая современные нравы средствами современной, так сказать, пластики.
Было удивительно и абсолютно асексуально. Хореограф Тереза, наверное, плохая ученица Пины Бауш.
Она по случайности сидела рядом со мной и была сама полностью лишена грации балерины (исключая анатомию шеи), женственного шарма в одежде и пластике обычных движений и одухотворенности в лице. Но своим обликом олицетворяла классическую психиатрию. Хореограф напряженно наблюдала движение на сцене, местами замирающее в полном герметическом молчании, когда зрители даже боялись кашлянуть (хотя в театре обычно посещает мысль, что в зале в этот день присутствуют пациенты туберкулезного санатория).
Люди боялись звучать не от драматизма происходящего на сцене, а от недоумения и от нежелания показать свою непосвященность и непонимание серьезного нового искусства… Ну чистый «Голый король».
Но местами было интересно посмотреть двигательные молчаливые взаимоотношения в паре и в женском коллективе.
Ощущая неполноценность от отсутствия восторженных эмоций при встрече с прекрасным, я вышла на улицу и случайно увидела афишу о сегодняшнем концерте Игоря Бутмана в Джаз-клубе на площади Колумба в пяти минутах ходу.
И понеслась после балета и Бартока на джаз. Да простят меня серьезные люди и музыканты за это всеядное обжорство, свойственное мне и в прямом, и в переносном смысле.
B огромном комплексе на площади Колумба (Бродвей / 60 Street для иногородних), на 5-м этаже здания Time Warner Center в Джаз-клубе Dizzy Gillespie стояла очередь за зарезервированными билетами и отдельно – короткая очередь, как я быстро сообразила, на остатки нераспроданных билетов.
Оказалось, что концерт Игоря Бутмана сегодня последний. Русских в очереди была половина. Когда меня запустили, музыка уже гремела.
Села я на «шесток» – высокие стулья у стены, совсем с краю, и официант принес меню. В темноте изучить его оказалось проблематично, музыка гремела, на маленьком подиуме уже буйствовал Игорь Бутман.
Есть я не хотела, да и пришла сюда не за этим, хотя по соседству несколько очень толстых людей жрали (именно так), аккуратно подбирая остатки пищи с тарелки, старательно и неловко пользуясь ножом, стараясь не показать свинский аппетит и пытаясь выглядеть светски респектабельно.
Я заказала свой любимый коктейль кайпиринью (из тростникового рома и лайма) в память о влюбленности в Рио-де-Жанейро – этот коктейль в Нью-Йорке правильно делают только в трех-четырех местах. Остальные заменяют дорогой бразильский тростниковый ром дешевой водкой.
Мы, закупая все ингредиенты и давилки-выжималки, ухитряемся делать этот коктейль дома.
Бутмана я видела на экране ТВ, он замечательно «саксофонил». Слышала восторженные отзывы и восхищалась им на телешоу «Ледниковый период», когда прославленный музыкант, как убеждали ведущие шоу, никогда раньше не катавшийся на коньках, рассекал лед, да еще таскал на себе партнершу, поднимая ее на руках и удачно бросая на лед.
Она была профессионалка и его возможную неловкость в броске безопасно купировала классным сальто и приземлением на лед ногами, а не другими частями тела.
Я искренне восхищалась храбрым и отчаянно дерзким знаменитым музыкантом, пробующим себя на новом поприще, опасном и для здоровья, и для творчества.
Он оказался невысоким, коренастым, но не мощным (вспомнила, как он таскал фигуристку, и подивилась его физической силе).
Такой свет от него шел помимо прожекторов: белокожий, рыжий, с курносым носом, совсем не отражающим фамилию Бутман, он искрился. Надувался, краснел арбузом, хулиганил в музыкальных импровизациях, шутил на сленговом английском, вертелся и извлекал из своего блестящего дружка фантастические зажигающие звуки.
В зале всё колыхалось, кроме жующих обжор. Они колыхались сами по себе. В зале было много черных, изысканно или экзотически причесанных. Все вертелось, звучало, шевелилось и бодрило. Огненная позитивная энергия рвалась из ртов, рук, ушей и глаз.
Не как на балете Roses, когда мучаешься между желанием заснуть или, заорав в голос, перестрелять всех окружающих, начав с хореографа, от монотонности движений танцовщиков и назойливого повтора тактов музыки…
Простите опять, эстеты (вернее, псевдоэстэты)… Но контраст – это тоже хорошо.
Бутмана мне постоянно загораживал один их таких экзотически причесанных, с пизанской башней на голове, напомнивший старое название начеса «вшивый домик» (вот уж где могли бы завестись даже крупные животные. Ведь эти прически на долгую носку. Правда, говорят, что их можно мыть). Кстати, я заметила, что в Америке люди не пахнут плохо, даже в транспорте. Наверное, моются каждый день или чаще. Сравнительное обоняние подсказывает.
Я вертелась на насесте, потом к пизанской башне подрулили суетливые официанты и вертучая белая официантка с обожанием на лице, а также другие обитатели бара и своими мельтешащими движениями совершенно скрыли мне весь большой оркестр.
Я, подобрав свою фальшивую кайпиринью (неправильно приготовленную), по совету любезного молодого русскоговорящего человека, вычислившего русскость по моему облику (я наших тоже обычно успешно угадываю) пошла вглубь бара, где у стенки позади привилегированных столиков сидели фанаты джаза. Но там между ними и сценой «никого не стояло».
В процессе протискивания я заметила в хорошем для обзора месте столик с тремя респектабельными черными.
Четвертый стул был не занят.
Поскольку я могу культурненько пристать к любому жителю планеты, а может, и космоса, я, верная себе, подошла к столику и попросила разрешение сесть.
Произошла короткая заминка – может, они не расслышали из-за джазового грома, – они переглянулись между собой и ладонью указали мне на свободный стул. Я кивнула, развернулась лицом к Бутману и боком и спиной к хозяевам столика и впала в звуковое блаженство. Чуть подогретая общим градусом настроения и легкого алкоголя. И джаза, настоящего!
Попробую описать первое короткое впечатление от сидящих за столиком.
Все были крупные и нестарые. Один был в шляпе, важный, с холеными тоненькими бакенбардами. Большими, навыкате, глазами и тяжелым оценивающим взглядом.
Второй – помоложе, приятный, улыбчивый. Третий совсем простецкий, в полосатой, как тельняшка, майке, тоже улыбающийся приветливо и подмигивающий, дескать, не робей.
Радостная от удобной удачной позиции, трясясь и качаясь в ритме джаза, притрагиваясь время от времени к соломинке в стакане, я утонула в музыке.
Музыканты были все русские, умилило, как потом Бутман, представляя их, перечислил всю географию бывшего СССР. Сопровождал шутками почти каждого из оркестра – кто-то приехал из самой глухой части Сибири, кто-то из Украины, из Питера, с Урала.
Зал принимал хорошо.
Бутман начал темпераментно и волнообразно переходить от известных классических джазовых мелодий к импровизациям на русскую тему. Тут были и «Катюша», и «Старушка не спеша…», и блатные – «Мурка» и другие. Прозвучали и нотки известной классики, подвергшейся джазовой аранжировке.
Всё в кучу и очень здорово.
Я в экзальтации повернулась и стала объяснять сидящим черным, что это русский музыкант, что это попурри из известных русских песен, классики и прочего.
Я пыталась под гром джаза объяснить кто такой Бутман. С улыбкой. Посмеивались и они тоже. Приятный и простецкий улыбались и кивали, что понимают, что меня тоже умилило. Важный в шляпе снисходительно двигал уголком рта.
В конце импровизационного блока все хлопали, а как только стало тихо, я неожиданно (а может, «ожиданно» для меня, учитывая мою персону) крикнула по-русски: «Спасибо!» Сидящие в зале русские (наверное) нестройным хором зареагировали, захлопали, поддержали.
Важные черные были довольны моей непосредственной живой реакцией, а Бутман подошел к краю рампы и по-русски сказал «спасибо», глядя прямо на наш столик, наверное, удивившись, как русская бабушка попала за этот столик.
Он продолжил играть, конвульсируя в такт и заставляя публику следовать ритму…
Я пыталась манипулировать с телефоном, чтобы снять фото или видео (что непросто при моей дружбе с передовой электроникой).
Сделала несколько снимков. Тут ко мне подошел, думаю, администратор, тоже чернокожий, и, обдавая меня ароматом дорогого парфюма, мягко и вежливо сообщил мне, что снимать не надо и что я вообще сижу за private table (персональный стол – авт.). Я задергалась, заизвинялась, а он предложил мне пересесть в другое место с его помощью. Я отказалась, обещав больше не вынимать телефон.
Он отошел. Однако очень скоро кто-то другой или тот же подошел уже с более настойчивой рекомендацией пересесть на другое место.
Я сказала, что хозяева столика разрешили мне к ним подсесть, и, обернувшись к ним, жестом спросила согласия. Что-то промелькнуло: жест ли, слово или просто взгляд – не поняла, но строгий служащий стал пятиться, умолял простить, двумя руками двигая воздух по направлению ко мне.
Я горячо поблагодарила улыбающихся снисходительно хозяев и развернулась к сцене, мысленно отметив возможную важность их персон и поздравив себя с удачным завершением нахального поступка.
Поклонение моим столохозяевам продолжалось, подтверждая, что они важные птицы.
К ним подходили и какие-то белые, и так же экзотически выглядящие чернокожие, что-то восторженно выражали, благодарили.
Мои красавцы за столом снисходительно принимали комплименты, улыбались.
Причем определить социальную иерархию моих новых знакомых я не могла, поскольку сидела к ним спиной. Но важностью этих персон прониклась.
С бандой (джаза) Бутмана выступала кудрявая смуглая красоточка.
Он представил ее, рассказав, как она прибилась к ним. И она через пару энергичных горловых импровизаций поведала на хорошем русском, что родилась в Москве и имеет доминиканскую наследственность от папы. Это, наверное, помогало ей издавать такие звуки. Я восхищаюсь только одной белокожей джазовой певицей – Джони Митчелл.
А Бутман почему-то все смотрел в сторону нашего стола, подмигивал и жестами как бы просил или обещал что-то, делал маленькие движения руками.
Заводной, живой и влюбленный в джаз Бутман, легко и мило исполняя американские мелодии, демонстрировал абсолютную свободу, непосредственность и естественность в этом южном, горячем афроамериканском ритме и мире.
Подошел отыскавший меня на новом месте официант, принесший коктейль, и спросил не хочу ли я чего-то еще. Я попросила счет и достала свой толстый (не от денег, а от нужных и совсем ненужных бумажек) кошель, доставая кредитку.
Я почувствовала шевеление за столом, и официант, кланяясь, попятился от стола. Я вопросительно посмотрела на простака в тельняшке и спросила зачем, ведь у меня нет проблем заплатить. Он забавно дернул плечом и показал на важного в шляпе: «Это он платит!» Я взглянула – важный величественно кивнул головой и сказал американское сакраментальное: «No problem».
Было неожиданно приятно.
Нет, по правде сказать, «ожиданно». Я сразу была уверена, что эти трое – настоящие джентльмены. И как-то патриотически благодарны за любовь к ИХ музыке.
Я подтрясывалась, впав в восторг даже с фальшивой кайпириньей.
А Бутман все поглядывал на наш стол и ждал чего-то. Он что-то быстро сказал, обращаясь к нашему столику, а я, обернувшись на соседей, пыталась определить, кому предназначены улыбки и призывы.
Вдруг зал зааплодировал, и некоторые зрители встали. Я, не понимая, в чем дело, вертела головой и вдруг увидела, как из-за нашего стола понимается этот милый простоватый человек и, чуть смущенно улыбаясь, под скандирующие крики и «Марсалис!» направляется на невысокий подиум. Торжествующий Бутман встает рядом.
Тот, кому предназначались бурные аплодисменты, берет в руки золотую трубу, и зал замирает. Полились звуки – резкие, ритмичные, раскатистые. Публика ревела…
Оказалось, это знаменитейший джазист, современный Армстронг, трубач Винтон Марсалис, о котором я много слышала от бойфренда подруги, бывшего джазмена из Тбилиси, даже создавшего панно, орнамент которого состоял из имен ста величайших джазовых музыкантов планеты, и рядом с Армстронгом там было имя Марсалиса!
Тбилисец мечтал лично вручить эту свою дорогую работу знаменитому трубачу.
Я знала, что он долго пытался выйти на него и связывался с администраторами, секретарями, чтобы встретиться, подарить и рассказать, как высоко ценит его талант и как он популярен в далекой России. Я тоже пыталась помочь, но безуспешно.
В конце концов он кому-то передал свой коллаж для Марсалиса, но реакции не последовало.
А тогда зал бушевал. Музыкант вернулся к столику, но никто уже не садился обратно. Концерт был окончен на высокой ноте.
Народ стоя аплодировал до звона в ушах. Важный шляпоносец, видимо, импресарио Марсалиса, стоял тоже.
Я вышла в теплую, ярко освещенную бродвейскую ночь.
Полночь плыла под луной.
На тротуарах местами валялись счастливые пьяные, бездомные или сумасшедшие. Никто их здесь не гоняет, и они спят, мирно подложив ручку под щечку.
Мой муж-ньюйоркец говорит, что у всех них есть шанс на теплую и сытную жизнь, но они выбирают Свободу!
И я, счастливая, с джазом в душе, шла по ночному Нью-Йорку, минуя через каждые три метра ресторанные двери и прислушиваясь к льющейся через дверь живой музыке.
По улице, как однажды после концерта пошутил мой муж, «шла тесная пьяная толпа любителей классической музыки».
Вдыхая в полночь аппетитные запахи лука, специй, мяса и тревожные – человеческой похоти и пороков, я счастливо «пилила» домой к своему дряхлому гению – мужу. И сердце билось в ритме джаза. Жизнь удалась, как говорит мой приятель!
Послесловие
Наутро, едва его дождавшись, я позвонила пожилому бойфренду своей подруги, тому самому бывшему джазмену из Тбилиси. Я рассказала ему о ночном приключении и встрече с его кумиром Марсалисом, надеясь, что он разделит мой восторг, удивится и порадуется.
Ожидая (по-женски) восторгов и охов, получила глоток хининного раствора из горечи, неудачливой старости, раздражения на сделанные по жизни ошибки, потери и неудачи (хотя устроен был совсем не плохо, уютно и сытно) и на ушедших. И на недооцененный Марсалисом его подарок, в который было вложено много души и труда.
От его разрушающего разочарования, пессимизма и уныния мой восторг угас, как костер под его мочой…
Надеюсь, вам будут интересны эти этюдики из нью-йоркской культурной (и некультурной) жизни.
Я очень ее полюбила, боюсь, навсегда, и никакое сравнение не перебьет ощущения причастности к жизни этого дивного города.
Июль 2014
Нью-Йорк
Я уже упоминала мое неожиданное увлечение Метрополитеноперой Нью-Йорка на фоне моей детской, юношеской, да и взрослой нелюбви к опере в России, но справедливости ради надо заметить, что ее было немного в моей русской жизни.
Русская опера была для меня скучна, невероятно дорога по цене и далека от моего жилья в близком Подмосковье, куда надо было в полночь возвращаться на электричке. Друзья и родные ею не увлекались, и я предпочитала балет.
И взмахом Судьбы, переместившей меня в близкий пригород Нью-Йорка, я вдруг я влюбилась в оперу и в Метрополитен-оперу, в частности.
Может, зрелость, но скорее всего невероятное высокое искусство, созданное коллективом потрясающе творческих людей, увлекло меня неожиданно глубоко и сильно. Я словно прозрела и увидела богатство и разнообразие человеческого интеллекта, оценила искусство!
И конечно, теперь мои финансовые возможности, время и свобода передвижения стали абсолютно иными, чем в моей скромной русской жизни, где высовывающимся могли отстричь голову уже в школе, вузе и на производстве. Как на газоне – всё должно быть вровень!


