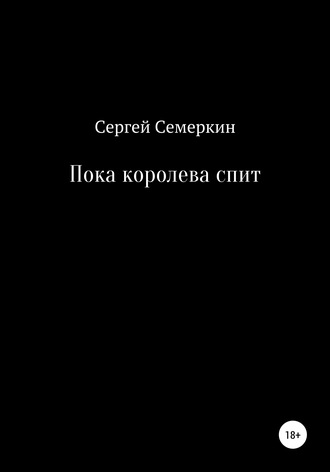
Сергей Владимирович Семеркин
Пока королева спит
Убийца
Мой «привет» Маркелу – стрела с белым оперением – достиг цели. Меня наняли, за хорошие деньги. И поручили убить нескольких потенциальных революционеров, включая Боцмана. Но вот незадача – пленник сбежал…
Не беда – пойду по следу, все люди оставляют следы. И беспечны те, кто не знает, что за ними идёт смерть…
Королева
Сначала принялась за "Искушение", потому что там тоже речь шла о королеве.
Королева накрасила ногти, накрасила губки, оделась слегка фривольно, посмотрела в зеркало. Осталась недовольна, недовольна не тем, что она там увидела, а тем, что она там не увидела. Да ещё и видение посетило одинокую королеву и это при живом-то муже… Да и не видение, а просто мечта! Такой призрак, каким бы хотелось его видеть. Идеал! До малейшего оттенка тёмных глаз, до шрамика над левой бровью, до неуловимых нюансов сильных и в то же время ласковых рук он походил на то, что королеве и нужно было сейчас. Она смотрела в зеркало и видела его и что-то ей подсказывало, что достаточно одной мысли, одного её знака, и он перешагнет через разделяющее их стекло… Понятно, что просто так, без причины, такие качественные соблазны не возникают. (А если заглянуть глубже? В мысли коронованной особы…) Где-то затаился автор. Ладно, подожду. Быть может, сдюжу и не поддамся, хотя неимоверно трудно глядеть в эти тёмные пропасти, обещающие наслаждения и… и… И не прыгнуть в них!
Королева оттолкнулась от зеркала – слишком сильно оно тянуло в свою обманчивую глубину – и быстрыми шагами подошла к окну. (И снова кто-то невидимый проник в неё.) Нет, небо с облаками не принесло желаемого успокоения, как и молитва, как и образ мужа. Она спиной видела объект своих страстей в зеркале. Слышимые мысли про себя: хоть я от него и отвернулась, он по-прежнему пожирает меня глазами. А руки… они были способны не только согреть и разбить тот лёд одиночества, что сковывал меня, но и… а как мне о них не думать? Как не чувствовать их, уже гладящих именно там… обламывая ногти, я распахнуло окно. Свежий воздух ударил в грудь – вовремя! Уж слишком всё идеально. Автора, автора в палаты!
(Кто-то улыбнулся и оторвался от наблюдения.)
Он появился во вторник сразу после дождя. Поначалу ничего не говорил, просто улегся на диванчик и стал обмахиваться платком, промокшим от соплей. Одет в чёрное трико и такого же цвета майку, на ногах потрепанный тапочки, на правой – дыра, из которой выглядывал ноготь большого пальца, совсем не прикрытый носком. Отвратительно зрелище! За довольно большими очками скрывались красненькие глазки, слезящиеся красные глазки, их-то он и обмахивал платочком, который держал за два уголка.
– Значит, скучаешь, – произнёс он свои первые слова.
– А тебе какое дело? – королева не считала нужным вежливо разговаривать с фантомом.
– Зачем же так резко? Мне до всего есть дело. Просто удивительно, как ты, взрослая, половозрелая женщина, изводишь себя воздержанием. Твой суженый далеко… воюет. Да и верность там тебе не хранит. А ты здесь ждёшь, ждёшь, ждёшь и опять ждёшь. Твои груди и попку никто не мнёт, в глазах никто не тонет, в волосах не зарывается, за талию не держит… – его взгляд скользнул ниже талии и всё сказал. – А комплименты? Конечно, я имею в виду настоящие комплименты, а не лесть придворных! Комплименты же на тебя не обрушиваются! А ноги? Твои ножки некому показать, не кружат они тебя в танце. Не кружат. Загар опять же…
– Что загар? – не удержалась королева.
– Загар, что обтягивает твою кожу плотной плёнкой, его же никто не соскребает ногтями, не собирает с него тепло. Ты как кошка в клетке ходишь туда-сюда, а что толку? Спину кому-нибудь когда последний раз царапала?
– Искушаешь?
– Ещё и не начинал. Это были факты.
– А чихаешь зачем, оспой сам себя заразил?
– Это цитата, по-моему, из Достоевского. Не мой писатель. Ничем я себя не заражал, банально простудился.
– Уси-пуси.
– Вот тебе и "уси-пуси". Мужика тебе надо!
– Сама знаю! – огрызнулась королева.
– Знать и ничего не делать для исправления собственной глупости – глупость вдвойне.
Королева взяла из фруктовой чаши яблоко и подошла к лежащему Искусителю. Она наклонилась, он заглянул за вырез чего-то воздушного и оценил воистину королевские груди. Королева закатила глаза и её губы уже были готовы соединиться с губами простывшего. Он поверил, его язык вышел на охоту… и был жестоко запихнут обратно в рот твердой мякотью яблока. Ему ничего не оставалась, как только хрумкнуть сочным плодом.
– Приятного аппетита! – сказала королева. Потом решительно подошла к зеркалу и взглянула в него так, что серебро отразило уже не мечту, а правду: прекрасную королеву, только что сделавшую свой выбор.
Искуситель ничего не сказал, лишь подумал: "Маленькая бестия!" и в этой мысли поровну было восхищения с досадой.
– Я ещё приду, – бросил он напоследок, но не так резко, как чуть позже бросил огрызок яблока в амфору.
Стало ещё хуже, но захотелось достать Достоевского – хоть в этом наблюдался позитив (положить бы его на мотив…) Дальше взялась за коротенькую зарисовочку "Разговор в постельных тонах", может хоть в ней я найду что-нибудь доброе и вечное?
Она запрыгнула ко мне под одеяло.
– Что ты ищешь? – спросил я у неё.
– Любовь.
– Нет, ты ищешь убежища. Ты бежишь. Ты бежишь от страха. Чего ты боишься?
– Не знаю…
– Знаешь. Ты боишься себя. Ты стараешься думать, что живёшь правильно, что ты счастлива и всё у тебя хорошо. Но это не так. Где-то ты свернула не туда и пошла по пути неискренности сама с собой. Ты улыбаешься и говоришь: «у меня всё очень хорошо», – с упором на слове "очень", и делаешь это так привычно, что никто вокруг не чувствует фальши. Ты действительно можешь убедить в этой лжи всех на свете, кроме Бога и самой себя. Но от Бога можно отмежеваться, создать иллюзию его отсутствия, не замечать. Все это можно сделать в принципе, в теории, а многие научились мастерски делать такие финты на практике, в том числе и ты. Но, себя ты не обманешь. Ты стремишься к гармонии, но она не достижима, так как в тебе есть маленькая незаживающая ранка. Её нельзя ублажить никакими кремами, её нельзя замаскировать самой навороченной пудрой. Её можно лишь прикрыть платьем, но от этого она не перестанет болеть. С каждой секундой боль нарастает, понемногу, совсем незаметно, но процесс неотвратим. Скоро ты начнешь трескаться, да, да – трескаться. Сначала ногти, потом, может быть, соски, потом суставы, и, в конце концов, ты просто развалишься.
– Я умру?
– Нет, ты исчезнешь, а это гораздо хуже.
– Но что мне делать? – она и до этого вопроса прижималась ко мне, но теперь практически слилась со мной, настолько её выдавливал из себя окружающий мир.
– Вернуться назад, к себе, к той искренности детской, которая в тебе ещё есть, слиться с ней и пойти другим путём. Многое придётся начать с начала, от многого навсегда отказаться. Будет очень больно, временами нестерпимо трудно. Но, если у тебя хватит сил, если характер не изменит тебе, если волна негативной энергии не захлестнёт тебя, а она не захлестнёт, если ты будешь безупречной, если сбудутся ещё тысячи "если", то тогда эта твоя ранка, имя которой я не называю, закроется, и ты перестанешь бояться, оставаясь наедине с собой. Только не спрашивай меня с чего начать и как действовать, я этого не знаю. Это знаешь только ты.
Она выскользнула из-под одеяла и стала одеваться, долго искала один из прозрачных чулок. Я закрыл глаза и сознательно не стал любоваться на то, как она надевает обтягивающее красное платье. Зачем? Я знал, что больше её никогда не увижу, и хотел запомнить это чудное существо обнажённой (прозрачные чулки не в счёт и туфельки – тоже не считаются… я не открывал глаза, так чуток приотжмурил одно веко…). Она ушла, ничего не сказав на прощанье. Я был этому рад и не рад одновременно. Нет, скорее всё-таки больше рад. Нет, точно рад. Да.
Если бы писатель не поставил в конце это "да", я бы его убила. Но как, интересно, я бы это сделала? Никак, также никак, как почитать Достоевского. Почему так мало весёлых книг? Почему так мало весёлых песен? Я больше не читала. Везде был Он и Она, кто-то кого соблазнял, убивал, учил, насиловал, спасал, обманывал, помогал. Везде действие было взаимным. А я одна. Я одна сплю. Без взаимности.
Шестой или седьмой – да кто их считает уже? – повар сплоховал: Жульен (так звали одного из молодых котов) подавился косточкой красной рыбы и предательским для повара образом сдох. Маркел этого так не оставил. Он повелел запрячь парочку лошадей и привязать к ним повара. Хлыстом он щёлкнул сам. Кони понесли, а всадники, что красовались на этих жеребцах не просто так, направили их бег куда надо. Направили мимо столба, но по разную его сторону. Один объехал слева, а второй – справа. А вот повар не объехал. Он перестал быть целым.
А мне почему-то захотелось, чтобы кто-нибудь спел мне колыбельную, колыбельную от которой я бы проснулась. Мечты, мечты!
Седьмой (или восьмой) повар готовил рыбу так долго – тщательно-тщательно косточки вынимал, – что его руки и ноги украсили кандалы и в таком немобильном виде он позвенел по пути скорби и страданий. Но он был рад такому финалу своей поварской карьеры, по крайней мере, на каторгу он шёл улыбаясь, ведь среди альтернатив – столб и кони… А восьмой (девятый, быть может) справляется. Пока.
Боцман
Прошла зима. Незаметно время летит в камере. Не знаю как в других, поэтому говорю только за свою, так вот в моей камере всегда было прохладно днём и холодно ночью, так что зима по сути себя никак не обнаруживала, не разоблачалась эта холодная дама перед смертниками, и не из-за гордости своей, вовсе нет, а из-за того, что стены у тюрьмы толстые, решёток много и лень через всё это к приговоренным пробираться. Лишь небо в краткие минуты прогулки стало заметно серее. Можно сказать, окрасилось в самый популярный и идеологически правильный цвет нашего королевства.
Только одна мысль, из посетивших меня в этой бесконечности однообразия и праздных бездумий, была достойна упоминания о ней. Однажды я лежал в состоянии между дремой и сном или между дрёмой и бодрствованием – их трудно отличить друг от друга. И мысль залетела в мой, продуваемый всеми ветрами, скворечник, и он ей понравился (как и она ему), и птичка-невиличка в нём поселилась, и стала обустраиваться и чирикать. Чириканье отражалось от стенок черепа и даже в дрёме я птичку запомнил. А мысль такая: вот люди живут себе живут и не замечают времени, точнее замечают – везде часы понатыканы, ритмы всякие забыться не дают: день-ночь, явь-сон, зима-лето, работа-отпуск… а вот если человек один, заперт в абсолютно тёмной комнате, где нет разницы между днём и ночью, между явью и сном, между зимой и летом, между работой и отпуском, а самое главное в нем нет тикающих часов и, что ещё важнее, нет других людей, напоминающих об ужине, обеде, завтраке и прочих мелочах – он один, так одинок, как никогда не бывает одинока единица, потому что у неё есть обязательно рука сотворившая эту цифру или мозг её придумавший. Вот как для такого человека течёт время? Да, я не сомневаюсь, что если поместить в место его отделения от остального человечества точный хронометр он покажет столько же прошедших секунд, сколько насчитает такой же хронометр на центральной площади нашего города, на которой каждый божий день толкаются сотни людей. А вот не для хронометров, а для самих людей время будет ли одинаково? В данном случае я не имею в виду мироощущения – мне на них плевать. Положишь свою ладонь на горячую сковороду и миг покажется вечностью, а с любимой девушкой вечность сжимается в миг – это понятно. Но что если (я много раз ещё повторю это слово) мы сами генерируем время вокруг нас, а? Не придирайтесь к словам, не генерируем, так создаем, не создаем, так приманиваем – только не знаю чем, а вдруг запахом приятным? И вот когда нас много – всё идет нормально, а быть может и хорошо, время ламинарными потоками спокойно обтекает нас, мы не замечаем разрывов и натяжек – потому что всё гладко, деформаций нет. Много генераторов создают равномерное поле или лучше было бы назвать его однородным. Совсем другое дело, когда человек один – он спит, ест, болеет, он может умереть, наконец – зависит ли от его состояния равномерность генерации времени? Не знаю. Тут и временные натяжки могут произойти и временные разрывы, и временные провалы или щели. Но самое главное – время будет другим, не таким как у всех – не однородным. Не индивидуальным, а именно другим. Толпа живет в равномерном и однородном потоке (не могу выбрать какой термин лучше, вот и употребил их сразу оба), а отделенный от неё человек – в жалкой струйке, которая может и турбулентно закручиваться (хотя может быть и строго ламинарной) и распадаться на отдельные капли… Конечно, гидроаналогия может быть совершенно неприемлема для описания процесса… А знаете, что самое страшное? Время ведь может совсем пропасть! Нет, я не верю в бессмертие человека отделенного от остального общества непроницаемой перегородкой, даже, скорее всего, он умрёт раньше, чем точно такой же человек, но не отделенный от человечества (если бы возможно было для чистоты эксперимента как-то сделать абсолютно идентичных друг другу людей), умрёт банально от скуки, от недостатка общения. Ведь люди – существа социальные, нам важно общение, поглаживание друг друга языками (в прямом и переносном смысле, то есть я говорю и о речи и о ласках). Опять же секс – я бы даже его поставил на одно из первых мест, в тюрьме особенно понимаешь важность секса в иерархии потребностей. А потом нам важно об этом поговорить ещё с кем-нибудь. Как уж без общения, без полной или пустой болтовни? Но. Но, может быть (ох уж эти бесконечные "может быть" и "если", но без них не получается), он умрёт раньше именно от недостатка поля времени правильной формы, удобной для нахождения в нем?
Кстати, я замечал, что когда смотришь на часы с быстрой стрелкой, то первая секунда всегда кажется дольше, чем её последующие сестрички. Много раз я это наблюдал. Взгляну – и секунда тянется и тянется, потом стрелка её отсечёт и остальные уже шинкует мелко и ровно – тик-так, тик-так, как будто в ритм с общественным временем входишь, а до этого жил в своем времени индивидуальном.
Вот примерные мои рассуждения. Они довели до ощущения запыленности камеры. Мне показалось, что я заворачиваюсь в кокон, чтобы из гусеницы стать бабочкой и улететь отсюда. Тик-так – время бежит, и я изменяюсь, деформируюсь – и деформирую тем самым временное поле вокруг себя. А пыль закапывает меня и паутина – не знаю, кто её плетет – меня обволакивает. Свет меркнет и воздух не долетает до меня, но мне и не нужны они больше, пусть свет озаряет другие глаза, а воздух освежает иные уши. Из этого пыльного состояния или состояния пыли меня вывел Живоглот. Он ударил только два раза: в живот и в челюсть. Два ребра сломались, и три зуба я выплюнул, но зато потом уже не думал, что я гусеница готовая стать бабочкой. Я – Боцман, вашу мать! Свистать всех наверх!
Однако моя временная теория всё-таки всплывала время от времени (простите за тавтологию, пережевываемую моим беззубым ртом) из реанимации, куда отправил нокаутом её уже я, а не мой тюремщик. Пусть не время мы генерируем, пусть определенного вида ману – какая разница как это называется, если это нечто есть. А вот если его нет – тогда другое дело! Называй как хочешь открытый тобой эффект, но ты – всё равно шарлатан, ничем не отличающийся от своих коллег, пытающихся впарить аборигенам острова Тумба-Юмба обыкновенный магнит или зеркало как диво-дивное и чудо-чудное и получить за этот ширпотреб дочь вождя, эксклюзивные права на полезные ископаемые, скрытые в недрах острова, и бусы, сделанные из зубов акулы. Надо будет в следующий раз продать идейку лупоглазикам, они, естественно, как это всегда бывают, всё раскритикуют сначала… Но, глядишь, годика через три, или через три столетия научимся управлять временем, или маной или человеческим потенциалом ротороидальной формы… Перспективы ощутили? То-то. И назовут эффект главный, или переход, или силу, моим именем, лупоглазики на счёт авторских прав честны до абсолюта – Боцманским эффектом, наблюдаемым в массах скопления людей (или как там по-научному наше обезьянье племя зовется) при плотности сознания большей чем… как эта любимая буковица математиков зовется… эпсилон… – точно, эпсилон. При плотности сознания большей, чем эпсилон, а потом сноска для эпсилон большей чем что-то, меньшей и равной нулю, если она может быть равной нулю, хорошо бы, если она могла бы быть ей равной – мне всегда это нравилось. Тс-с – не шумите мысли – обед разносят! Вот так всегда, как только, что-то в черепушке зашкворчало – так сразу не дают подумать о вечном, подсечь почти выловленную рыбёшку, поймать редкостную бабочку, срезать белый гриб с тремя шляпками… Баланду принесли и никаких грибов, рыбёшек и даже бабочек в ней не плавало. Но и теплая баланда без мяса лучше отсутствия всякой баланды…
Когда я уже начал терять счет дням; когда я перестал различать день и ночь; когда я уже не осознавал, где я, а где охранники; когда я запутался во времени и не видел различия между прошлым и настоящим, а вот будущее мне иногда удавалось придумать, а значит и отделить от всего остального, впрочем, иногда я придумывал и настоящее или прошлое – и грань между ними тоже стиралась; когда сон о тюрьме стал переплетаться с явью тюремной; когда случилось ещё много таких же "когда", я услышал нетюремный звук: "Дзынь" – громко и бодро сказало зарешеченное густой и толстой решеткой крохотное окно под потолком. Осколок толщиной в палец (на стеклах, как и на решётках здесь не экономили) упал ко мне на колени. В это судьбоносное время я сидел в позе лотоса на шконке и ничего не делал. И что-то ещё упало и покатилось по полу, что-то тяжелое и круглое. Как оказалось, это был стальной шарик, который и пробил стекло окна моей камеры. Я оживился, ведь если шарик пробил стекло, значит, его кто-то с большой скоростью запустил в цель, а можно сказать, что шариком кто-то – несомненно, живой и свободный! – выстрелил в окно. Тюрьма располагалась на отшибе Юго-западных трущоб нашего в целом красивого и ухоженного города и отстояла от других зданий не меньше, чем на сто шагов. Так что даже чемпион по киданию разных предметов не смог бы добросить до моего окна шарик, а тем более не смог бы им пробить толстое стекло. А уже из этого следовало, что кому-то очень было надо попасть шариком ко мне в гости – и, наверное, не только шариком, ибо сам шарик хоть и обнадежил меня самим фактом своего существования, все же не мог ничем помочь простому узнику (каковым я являюсь) выбраться на волю.
Последствия не заставили себя долго ждать. В образовавшеёся отверстие в окне просунулось что-то узкое и стало падать, я подхватил это что-то, оказавшееся напильником, который мне подарили лупоглазики во сне и который мне передал Боска уже наяву. Я не стал долго созерцать напильник или задумываться, чем эта мелочевка может мне помочь – я сразу стал перепиливать язычок замка, хотя правильнее было бы назвать его язычищем – он был шириной в четыре пальца, благо щель между косяком и дверью позволяла свободно орудовать моим тоненьким инструментом. Вот тут-то напильник и показал себя. Иногда у нерадивых хозяев тупится кухонный нож и таким миролюбивым орудием бывает не очень-то приятно резать чёрствый хлеб, согласитесь, что у нерадивых хозяев наряду с тупым ножом часто оказывается и чёрствый хлеб – на то они и нерадивые хозяева. Примерно с таким же надрывом я напильником резал плоть язычища замка. Минут десять ушло на всё про всё.
Ещё десять минут – и в коридоре уже два узника, за час мы освободили семерых – дело пошло быстрее, нас подгонял запах свободы. Пару пьяных охранников, которые играли в карты, мы удавили бесшумно, ещё четверых зарубили, заломали, разорвали зубами с шумом, никем не услышанным. Живоглота решили схавать всем скопом – мы не дали ему шанса и, открыв дверь в его каптерку, выпустили две стрелы из арбалетов. Живоглот сказал: "Бульк" и стал похож на жука, атакованного муравьями – в качестве муравьев были мы, злобные арестанты, приговоренные к смерти, мечи поднимались и опускались, превращая живоглотскую тушу в нарезанные кругляки колбасы с костями. Я специально не конкретизирую, кто что делал – мы превратились в коллективный мыслящий организм, озабоченный лишь одним: как бы скорее выползти наружу и этой мысли он (то есть мы) предавался всецело и безупречно. А у другого комка плоти так и не сравнялось количество крестов с числом звёзд на мундире, но по этому поводу комок уже не комплексовал – ему было действительно пофиг до всего. Отдельные члены охранного организма гибли и жаждущий глотка чистого воздуха полосатик, состоящий из заключённых (робы в тюрьме полосатые: полоска серая, полоска темно-серая), бился до тех пор, пока не осуществил свою мечту – обрести небо вверху, землю внизу и горизонт вокруг. И уже только после этого великого обретения себя, полосатик распался на отдельных мыслящих существ, и одним из них осознал себя я. Кто? Да, Боцман, Боцман… улыбаюсь щербатым ртом.
Так началось восстание, или революция – мы не думали, что мы начали, просто подняли на уши всю тюрьму, потом вырвались в город, а… вот простые жители не поддержали нас, и начался период в моей жизни под названием "Подполье". Впервые я жил не у себя дома, не у друзей, не в тюрьме. Впервые был вне закона постоянно, впервые лес стал моим домом, а ближайшей перспективой – виселица.
А описываю я всё от безликого "мы", потому что в этот период моей жизни, я почти полностью растворился в личности Ардо, который во всяких смутах, а также в побегах или скитаниях чувствовал себя как ползунок под потолком. По его выражению, он описал – в прямом смысле слова – все верстовые столбы в нашем королевстве. Его часто судили в молодости, он собственными ножками протопал в кандалах много этапов и, несомненно, подмочил репутацию многих верстовых столбов.







