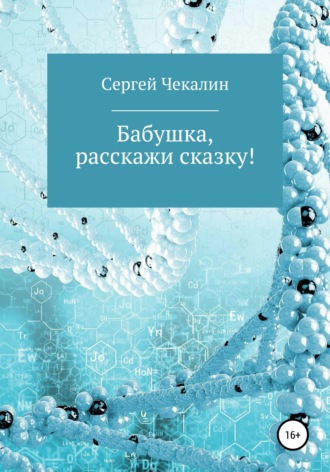
Сергей Иванович Чекалин
Бабушка, расскажи сказку!
Наша квартирная хозяйка, тётя Маша, была моложе дяди Миши примерно на двадцать лет. Люди они были добрые, хорошие, компанейские. Дяде Мише было тогда под семьдесят лет. У них часто бывали сборы-компании их многочисленных родственников. Выпьют, напоются песен, когда и разругаются, а потом приходят на другой день помириться. С нецензурными выражениями у них было совсем свободно, у всех, у хозяев и их гостей. Нам говорили: «Вы не слушайте». Или: «Серёжа (или Миша), ты уж прости, но как же ещё сказать?» А мы и не обращали на это никакого внимания. Да и в деревне-то это воспринималось как само собой. Правда, в нашем доме, у Чекалиных, никто никогда нецензурным словом разговор и дело не украшал.
Хозяин и хозяйка квартиры, а также и их родственники, курили нещадно. Кто что. Дядя Миша (Андрей Иванович называл его – «дед Мишка», да и мы – тоже, на что он, естественно, не обижался) и тётя Маша использовали только самосад, другого им просто не хватало для крепкого вдоха. Дядя Миша сам выращивал этот самосад. Хорошо помню, как он его сушил и перемалывал на махорку: исключительная в доме была в это время атмосфера – стоял сплошной чих, особенно у заготовителя. А Андрей Иванович был астматик. Когда уж совсем невмоготу было, взмолится, что двери, хоть, давайте откроем.
Пальцы у «деда Мишки» были очень толстые, поэтому сигареты для курева («козьи ножки») у него получались очень вместительными. Тётя Маша старалась сама ему скручивать эти сигареты-папироски – всё меньше расход махорки. Когда махорка заканчивалась, то покупались папиросы, «Беломорканал» или «Север», но со строго установленным лимитом расходования. Дело в том, что это, всё-таки, расход, для них – сравнительно большой, при практически непрерывном курении в течение дня. Ведь они получали только свои небольшие колхозные пенсии, установленные при Н.С.Хрущёве (сначала 8 руб. 50 коп., а потом – 12 руб.). За пользование квартирой с нас с братом они получали 20 рублей в месяц (по 10 рублей с человека), да и с Андрея Ивановича ещё 15. Но наши деньги не весь год, а только на период части осени (ноябрь), зиму и части весны (март и половина апреля). Андрей Иванович тоже квартировал только до времени, когда можно было пользоваться транспортом (он ездил на мотоцикле).
Дядя Миша («дед Мишка») до революции, да и потом, во время НЭПа, ещё молодым, работал у какого-то коннозаводчика, а на ярмарке коннозаводчиков в Полетаево был маклером по продаже лошадей.
А то усядутся в карты играть, в «дурака». До посинения, со счётом, кто больше остался, с обидами. Андрей Иванович с ними часто играл. Он играл без обид, но с азартом, игра всё-таки. Когда Андрея Ивановича не было, а вдвоем хозяевам было не так интересно играть, то приглашали меня, пацанёнка. Играл. Только шторы завешивали, чтобы в окно с улицы не увидели. Учительские дома стояли как раз напротив дома наших хозяев. Брат мой никогда не играл, не любил. А я в карты до сих пор люблю играть, в преферанс ли, в «дурака» ли (подкидного) или ещё во что. Оттуда, наверно, и пошло.
Вообще у наших хозяев компания была весёлая. Часто они собирали своих родственников на великие и малые церковные, государственные и свои (местночтимые домашние) праздники. Обязательный сбор был на именины Михаила Алексеевича, на Михайлов день (день Архистратига Михаила), который празднуется 21 ноября. Тем более, что в этот день в Полетаево престольный праздник, по бывшей церкви Архангела и Архистратига Михаила. Её закрыли одновременно с главной церковью Покрова, что находилась в Рудовке. При нашей учёбе остатки этой церкви Архистратига были клубом. Тётя Маша рассказывала, что когда закрыли эту церковь, то часто в её подвалах слышали плач Богородицы (вероятно, имелась в виду местночтимая Вышинская икона Богородицы).
Выпивали у них, конечно, потом пели песни. (Из спиртного у них была только водка и вино – портвейн, сухое вино им не нравилось. Самогон они не изготовляли, как говорил Михаил Алексеевич, не надо, мол, связываться с государством, дороже выйдет.)
Михаил Алексеевич всегда был дирижёром. Такт задавал правой рукой со средним коротким пальцем, который где-то отхватило ему в пору его бурной молодости. И чтобы ни-ни! Ни вперёд не заскакивать, ни назад. А песни пели очень разные. «Пряху», например. Но дядя Миша всегда в ней вместо «В низенькой светёлке…» обязательно пел, и все за ним, «В низенькой халупке…». (Это как в недавней телевизионной передаче в сентябре 2020 года в конкурсе «Голос 60+» один из конкурсантов спел вместо «Живёт моя отрада…» «Живёт моя красотка…», на что ему сделали замечание. Но «деду Мишке» никто замечаний не делал, все пели за ним, как и он, потому что никакие возражения не принимались.) Песни «Ой, мороз, мороз», разные про ямщиков, «Коробейники», простые и с другим лексиконом, не совсем нормативном. Пели «Хаз-Булата удалого», про Стеньку Разина, про бродяг («Славное море священный Байкал», «По диким степям Забайкалья») и другие, как их называют – «застольные». Но это я сейчас, почему-то, обратил внимание на то, что они пели и песни, которые в деревне за столом тогда не пели, да и сейчас не поют. «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «Москва златоглавая», «Ах вы, кони, мои вороные», «Дремлют плакучие ивы» и другие. У них я услышал впервые «Серенаду» на слова Владимира Соллогуба («Накинув плащ, с гитарой под полою…»). Поскольку эта песня весьма редко исполняется, то я приведу её слова.
Накинув плащ, с гитарой под полою,
К её окну приник с тиши ночной,
Не разбужу ль я песней удалою
Роскошный сон красавицы младой.
О, не страшись меня, младая дева!
Не возмущу твоих прекрасных снов
Неистовством разгульного напева –
Чиста и песнь, когда чиста любовь.
Я здесь пою так тихо и смиренно
Лишь для того, чтоб услыхала ты,
И песнь моя есть фимиам священный
Пред алтарём богини красоты.
И, может быть, услышишь серенаду
И из неё хоть что-нибудь поймёшь,
И, может быть, поющему в награду
«Люблю тебя» – сквозь сон произнесёшь.
Пели и другие романсы на несколько голосов, которые я после только через большое время и услышал. Скорее всего, что эти песни пришли из их прошлого, из родительских домов времён «до революции». А уж эти деревенские застольные песни наложились на старые в связи со сменой политического климата. По дяде Мише не так видно было, что он из бывших богатых. А вот на его сестре, Любови Алексеевне, это было написано. Да и все они грамотные были, и, несмотря на матерные слова, проскакивающие в их разговоре, говорили складно и по делу. И уж как им было не материться, если у них на памяти, ещё совсем недавно, были их богатые дома? Прямо здесь же, в Полетаево.
И ещё одна особенность, отмеченная в рассказе Фазиля Искандера «Начало» в отношении москвичей:
«Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, – это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают настенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.
– Тише! – встряхивается вдруг кто-нибудь и подымает голову к репродуктору. – Погоду передают.
Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить её в неточности. В первое время, услышав это тревожное: «Тише!», я вздрагивал, думая, что начинается война или ещё что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, не слыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности как будто тоже не ждут. Так в чём же дело?»
Вот так же и Михаил Алексеевич. Как только начинают передавать прогноз погоды (но не на Полетаево, и даже не на район, а на Тамбов, который от нас на расстоянии 120 километров), он поднимал правую руку с вытянутым вверх пальцем – тогда уж всем надо было затихнуть, во избежание каких-то неприятностей. Он, конечно, не москвич, но тут уж можно поправить Ф.Искандера, что, вероятно, такая особенность в отношении прогноза погоды не только у москвичей.
Из домашних животных у них был просто громадный кот, которого привезла из Сибири (вероятно, из Новосибирска) семья дочери Марии Никитичны. Кот был просто громадный, да ещё и сильно пушистый. Нрава он был особого: мышей не ловил ни в коем случае, любил полежать у кого-нибудь на коленях, причём, столкнуть его было просто невозможно. Валя, моя сестра, помнит этого кота: она познакомилась с ним, когда как-то зимой вместе с мамой они приезжали навестить нас с Мишей на эту квартиру либо к хозяевам квартиры с какими-то делами по нашим же вопросам.
В семье дочери Марии Никитичны было двое сыновей. Фамилия их отца была Неправдин. Вот как-то получает Мария Никитична письмо от них, а в обратном адресе стоит фамилия Правдины. Оказалось, что оба сына пристали к родителям, давайте, мол, сменим фамилию, а то просто в школе задразнили. Сменили на другую, более удобную по содержанию и произношению.
У Михаила Алексеевича была дочка, но не замужем. Она тоже проживала где-то далеко. Но с отцом общалась письмами и приезжала в гости…
До пятого класса у нас в деревне была начальная школа, которая обслуживала все близлежащие деревни. В эту начальную школу ходили и мои родители, мои тёти со стороны мамы, Александра и Мария, тётя Сима – со стороны отца. Да и все, кто тогда жил в Красном Кусте и близких к нему деревнях. В начальной школе работали при мне две учительницы, Клавдия Семёновна и Полина Сергеевна (фамилий их я, к сожалению, не помню). Клавдия Семёновна жила при школе, а Полина Сергеевна приходила каждый день из Полетаево, потом, позже, она квартировала в Масловке, в соседней с нами деревне. Всё раза в три расстояние поменьше было. В Калиновке, которая находилась на юго-востоке от Красного Куста, была своя начальная школа. В ней работала Анна Александровна Незнанова, подружка моей тёти, тёти Тони. Анна Александровна ходила на работу в эту школу из нашей деревни, там же и снимала квартиру. Казалось бы, при перестановке мест слагаемых, удобнее было бы работать ей в нашей же деревне. Но, как полагали у нас в семье, уходила она из дома на неделю от домашней работы. С детства её от этой работы оградили, так и осталось. А домашним хозяйством занималась её мать, тётя Люба, отец, Александр Степанович, да ещё тётка её двоюродная, Клавдия, которая жила в их доме с детских лет на неизвестно каких правах. (Она была приёмным ребёнком в семье дедушкиного брата Чекалина Михаила Васильевича). Существо, исключительно не требовательное к себе. Хозяйством Анна Александровна не занималась, не приспособилась, поэтому, когда умерли её родители, она переселилась в Токарёвку, оставив всё хозяйство вместе с половиной дома на Клавдию.
Анна Александровна очень хорошо играла на аккордеоне. Мне кажется, что музыкальный слух у неё был довольно хороший. Когда к нам приезжала тётя Тоня, то она обязательно бывала у Незнановых. С Анной Александровной она дружила. Выйдут на улицу, сядут на лавочку у дома, Анна Александровна что-то играет на аккордеоне, и вместе поют. А то и тётя Тоня примется плясать с частушками. Для этого – никакой, конечно, выпивки. И народ соберётся послушать и посмотреть. Всё-таки развлечение. Когда появились у нас Костины (Пётр Константинович был управляющим нашего отделения совхоза «Полетаевский»), то очень часто в нашем клубе перед фильмом был импровизированный концерт: на гитаре играла Ксения Андреевна, жена Петра Константиновича, а на аккордеоне – Анна Александровна. Помню, что часто пели песню, в которой есть слова «Взял бы я бандуру, тай спевать бы стал…». Анна Александровна организовала в Калиновской школе театральный кружок, с которым гастролировала по окрестным клубам. Но этих окрестных было всего два, у нас, в Красном Кусте, да и в Полетаево. Кажется, что они ездили и в Токарёвку, в районный центр, с выступлениями, и даже занимали там какие-то призовые места. А в нашей окрестности лучше этой концертной группы не было. Конечно, силы и духу в организации и проведении концертов Калиновской школы придавал энтузиазм самого руководителя, Анны Александровны, тем более – и исполнительницы многих номеров совместно с учениками и музыкального сопровождения выступлений. Нельзя даже и сравнить с ней нашу Клавдию Семёновну или Полину Сергеевну. У них таланта на такое совсем не было, но учителя они были очень хорошие, грамотные. Но и Анна Александровна учила очень грамотно, я просто не помню, чтобы кто-то из Калиновских ребятишек в чём-то по учёбе отличался от нас.
Когда мы с Незнановым Сашей ездили в Полетаево на 25-летие окончания школы, летом 1991 года, то мы встречались и с Анной Александровной (она – Сашина двоюродная сестра). Поезд из Москвы пришёл рано утром, до автобуса на Полетаево было ещё много времени, вот мы и пошли к ней домой. Она очень обрадовалась, меня сначала не узнала, а когда Саша ей сказал – кто я, она настолько стушевалась, что стала меня называть Сергеем Ивановичем. Она, по старой памяти, сыграла нам на аккордеоне. Поговорили о моих родителях, о жизни в Узуново, передала всем им большой привет. На том и расстались…
Так вот, в начальной школе на четыре класса было два учителя. И помещений с партами было два. В одном помещении учили первый и третий классы, а в другом – второй и четвёртый. Как учительницы наши умудрялись за сорок пять минут одновременно с двумя разными классами управляться, ума не приложу? Но, вероятно, ум свой они прикладывали грамотно, поскольку я, например, дискомфорта от учебы в начальной школе не испытывал, не помню каких-либо помех всему, что требуется для пятого класса и далее. Нас научили не хуже, чем при общении один на один, учитель – класс.
Впрочем, такое было не только у нас, похоже, что по всей стране начальная школа была двухклассная в отношении помещений. То же самое описывает и известный генерал П.Г.Григоренко в книге «В подземелье можно встретить только крыс…». В их украинской деревенской начальной школе было тоже два учителя, Ольга Ивановна и Афанасий Семёнович Недовесовы. Но их помещение было одно, большое, разделённое перегородкой. При необходимости, когда оставался один учитель, перегородка убиралась, и учитель вёл занятия сразу в четырёх классах…
В школу я пошел в 1955 г., мне не исполнилось ещё шести лет, только через месяц исполнилось. Я уже мог читать бегло, писать, дедушка Василий меня научил. Помню, что дал он мне для этого карандаш и разлинованные горизонтально листочки серого цвета из своей тетради (амбарной книги). На одном из них он написал все буквы, печатным шрифтом, а я потом срисовывал их такими же с параллельной подсказкой дедушки – какая это буква. Книжек для чтения у нас в доме не было, выписывали только газету. Вот по ней я, практически, и научился читать. Легче стало, когда Миша пошёл в школу. Я уже стал читать все его учебники. Сначала, конечно, букварь, а потом и арифметику. Алфавит для письма и само письмо (рукописными буквами) я учил параллельно с Мишей. Этот предмет в школе тогда назывался «чистописанием». Сначала карандашом, палочки, крючочки, а потом и чернилами то же самое, потом – буквы, с нажимами в определённых местах букв. А потом уже и слова, целыми страницами в тетради, разлинованной косыми линиями.
Когда по домам ходили записывать в школу, я тоже попросился, но мне отказали. Дошло до слёз, так хотелось в школу. Чтобы успокоить меня, учительница, Клавдия Семёновна, сказала, что записала меня. А я попросил посмотреть, но свою фамилию не увидел. Я и рукописное письмо мог не только писать, но и читать. Опять в слёзы. Но уж на этот раз сдалась Клавдия Семёновна, родители были согласны. Потом ей пришлось объясняться с отделом народного образования за такие неразрешённые вольности. Обошлось дело, по-моему, выговором…
Занятия в школе заканчивались в субботу. На воскресенье все расходились из Полетаево по домам, а утром, в понедельник, – весёлой толпой к знаниям. Зимой, если погода была подходящая, то мы все одной компанией шли домой. Кому по пути, те вместе и шли, с пятого по десятый (а потом и одиннадцатый) классы. Младших одних не отпускали. Тем более, что детей-то в семьях было по нескольку. Приди-ка ты, восьмиклассник, домой без брата или сестры пятиклассников. Обратно и пойдешь, встречать. Если зимний день был ненастным, сильный мороз или, чего доброго, пурга, то провожающими с нами уходили, а потом и возвращались снова в Новосельцево, наши учителя-мужчины. Чаще всего в нашем направлении провожающим был Виктор Николаевич Ходяков (помню, однажды, когда Виктор Николаевич заболел, провожатым у нас был учитель математики Шабанов Виктор Иванович). В.Н.Ходяков курировал наше направление: Красный Куст, Пичаево, Верблюдовка, Калиновка и другие ближние деревни. Учителя разводили нас по домам и во время половодья, на весенние каникулы. Помню, что в ненастную погоду Виктор Николаевич доставлял всех нас, со всех наших ближайших деревень, только до нашей деревни, Красного Куста. А потом уже все разбредались по своим гнёздам, кроме Калиновских, за которыми снаряжали к этому времени своих, местных поводырей.
Часто успевали перебраться домой ещё до срыва плотин. Но однажды, я учился в классе шестом-седьмом, не успели. Сорвало верхнюю Воробьёвскую плотину, и началась цепная реакция. Когда мы подошли к переправе, к Авиловой плотине, последней в цепочке наших прудов, дальше уже шли Масловка и Полетаево, голоса рядом не было слышно. А на другой стороне – наши родители. Верх плотины ещё не успел промыться, вода намётом шла через мёрзлую насыпь.
Всех нас переправили. А взялся за это Николай Рябов, наш, хотя он и из Калиновки, местный богатырь. Среди наших мужиков сильнее его не было, как говорили старики, и по их временам – тоже. Так вот он и ещё один крепкий мужик, тоже калиновский, с вилами в руках для упора, устроили на своих плечах переправу. Я помню, как ощущалась его (мне достался как раз Рябов дядя Коля) дрожь при переходе. Не от боязни слететь, он этого не допускал, от напряжения. Оба переправщика были в больших болотных сапогах, а уровень потока воды был выше колен.
И вот что странно. Конечно, хочется домой, каникулы. А домой хочется всегда, даже и не из-за каникул. Но как же взрослые решились на такой рискованный шаг? Можно было вернуться назад на два-три дня. Каникулы немного передвинуть. Значит, не только нам домой хотелось. Нас ждали.
Уже позже совхоз, при управляющем нашего отделения, П.К.Костине, организовал перевозку детей-школьников зимой и в распутицу на тракторных санях. В понедельник рано утром, ещё по темноте, отвозили в школу, а в субботу, после обеда, развозили назад по домам…
Весенние каникулы проходили под знаком Солнца и Воды. Небольшие утренние заморозки немножко усмиряли многочисленные ручейки, а уж днём, нам на радость, они резвились вовсю, вместе с нами. Валенки с калошами уже не годились для этих игр. Только резиновые сапоги. Срочно мастерились всевозможные кораблики-лодочки и прочие плавучие средства. Устраивались недолгие снежные плотины. А самое главное происходило на настоящих плотинах. В первые утренние часы каникул, после сна, прислушиваешься, не шумит ли плотина. И вот, наконец: «Плотину сорвало!!!» Вода мчится через верх земляной насыпи упругим потоком. Это чувствуешь, когда в него заходишь с краю, до предельно возможного по высоте сапог уровня либо до того момента, когда ноги уже опасно переставлять, когда они не удерживаются на ещё мерзлом грунте и скользят под напором воды. Верх плотины постепенно размывается, углубляется, вода хлещет не широкой полосой, как сначала, а мощной, шумной, узкой струёй, и падает в бурлящий котлован. Лед на пруду ещё держится, но постепенно переламывается. Он хрупкий, на изломе видны длинные, как будто отдельные столбики льда, похожие на кристаллы горного хрусталя. Вода в пруду затхлая до головокружения.
Дальше поток от Авилова пруда мчится в сторону нашего огорода и недалеко за ним разливается по широкой и глубокой лощине. Вот здесь уже есть льдины, на которых можно прокатиться. Правда, не всегда удачно. Мы так однажды с Шуркой Незнановым прокатились вдвоем на одной льдине. Льдина была скользкая. Не успели мы подобрать устойчивого положения, как оба оказались в воде. Обожгла, как кипяток. Выскочили на берег, воду из сапог вылили – и по домам. Мой-то дом рядом, только взбежать на пригорок, а Шурке порядком бежать, почти до середины деревни. Бабушка оставляла его просушиться, но он поскакал на высшей передаче. Потом у родителей со мной был разговор, только разговор. Причём, не о мокрой одежде и обуви, а о возможных последствиях.
Вообще в нашем доме за шалости детей не ругали, на крик не переходили и, тем более, никогда не били, даже условно. Я здесь и дальше, когда говорю о детских годах, всех сверстников называю и буду называть Федьками, Мишками, Сережками, Лёшками, Шурками, Зинками, Валерками, Гальками, Витьками. Так называли мы себя и взрослые нас. Да, словом, и взрослые, со своего детства, чаще всего так между собой и общались. Часть из Колек стали Николаями, часть стали величаться по имени-отчеству, а другие так и остались Кольками. Спроси, например, сейчас, где живет и что делает Авдюхов Станислав. Тебя ещё спросить могут, о ком это речь. А Стаську Авдюхова все знают и помнят о нём всё. Сколько бы половодий не прошло в жизни тех, кто встречал их со Стаськой. (Кого только сейчас об этом спрашивать, да и где, в каких местах?)…
Половодье! Слово-то какое! Полый – это пустой. А здесь-то от слова полный. Только буква н выскочила, вымыло её в какое-то время за ненадобностью, и слово стало самостоятельным. Полная вода – половодье. Не говорят же «пололуние», а полнолуние. А самостоятельным слово это стало потому, что и в голову никому не придёт по-другому его воспринять. Нет пустой воды, есть половодье.
Прикатит весна, прошумит половодьем, промоет наши души и косточки, что-то изменит, хоть не намного, но обязательно изменит. И каждый Новый Год начинается у нас не с первого января, а с возгласа:
– Плотину сорвало!!!







