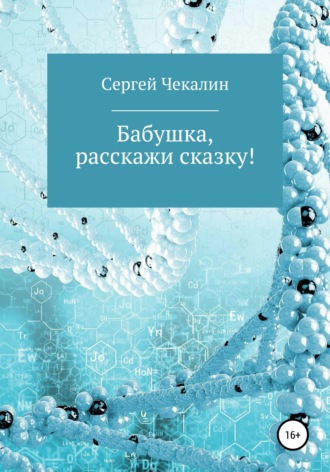
Сергей Иванович Чекалин
Бабушка, расскажи сказку!
Я просто и здесь повторю, что тётя Клава, оставшись сиротой, была приёмным ребёнком в семье Михаила Васильевича, брата моего дедушки Васи, поэтому она с большой теплотой относилась к нашей семье Чекалиных…
Ягодных мест было много. Во-первых, полевая клубника по лугам и Шанинскому саду, по берегам прудов и по лощинам, по посадкам и названным выше кустам – ежевика и малина, вишня в Масловском саду, и в нём же набор других ягод и фруктов: яблоки, груши, слива-тёрн, малина, клубника, ежевика. Даже чёрная смородина была, но уж очень одичавшая, кислая. Ждать надо было долго, пока поспеет, а поспевать она не успевала из-за наших походов.
Одно время в Масловском саду развели кур. Огородили сад сеткой-рабицей, понаделали домиков, сторожа посадили. Кур, конечно, туда, за сетку, запустили. Сначала – цыплятами, которые от домиков далеко не разбегались, а подросшие курочки и петушки уже вольно бегали по всему саду.
Нам всё это было неудобно. Во-первых, мы лишились законных ягод и фруктов. Во-вторых, то в школу мы ходили и ездили через сад, поперёк него, так намного короче дорога, а теперь приходилось в его объезд, да ещё и частично в горку. Но потом мы приноровились летом ходить за ягодой. Сторож-то один, значит всегда известно, где он находится. Разведчики из нас по опыту наших военных игр были неплохие. А к осени и осенью подросли птички, курочки стали нести яйца. Где придётся, по всему саду. Вот за этим добром мы и бегали. Иногда нападёшь на гнездо из нескольких штук. А так, больше, по одному. Случалось, набирали по двадцать-двадцать пять штук. Вот так один раз я набрал мешочек, штук двадцать в нём и было. Иду домой. Дело уже к вечеру. Догоняет меня на велосипеде наш учитель из Полетаевской школы, Виктор Николаевич Ходяков. В очередной раз в клуб ехал со своей скрипкой и лекцией. Садись, говорит, подвезу. А стыдно было, воровство, всё-таки. Но он ничего не сказал об этом, а говорили мы совсем про другое. Даже не помню, о чём. Но про мешочек мой – ни слова. Только и сказал (я на раме перед ним сидел): «Ты мешочек-то поаккуратней держи, не побей».
Спасибо тебе, наш учитель пения, труда и рисования, а иногда и черчения, а редко – и физкультуры!..
Были охоты и на чужие сады-огороды. На зелёные и спелые яблоки, на огурцы и помидоры, да и морковью не гнушались. Но это практически только ребячьи забавы, которые относятся к чистому воровству, наказуемому если не уголовным порядком, то ремнём – точно. Но остановить эти безобразия было невозможно, потому что яблоки созревали, а дети подрастали. Да и не всегда это были ребячьи забавы. Кожевников Валентин, будучи, по-моему, уже зятем Воробьёва Николая (для нас – дяди Коли Воробьёва), приходил отвлекать его в его шалаш-сторожку разговорами по ночам, а тем временем компания самых шустрых набивала яблоками свои рубашки. А Валентин, чтобы скрыть хруст веток, сам ломал при разговоре какую-нибудь веточку. На следующее утро дядя Коля к Валентину:
– Вальк, слышь, налив-то белый охватили! Когда ж они успели-то? Мы ж с тобой говорили, потом – ты ушёл, а я-то и глаз не сомкнул.
Дядя Коля Воробьёв был известный рассказчик-врун. Это знали все, он – тоже. И никого ничего не смущало. Именно врун, с различными мюнхгаузеновскими невероятными историями. Не то, что Иван Тарасович, о котором я говорил выше. У Тараща они больше хвастливого содержания, но невероятного в его рассказах ничего особенно не было. Слушали истории дяди Коли, как во время войны они на танке через океан в Америку ездили, заткнув дуло пушки подштаниками. Какие у них, там, в Америке, пчёлы, с нашего воробья. А леток у улья – обычный, такой же, как у наших пчёл. Вот эти огромные пчёлы пищат от натуги, а в улей, всё-таки, лезут. И многое другое, похожее на рассказы барона Мюнхгаузена…
Григорий Андреевич Колмаков (он в ноябре 1932 года был арестован вместе с дедушкой Василием и осуждён на пять лет по 58-й статье) выращивал на своём огороде арбузы. Так вот, чтобы их не украли местные сорванцы, на ночь он закапывал арбузы в землю, а утром снова доставал на свет белый продолжать спеть. На безарбузье ночью наткнулись огородные воришки, которые днём видели эти арбузы. Ползали, ползали по бахче – нет дневных арбузов. А следующим днём все арбузы были на месте. Следующей ночью дело было сделано. Сейчас, когда мы сами выращиваем (да и не выращиваем, а стараемся вырастить) эти злополучные арбузы, но ничего только не получается, понимаем все огорчения труженика. Да теперь уж и некому сказать «прости»…
И снова к охоте вернусь, снова в Красный Куст.
Как-то зимой говорит мне Миша, мой брат, пойдем, мол, поможешь мне лису скрадывать. Пойдем! Лиса у стогов соломы мышковала. А это от деревни километрах в двух-трёх. Туман с утра был такой, что когда отошли мы от дома метров на пятьдесят, он был виден еле-еле. Вернуться можно было только по своим следам. Степь да степь кругом. Да была бы степь. Её-то хоть знаешь, по каким-то приметам можно сообразить, где находишься, даже ночью. А снег везде белый. Белое безмолвие, как у Джека Лондона. Сверху всё белое, с боков и снизу – то же. Как будто в молоке. Мы взяли с собой две простыни, замаскироваться под снежный бугорок. Словом, «я маленькая тучка, а вовсе не медведь». Тишина полная, никакой тебе подветренной стороны и в помине нет. Пришли на место дислокации, к стогу. Нора у лисы была где-то в районе Калужникова куста, оттуда и должна была она пожаловать.
Миша говорит: «Мы сейчас ляжем по разные стороны от стога, подальше. Как придёт, начнёт копать мышей, я переползу в сторону её следа, а ты через некоторое время потихоньку размаскируйся, только чтобы сильно её не спугнуть».
Расположились. Ждём. Я изредка в маленькую щёлочку поглядываю. Уж и времени прошло достаточно много, а её всё нет. Шевелиться нельзя. Неизвестно, откуда она появится. Может быть, уже и сзади стоит, на меня, дурака, смотрит. Лежу застывшим и продолжаю застывать, на снегу-то. Мороза сильного и нет, а зябко от влажного и плотного тумана. И вот, наконец, в один из осмотров вижу что-то огромное, похожее на лису, только величиной с корову. Морда лисья, хвост тоже, а само всё это просто огромное. Ну, лиса, конечно, кто же ещё. Туман её увеличил. Жду, когда мышей начнёт ловить, да и время выжидаю, чтобы брат перекрыл отступление лисы. Через некоторое время выглядываю. Копает лиса. Причём, не только копает, но эта «корова» как-то подпрыгивает вверх и с размаху бьёт передними ногами в снежный сугроб. Да и пора, вероятно. Если брат видел её, то уж переполз, наверно. Не в меня же ему стрелять. Потихоньку приподнимаюсь. Увлеклась лиса, не видит. Тогда я чуть-чуть пощёлкал языком, еле слышно. Вижу, насторожилась, смотрит в мою сторону. Ну, глаз её, понятно, не видно, голову в мою сторону повернула. И вдруг – исчезла, как не было. Ведь смотрел на неё, а не увидел, куда она подевалась и в какую сторону убежала. Потом оказалось, что убежала она в противоположную от брата сторону. Природа хитрее человека. Она и не думала совсем, куда бы ей побежать. Если бы задумалась, то, вероятно, пришли бы мы домой с ней. Инстинкт её, как и другую бы на её месте лису (впрочем – не только лису), отправил в противоположную от норы сторону. Себя спасла и детей своих.
Выстрела нет, встаю уже во весь рост, зову брата. И кончилась охота. Воротник будет в следующий раз…
Несколько раз, лет в четырнадцать, году в 1963-64-м, ходил я сам с ружьём на уток вдоль наших прудов. До первого выстрела. В чирка стрелял. Иду по берегу. Раннее утро. Дошёл до Суркова пруда. Примерно там, где наш зять, Николай Яковлевич, из этого самого ружья подстрелил двух уток Мамонтовых. Слышу, плески негромкие, как от рыбы. И круги по воде. А никого не видно. Да и камыши кругом. Только среди них пятачок чистой воды. Стою, наблюдаю за пятачком. Понятно. Это чирок в воду ныряет. Полностью. А потом появляется далеко от этого места. Я изготовился, взвёл курок, жду, когда он в очередной раз вынырнет. Чирок вынырнул, я выстрелил. Не «ворошиловский стрелок» оказался. Промахнулся. Захлопали крылья со свистом – и нет моей птички. Потом уж подумал я: «А убил бы, как бы я её достал? В камыши такие и не полез бы, один-то». Словом, виноград оказался зелёным.
Зелёный не зелёный, а после этого я на охоту больше не ходил.
Вот здесь я остаюсь сторонником российского поэта Евгения Евтушенко. Как-то в интервью писателю Михаилу Веллеру он сказал:
«Я всё-таки охотился с детства, и первого медведя убил, когда мне было, наверное, лет 12. Но это от голода было во время войны. С бабушками я ходил на охоту. А вообще, после того, как я был на реке Вилюй с Лёней Шинкарёвым, моим другом, замечательным корреспондентом… Двое гусей летело над нами. Я очень хорошо стреляю с детства. И сбил одного влёт. Он упал прямо в нашу лодку – мне на колени. И вдруг повернул голову и посмотрел на меня – глазами в глаза, – прежде чем их закрыть. После этого я бросил охотиться навсегда».
Висящее на стене ружьё должно выстрелить. Это пусть в пьесе так и будет. А в жизни, по-моему, пусть оно висит и не стреляет. Да ещё и скобочками его к стене прикрепить в нескольких местах, чтобы на голову кому-нибудь случайно не сорвалось.
Пастухи
…А теперь – ничего! Да и откуда? Одна корова на всю деревню!
А тридцать пять лет назад стадо было большое, вечером
входило в деревню, растянувшись, многоголосно мыча, поднимая
тучу пыли. И вечерняя прибрежная прохлада пахла парным
молоком. У калиток стояли хозяйки, встречая своих кормилиц
и ласково выкликая по именам. Благушинскую корову звали,
кажется, Дочка… Она была, как и почти все остальные,
пёстрая, с чёрно-белыми пятнами, похожими на неведомые
географические очертания. Поначалу маленький Миша
никак не мог понять, каким образом дед узнаёт её, сначала
думал – по узорам на боках, но потом понял, что у каждой
коровы своё неповторимое выражение морды.
Смешно: выражение морды!»
Юрий Поляков. «Грибной царь».
Пастух в деревне был человек уважаемый. Пусть он и из бедняков, пусть у него дом развалюха, если он свой, деревенский, а может быть, у него и совсем нет дома, а сам он приходящий. Этот человек принимал на свою ответственность одно из самых дорогих в хозяйстве – корову-кормилицу, да ещё овец и коз. От последнего весеннего снега и почти до первого осеннего. По нашим степным краям получается больше половины года. И не только это. Пастух освобождал всех от таких же забот для каждодневного и необходимого труда на земле. В-третьих, имея в виду, что выше было во-первых и во-вторых, умелый пастух, а таких и старались нанимать, лучше накормит стадо, чем кто-либо другой, потому что он планировал места кормёжки в течение всего срока выгона скота, а не водил стадо беспорядочно по лугам и лощинам. И ещё, эта профессия почётна потому, что труд этот, вернее, условия труда, были несравнимо тяжелее, чем, например, даже работа на покосе. (Косьба вручную, косой, считается из всех полевых работ самой энергозатратной.) Человек на целых полгода занятый стадом, а то и больше, оставался в поле один на один со своими мыслями и думами. Да, тяжелее палки или кнута он не поднимал. Но тяжелее всего оставаться со своими мыслями. Конечно, в течение дня всё это разбавляется заботами о перемещении стада, но всё это происходит в форме автоматизма, а вот мыслить по такой схеме не получается. Недаром, что только пастухам в те давние времена разрешалось за столом ставить ноги на перекладину, соединяющую ножки, как говорили – «на престол». И из-за натруженных ног, и из-за полного уважения к этой профессии.
Нанимали пастуха всей деревней, на сходке или собрании. Обговаривали, в основном, стоимость работы и другие условия, которые касались проживания работника. Расчётной единицей была взрослая корова, к которой приравнивались три овцы или козы, тоже взрослых. Вот за эти единицы и приходилась пастуху заработная плата в денежном выражении. А кроме этого устанавливалось, обычно, и условие кормёжки пастуха. Чаще всего – по очереди, исходя из тех же расчётных единиц. Да ещё и ночёвка, если работник не местный. Или ночёвка была там же, где он столовался в этот день, либо сходка договаривалась со своими же деревенскими об оплачиваемом постое. Ну а если свой дом в деревне, то живи в своём. А то и столуйся тоже в своём доме. Расплачивались за работу только в конце сезона. Иначе, вдруг среди лета откажется пастух от работы. Так вот полсрока у него будут только за кормёжку. А на другие полсрока и пастуха уже не найдешь, а пора-то как раз самая горячая. Вот и устанавливались такие строгости. Либо – либо.
Завтрак пастуху давали с собой (если это входило в договор деревни с пастухом), поскольку скот выгоняли рано, с восходом солнца. Да и пригоняли перед самым заходом. Дни-то разные получались по продолжительности. В середине лета по четырнадцать-шестнадцать часов. Обед очередная хозяйка приносила во время дневной дойки, а ужинал пастух уже на месте, в деревне. Кормили его хорошо, конечно, по своей возможности и достатку, но, всё-таки, повыше этого. Самим мясного не достаётся, а пастуху находили. Вдруг он скажет, что такая-то плохо его кормит. Это уже нарушение договора. Обычно дневное меню хозяйка обговаривала с пастухом накануне. Он сам мог попросить что-нибудь попроще, если перед этим его закормили, по тем понятиям. Если постился, то мог заказать и постную пищу. Во время выгона скота были два особенных поста: Петров пост, который мог длиться от недели до месяца, начинается он через неделю после праздника Троицы и продолжается до 12 июля, дня первоверховных апостолов Петра и Павла, и Успенский пост, который продолжается всего неделю, с 14 по 28 августа. Кроме того – посты по средам и пятницам. В зависимости от начала весны, тёплая она была или холодная, выпас скота мог приходиться и на конец Великого поста, что перед праздником Светлого Христова Воскресения (Пасхой). Бывало, что пасти начинают примерно уже с середины апреля месяца, а Пасха может приходиться на первые числа мая месяца.
О кормёжке пастухов очень хорошо написал А.И.Солженицын в рассказе «Матрёнин двор»:
«Ещё суета большая выпадала Матрёне, когда подходила её очередь кормить козьих пастухов: одного – здоровенного, немоглухого, а второго – мальчишку с постоянной цыгаркой в зубах. Очередь эта была в полтора месяца раз, но вгоняла Матрёну в большой расход. Она шла в сельпо, покупала рыбные консервы, расстарывалась и сахару и масла, чего не ела сама. Оказывается, хозяйки выкладывались друг перед другом, старались накормить пастухов получше.
– Бойся портного да пастуха, – объясняла она мне. – По всей деревне тебя ославят, если что не так».
Я помню, как однажды бабушка собирала для двоих пастухов обед. Стадо находилось за деревенькой Пичаево. Бабушка налила из чугунка бидончик очень горячих щей с мясом. Этот бидончик она укутала какими-то шерстяными обрезками, чтобы щи меньше остыли. Ещё взяла пучок зелёного лука, хлеба, соли, четыре варёных яйца. Да ещё и одну миску и две ложки. А с собой ещё и ведро для молока – подоить корову. А если пастухи захотят, то могут попить и парного молока.
Примерно такое положение было в деревнях раньше и частично сохранилось в советское время, приблизительно до середины 50-х годов. Потом найти пастуха стало всё труднее и труднее. Во-первых, это стало определяться государственными властями, почему-то, как использование чужого наёмного труда. Во-вторых, труднее стало и самим пастухам выполнять договор, потому что при Н.С.Хрущёве личный скот разрешали пасти только в определённых местах, в основном по лощинам, поскольку колхозные (совхозные) поля подогнали под самые склоны лощин из-за увеличения площади под кукурузу. Да и косить траву на зиму стало негде. Давали для личного покоса участки по тем же лощинам, не травы, а какой-то осоки. Какой с неё толк? Вот и вынуждены были колхозники-совхозники, кто мог, за своим «вокруг своём», за травой, ездить или ходить ночью, потом сырую траву тоже ночью же перевозить домой, тайком ухитриться просушить и спрятать. Некоторые и от коров своих стали отказываться. Стали оставлять одну на два дома, как было и у нас – одна корова на нас и Костроминых, по неделе в каждом доме. В той и другой семье нас было по шесть человек. Коровье стадо в деревне уменьшилось вдвое. Руководящая партия говорила в то время, что, мол, зачем вам корова. Выписывайте молоко в совхозе, по себестоимости, даже и дешевле. Обрадовались, коров стало ещё меньше. Молоко некоторое время продавали по себестоимости, а потом перестали. Надо было, как оказалось, выполнять ещё и государственный план, Америку догонять, а тут своих же и поить-кормить? И без молока хороши, румяные, на свежем-то коровьем воздухе! Какая же получалась выгода пастуху примерно за такие же затраты и за то же время бесед с самим собой получать вполовину меньше? А потом и с мясом так же поступили. Ешьте, сказали, совхозное, а своих свиней нечего хлебом кормить. А чем же их кормить, если больше ничего не было? Только если украсть в совхозе. Свиней, да и овец, тоже почти не стало. Разрешали, по-моему, оставлять в зиму только три овцы на дом, независимо от количества человек в семье. А тут вскоре последовало и уменьшение огородов, в два раза уменьшили. Было по тридцать соток, оставили по пятнадцать. А то, мол, колхозники-совхозники только и делают, что работают на своих огородах. Работают на государственной земле, а продукты везут потом на базар, спекулируют, как это указал и определил дорогой и отец родной Никита Сергеевич, трижды (в то время) Герой Советского Союза и Социалистического Труда. По общей четырехклассной грамотности наших руководителей такое называлось именно спекуляцией. Прямо хоть в специальную книгу Гиннеса заноси такое определение. Все – «враги народа», все – «спекулянты». Революционное равенство. И что, интересно, получилось. Деревня у нас в одну линейку – дом к дому, огород к огороду. А когда уменьшили огороды, то между ними осталась полосками ничейная земля, половина в сумме от имевшейся раньше. На нашу деревню в общем приходилось примерно 10 гектаров пахотной земли, а после её усекновения осталось только 5. А остальные 5 гектаров – ни крестьянская, за этим строго следили, перемеряли твои пятнадцать соток (не дай-то Бог залезть на чужое, государственное!), ни совхозная – как там вывернуться между этими лоскутками? Даже и представить себе трудно, что в то время простаивала хорошая земля, с которой можно было бы собрать неплохой урожай. Для чего это? Так она и пустовала, эта отрезанная земля, заросшая сорняками и бурьяном. До тех пор, пока деревни не разъехались, к тому успешно и подвели. Она пустует, вероятно, и по сегодняшнюю пору, но теперь – вместе с нашими бывшими пятнадцатисоточными огородами-ленточками…
Из всех пастухов, которые у нас были, больше запомнился цыган.
Какие бы времена не были, а цыгане всегда кочевали с места на место.
Обратили на них как-то пристальное внимание, и остались они без лошадей. Лошадь ведь вещь в государстве нужная. Никакая война без неё не получится. Как же без неё? Это, ведь, ещё С.М.Будённый говорил, перед самой войной 1941-45 гг. отвергнув механизацию армии и увеличив поголовье кавалерийских лошадей, которых закупили по его прихоти за границей. Да и не пристало, с другой стороны, в стране свободы и демократии не иметь крыши над головой, недвижимой крыши. Словом, лошадей отобрали, крышу не дали – своим не хватает, а вы, дорогие кочевники, без постоянного места жительства, нигде не зарегистрированные. Значит – не наши.
Вот в эти времена один из небольших таборов и попросился пожить у нас в деревне, человек двадцать-двадцать пять, считая, конечно, женщин и детей. В нашем колхозе был старый сарай, который находился за Мамонтовыми, в сторону Панюшкинского пруда, в нём и попросились пожить эти цыгане. Им разрешили. Сарай они превратили в жилое помещение, в котором можно было и зимовать.
Женщины-цыганки ходили по деревням по своим гадальным и другим надобностям. Часть мужчин работали где-то на стороне, а другая часть – у нас в колхозе. Так вот, глава табора, не барон, конечно, а глава этого маленького табора, нанялся к нам в пастухи. Сначала все всполошились – цыгане в деревне, что же будет? Обокрадут-обворуют, детей украдут-продадут и прочие страшилки. Но, к слову сказать, за те два года, что табор прожил у нас, ни в нашей деревне, ни в округе за много верст, не было слышно о каких-либо неприятностях, связанных с цыганами.
Отец мой в это время работал кузнецом. И вот главный цыган, звали его Петром, часто приходил к кузнице. Глаза у него прямо горели. А отец хорошо умел управляться в кузнице. Всё для колхоза и односельчан мог сделать. Цыган Пётр придёт и попросит:
– Вана, разреши, горн разожгу?
Это нужно было видеть, как ловко действовал цыган! Он брал небольшую палочку, топором делал на ней зарубки-завитки, так что она становилась похожей на ёлочку, ею и разжигал в горне костер, а потом подкидывал уголь во время работы мехов. Казалось, что моментально в горне образуется ком белого жара. Воздух подавался от крыльчатки, которая вручную приводилась в движение.
– Вана, одну всего дай сделать? – Это он просил разрешить ему сделать подкову.
Подкова, вы знаете, формы сложной. Он, играючи, то в огонь, то на наковальню. И скоро из куска железа – завиток на счастье. Да ещё и гвоздики к нему, тоже особой формы, прямоугольного сечения, постепенно суживающиеся к концу. Только вот подковывать Петру было некого, их табор был безлошадным.
С цыганом Петром наша деревня договорилась принять его на работу пастухом. Сначала как-то неуверенно. Во-первых, попросил сам. Во-вторых, цыган, всё-таки, а в-третьих, сможет ли, занимался он, что ли, этим в своих кочевых походах? А и куда же было деваться? Стадо тогда было ещё большое (до кукурузы дело у Н.С.Хрущёва ещё не дошло), своих дел невпроворот, вместе с колхозными обязательными делами. Решили попробовать, а на следующий год уже упрашивать стали – такого пастуха деревня не знала, вероятно, со времён начала скотоводства, со времён первого скотовода Авеля, сына Адама и Евы, убитого братом Каином.
Ах, какой у Петра был кнут! Стадо давно за околицу вышло, а кнут всё ещё ползет по деревне. Рукоятка деревянная, но вся оплетённая тонким ремешком. Начало кнута, у рукоятки, массивное, плетёное каким-то узорчатым плетением, потом ременный хлыст постепенно уменьшается в диаметре и переходит в совсем тонкую плеть. А на конце пушистая метёлка из конского хвоста, которая называется хлыстиком. Такие кнуты, вероятно, только цыгане и могут плести. Для щелчка Пётр делал волнообразное движение, волна долго перебегала по плетёному ремню, и на конце метёлка-хлыстик издавала такой сухой громкий щелчок, как выстрел из ружья. И какая корова, овца или коза могли ослушаться при таком предупреждении? Самые заводные из них, иногда редко отведавшие и на себе такой исход волны, тут же поворачивали к стаду. Больше усмирял непослушных, конечно, громкий выстрел кнута.
А заводные были всем нам известны. Их вся деревня знала. Причём, совсем даже и не коровы, а козы тёти Любы Незнановой. Коричневые такие козы, рогатые. Это вообще были невозможные существа. В крови у них, наверно, осталось что-то горное. Не вместе со всеми, овцами там какими-то и коровами. Да и пища им по душе другая требовалась. Полынь, например, ветки редких кустарников или деревьев. А если дерево у пруда было наклонено, то козы ухитрялись и по стволу добраться до веток повыше, да и подальше от берега. А стадо ведь как, если кто-то в сторону пошёл, и оно всё за ним. Первый – он и есть для всех поводырь. За их вредность этих коз следовало бы приравнивать к корове при оплате труда пастуха.
Наши деревенские пруды были обсажены вётлами. Какие-то из них были совсем молодыми, стройными. А часть уже разрослись, да и стали растрескиваться от времени, так что большие их ветви стали наклоняться к земле или воде. Так вот, коза по этой наклонившейся ветке смело доходит почти до самого её окончания, чтобы полакомиться листочками. И не падает. Сколько приходилось наблюдать – всегда исход для козы благополучный…
С появлением нового пастуха, цыгана Петра, всё это безобразие прекратилось. Раньше как было? Идёт стадо, а за ним пастух еле поспевает. Теперь – наоборот. Впереди идёт Пётр (пас он всегда один, без помощника), кнут ползёт за ним, а стадо – за метёлкой кнута, не обгоняет её. С какой скоростью Пётр, с такой и стадо, и те же коричневые козы тёти Любы. И ещё, остановится пастух, например, поговорить с кем-нибудь, и стадо останавливается. Причём, задние не знают ещё про остановку, стадо уплотняется, скучивается, но вперед – ни-ни, и в сторону нельзя. Наверно, поверни пастух вечером от деревни за околицу – всё стадо за ним так и уйдёт.
С коровами, чья какая, сложности особой не было – они заметные, разномастные-разноцветные, с рогами разными и «неповторимыми выражениями морд». Но Пётр даже знал, чьи в стаде овцы, из какого двора, как они себя вели, и сообщал об этом хозяину или хозяйке. Пусть овцы одного дома и на пастбище ходят своей семейкой, но они всё же кажутся совсем одинаковыми. Получается, что «выражение морды», как говорил об этом Ю.Поляков (см. эпиграф в начале этого рассказа), есть не только у коров, но и у овец и коз. Это как в известном анекдоте про то самое «выражение морды»:
Сидят в закусочной два японца. Входят двое мужчин, наши артисты Фрунзик Мкртчян и Вахтанг Кикабидзе. Один японец говорит другому: «Смотри, Матуро, какие русские все одинаковые».
Вот так табор нас на два года и выручил. А потом, в один день, вернее, ночь, колхозный сарай, в котором обитали цыгане, оказался пустым. Это уже по весне, на третий год. Никому ничего не сказали, исчезли. Правда, накануне вечером в кузницу приходил Пётр, поработал немного, а потом с отцом попрощался и сказал:
– Ну, Вана, пойду я. Хороший ты человек, и жизни хорошей тебе и твоей семье.
А уж на другой день отец понял, что он заходил попрощаться. Да сказать, видно, нельзя было, что уходит табор.
После Петра постоянных пастухов на лето не было. Нанялся один, месяца два погонял стадо с места на место, да и рассчитался. Деньги ему за работу тогда заплатили за эти месяцы. Времена потому что были социалистические, совхозные, каждому по труду. Да и правильно, что заплатили. По закону. Два месяца – труд не маленький, пастухом-то. Вот это мы и поняли, когда сами стали по очереди пасти своё стадо. Одно дело, когда первые весенние выгоны, скопом, под охраной ребятишек. Я немного писал об этом в рассказе «Костры». Другое дело, рабочая пастьба, когда нужно и накормить стадо, и дать ему отстояться (отдохнуть) во время обеденной дойки, и перед переходом к дому, после обеда, опять накормить.
Расклад был простой: день пасти за корову и день за трёх овец или коз. Был на деревне счётчик, переписывал всё стадо и определял, кому сколько в лето достанется дней. Да с учётом переходов и на следующий год. Если в какой семье хватало пастухов, то она свою очередь сама и отрабатывала. Если нет, то две таких семьи объединялись и пасли установленное на них двоих время (пастухов на рабочий день было положено два). И двоим-то иногда справиться сложно. Мы как-то, когда подошла наша очередь, два дня пасли вместе с отцом. Родители в это время работали на сепараторном пункте, так что эти дни «за свой счёт» отцу было просто организовать, мама одна управилась в эти два дня с работой на сепараторном пункте. А кто не мог сам пасти, тот за себя нанимал пастуха на один или два дня. Нанимали обычно ребятишек. Кто ж из взрослых на это согласится? Да и своя работа в совхозе, никаких отгулов или «за свой счёт» тогда в деревне было. Для нас же, ребятишек, это было финансовое подспорье. Где ещё возьмешь такие деньги? А день рабочий на одного пастуха стоил от двух рублей пятидесяти копеек до трёх рублей (послереформенных 1961 г. денег), а то и побольше. Таких денег в то время взрослый человек в совхозе за день никак не мог заработать, разве что тракторист или комбайнёр, да и то – во время страды. Расходы у нас известные: в кино для взрослых за двадцать копеек сходить, конфеток карамелек купить или пряников-печенья, в карты по мелочи поиграть. А то и часть денег домой отдавали. Да ещё и хозяин-наниматель с собой даёт завтрак и кормит обедом.
Летний день большой, стадо не слушается – практически каждый день у него новый пастух. Особенно трудно пасти недалеко от кукурузного поля. Тогда ведь далеко от такого поля не попасёшь, все поля кукурузой засевали. К тому времени, как поспеет кукуруза, трава была не такая уже привлекательная для скота. А тут, такие запахи! Тем более, если началась уборка. Стадо не удержать. По-моему, мы с Колькой Елисеевым пасли за себя, на два дома. Убежало от нас стадо в кукурузу, за деревенькой Пичаево, ещё не убранную. А для коров – это гибель. Переест, а она это обязательно сделает, вспухнет как шар и задыхается от давления газов в требухе (у коровы конструкция всего этого совершенно отличается от, например, овцы). Спасти её от гибели может только своевременно сделанный прокол в брюхе, для спуска газов. Мы перепугались, сделать ничего не можем, до слёз. Хорошо, рядом мужики из соседней Калиновки работали на поле. Прибежали, окружили стадо и выгнали из зарослей. А заросли высокие, человека не видно, конечно. Коров пересчитали – все на месте.
Острый нож для меня – пасти летом. Я панически боялся грозы, да и по сей день от этого не откажусь. А грозы в наших степях мощные, спрятаться негде, чистое поле. За стадом следить надо, а тут в тебя сверху огнём лупят. Хорошо, дождь пойдет, тогда стадо хоть останавливается.
Оно, конечно, так. Летом гроза возможна, но зато тепло и даже жарко. А осенью хотя без грозы, но может такой день попасть, что лучше бы уж и постреляло немного. И опять же – зато: день осенью короче при той же оплате чуть ли не в два раза, если нанимаешься пасти за кого-нибудь.
Грозу-то я и в доме боялся. Что интересно, не молнии, а грома. Сверкнет молния, я сжимаюсь и жду, когда трескотнёй окатит. Думал, по глупости, что самое страшное – это гром. Да и сейчас таким же глупым и остался. Откуда такая боязнь грозы, не знаю. От мамы, наверно. Она в этом отношении тоже паникёр. Мы ведь и горели от молнии. Купили приёмник «Родину-52» в конце 1958-го или начале 1959 года, первые в деревне. На сухих батареях. Отец антенну сделал, на двух тонких столбах проволоку протянул от дерева перед домом, над домом и к сараю, так ему посоветовал наш деревенский радиомастер Александр Сурков. В одно прекрасное время, именуемое грозой в начале мая, но произошло это в середине лета 1959 года, веточка молнии ударила в антенну. Хотя и было заземление, но очень слабое, не хватило его убрать весь заряд. Мама в это время лежала на кровати с моей маленькой трёхлетней сестрой, Валей. А снижение антенны как раз шло над кроватью до рубильника – переключателя на землю во время грозы. После удара молнии огненный шар ворвался по снижению в дом, даже в саманной стене выжег отверстие диаметром примерно два сантиметра, от рубильника возвратился через то же отверстие и ушел в землю. Мама говорила, что её волной прижало к кровати. Грома не было. Был удар, как из пушки, дом затрясся. Молния пережгла антенну, и хвост молнии либо провод антенны, коснулись соломенной крыши сарая. Мы об этом ещё не знали. Ошеломлены были ударом. Я вообще и шара огненного не видел, поскольку закрылся от грома телогрейкой. Спустя некоторое время бабушка вбегает со двора в избу и громко так нам говорит-причитает: «Чего же вы сидите-то? Ведь мы горим!»







