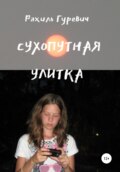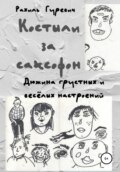Рахиль Гуревич
Адгезийская комедия
Глава вторая. Швабра
Очнулась я на диване под пледом, лампа не горела, за окном не брезжил, а накатывал рассвет… То был сон! Сон! Я лежала и приходила в себя, с меня катился пот. А где сквозняк-то? Откуда духота? Я лежала как парализованная, как полоумная, и счастливо улыбалась. Я думала: надо сказать Сене, чтобы больше не приезжал, надо вернуть инструменты, поблагодарить и вернуть. Сеня! не надо приезжать, а Кирилл, Кирилл… он мой! Мой навсегда!
− Ты почему мою швабру выкинула, а? – на месте, где сидел Кирилл, возникла тень, загораживая слабый рассвет. Тень махала руками-мельницами. – Где моя швабра, отвечай!
− Зинаида Алексеевна, здравствуйте! – обрадовалась я. − А мне сказали, вы умерли.
− Я умерла тринадцатого июля, а сейчас июнь, слава богу!
− Я то же самое её спросила: в этом году?, а она: в прошлом.
− Кто? – Зинаида Алексеевна встала и поставила руки в боки.
− Так жена вашего внука. Дох… То есть Катя.
− Ой, Мальвина, такая милашка Катюша. И как она могла так ошибиться. Правнучка у меня маленькая, красотуля, правда же? Верещит, аж ужи закладывает. Вся в меня.
− Угу.
− Что с тобой произошло?
− В смысле?
− В свинарнике живёшь, посмотри! Холодильника нет, чай в комнате кипятишь, крошками всё засыпала, а я между прочим босикоо-ом, босико-ом-м-м. – Она страшно замычала, как корова, я успела подумать, что соседи снизу точно сейчас прибегут. Зина пошла в обход, мимо стены, встала у меня в изголовье:
− Швабру гони, дрянь такая! Очистила угол!
− Так я думала – хлам.
− Это ты, дрянь, хлам!
− Сейчас, сейчас, я сама переживала честно, случайно вышло.
− Ладно врать-то! Поставила пластиковую хрень и думаешь отвяжешься теперь? А ну…
Она схватила меня за шкирку, я впилась руками в её руку, но Зинаида Алексеевна, несмотря на преклонный возраст, оказалась сильнее – она меня вытащила с дивана, футболка на мне треснула. Я взбесилась и стала бороться, трясти Зинаиду Алексеевну за грудки (она была в своём самом красивом халате, из плотного шёлка, в розочку − халаты были её страстью). Я трясла и бормотала что-то вроде: ну вы совсем в деменции, что вам от меня надо, мы же всегда так хорошо… Я не смогла закончить своё бормотание, я получила удар такой силы, что упала на диван головой назад, хорошо, что спинка у дивана мягкая… Диван понятно перевернулся – один угол-то перевешивал, я скатилась на пол. Я лежала лицом вниз, схватилась за ножку стола, не успела даже очухаться, как злая соседка схватила меня за подмышки и поволокла к окну – там от спинки дивана до окна всего метр. Но как она пролезла в этот проход со своей жирной филейной частью?
− Открывай окна, − приказала она.
− Мотыльки…
− Ты русский язык сечёшь? Открывай, кому сказала!
Я покорно, послушно, аккуратно, без всякого страха открыла окно.
− Пошли, − Зинаида Алексеевна была уже за окном. И я послушно «вышла» за ней, мы облетели дом, причём она увиливала от веток, а я постоянно на них натыкивалась – я же впервые летала… Такое чувство, состояние… Парящее, лёгкое, как под водой, когда скользишь после техничного старта.
Мы приземлились на помойке.
− В строительный мусор выбросила?
− Д-да…
− Тебе повезло. Четыре дня не забирали мусор. Ищи швабру. Мою! Любименькую! Несчастненькую! Швабру!
− Хорошо, хорошо. – Я старалась не смотреть на Зину и не пораниться о гвозди, которые наверное торчат из каких-нибудь деревяшек. Но как… Темно ещё, − блеяла я. −Тут же всё завалено, досками, старой мебелью и…
− Как выбросила, так и найдёшь.
− Но вы же мне поможете?
− И не подумаю. Ты мне хоть раз помогала? Да вы с бабкой со мной даже не здоровались.
− Я всегда здоровалась, всегда, − я стала либезить и заискивать, как голодная побитая собачонка, я стала смотреть на Зину преданным подобострастным взглядом, лишь бы она не заставляла искать меня среди досок швабру.
− Да ёжкин кот! Ищи давай швабру. Светло уже. Ну!
И я получила сильнейший подзатыльник, такой, что впечаталась в центр контейнера, чуть не напоролась глазом на шершавую доску с гвоздём. Доска торчала из старого полированного гардероба, похожего на гроб. Полировка искрилась в свете фонаря. Фонарь стоял не у помойки, а чуть поодаль, у тропинки, которая к этой помойке шла. Рядом с фонарём неявно, но прослеживался силуэт…
Я расплакалась: ну как я найду, мне в ногу кажется впился гвоздь.
− Ты кидала в контейнер?
− Н-нет, я всё контей… бак…, − я не могла говорить, слёзы душили меня. Контейнер − гигантский кузов мусорки, рядом с ним тоже всё завалено барахлом, какими-то мешками, вёдрами, всё гремит и воняет.
− Какой тебе тут бак? Это контейнер, русского языка не знаешь? Тьфу ты, сразу заметно, что спортсменка. Спортсмены никогда умом не блистали. Тут оставила?
− Я только санки в бак, в… контейнер бросила, и… коврики, я… − я пыталась сказать о детских санках и резиновых ковриках, которые Сеня естественно вынес на помойку по моей просьбе.
− Коврики, − передразнила Зинаида Алексеевна, − в свете фонаря и серости рассвета она выглядела как бешеная бабка-супергерой и ей действительно для полноты образа не хватала какой-нибудь ёжкиной метлы. Волосы у неё развевались, хотя ветра не было от слова «вообще», халат мерцал, ноги были обуты в калоши, а сверху гольфы, и тоже в розочку, она просто вся переливалась этими розочками. – Коврики она выкинула. А ты знаешь, какие они были нужные кому-то, качественные, толстые автомобильные. Ты бы могла дома у себя их положить, и Сене своему наказать отвезти в своё дом, помочь маме, она и так нервная и больная…
− Я… я не подумала. Я… я… один оставила, он перед дверью лежит, а остальные.
− Ну ладно. Покопаюсь, пока ты ноешь, ненавижу нытиков, ненавижу тебя и твою бабку-баронку, сидит себе, восседает на… − такое впечатление, что она говорила о моей бабушке, что бабушка, где-то сидит, я-то не сидела, а стояла на коленях в мусоре и боялась двинуться, чтобы на что-то ещё не напороться. Зинаида Алексеевна стала греметь где-то рядом с контейнером, а я замерла и всхлипывала от испуга.
− Целуй мне руки, вставай на колени! Ах, ты уже на коленях? Вот так!
Я поползла по досками, которые проваливались подо мной, наткнулась на что-то мягкое и мокрое, и обрадовалась, что не гвоздь.
− Да я в переносном смысле, фигурально, то есть, выражаясь. Фу, слюнявая. – Зина торжествовала, мне казалось, что она выше Сени, просто гигантская. − Да не ной! Нашла я швабру, вот она. Не взял никто родимую, вид-то неказистый, зато суть, какова суть. А ты уж готова была пятки мне лизать, нытная девочка. Пока! Но не прощаюсь до конца! Жди ещё в гости-то! Вот же везучая. Так бы убила, если без швабры соталась! – Зинаида Алексеевна взвилась в воздух, вися на швабре, как на турнике, сделала сальто как гимнаст, оседлала швабру, но не как в мульте про ведьмочку-службу-доставки; она кружила сидя на швабре, как на скамейке, опершись на неё руками и болтая ногами – вылитая сумасшедшая бабка.
Я вылезла из мусорного бака и побежала к подъезду, не по дорожке, мимо фонаря, а по земле напрямки, я неслась босиком метров двадцать вниз, вниз к подъезду и думала: как мне открыть сейчас дверь, ведь у меня дома магнитный ключ, а код я не знаю…
И тут я проснулась. За окном совсем светло. Волосы мои были мокрыми от пота, футболка тоже. Я потрогала затылок и взвизгнула от боли. Быстро села на диване, стала изучать пятку – я так больно наступила на гвоздь. Рана была глубокая, стопа в земле. Блин, успела подумать я, придётся искать поликлинику и вводить противостолбнячную сыворотку, два дня точно будет слабость, это тяжёлая прививка под лопатку… Но тут произошло что-то за гранью, после чего я замерла, и встала на одной ноге как цапля на болоте. У меня на глазах стопа очистилась от земли, песка и грязи, рана затянулась, её не стало! Я вернулась в реальный мир, т.е. вышла из оцепенения, стала рассматривать локти, взяла зеркало, изучила распухшую губу – всё затягивалось на глазах: только посмотрю, и рана, или синяк, или опухлость пропадают. Я потрогала затылок – вообще не болел! Я даже зажмурилась и шлёпнула себя по затылку – не болит! Волосы высыхали на глазах, футболка тоже.
Я в обычном режиме, как-то бессвязно подумалось мне. За окном совсем рассвело, значит через час должно было на минут пять заглянуть солнце, липы колыхались, окна были прикрыты как вечером.
− Ну надо же. Какой кошмар приснился, − пробормотала я для смелости.
Я налила в чайник воды и включила его. Села пить чай, переставив подушку. На всякий случай осмотрела и её. Я на диване раскидывала карты. Сейчас же я о них и не вспомнила. Я просто сидела, переваривая увиденное. Во сне пришёл Кирилл. К чему бы это? Хорошо ли, что он пришёл во сне? Я думала о Кирилле, пока пила чай, пока снова кипятила чайник, чтобы снова пить чай. Но вдруг вспомнила ощущение полного опустошения и беспомощности – как я лежала в этом огромном контейнере строительного мусора. Чёртова швабра. Не могли раньше предупредить соседи, что её нельзя выкидывать. Страшная швабра, мощная в ручке и с совсем короткой перемычкой. О Зине я боялась вспоминать, отгоняла от себя эту жуть. Вдруг, размешивая в чашке мёд, я вспомнила прошлое. Что-то щёлкнуло в мозгу, случается такое, и…
Я ехала в лагерь первый раз. Естественно в Анапу, естественно бесплатно, тогда пришли в бассейн путёвки именно на малышей, то есть на нас – восьмилеток. Мама вспоминала свой лагерь как что-то очень приятное и свободное. Она всё детство провела в лагерях в основном сидела в кружке мягкой игрушки. Я смотрела фотографии мамы в альбоме: худенькая девочка, её обнимает руководитель кружка, деревянные домики, весь лагерь деревянный. Я представляла такие домики на берегу моря, но оказалось всё по-другому. Корпуса каменные, столовая ужасная, но я в детстве не очень любила есть, только если овсяное печенье, так что я спокойно переносила голод, я и хлеб любила просто без всего, а в столовой хлеба было навалом − мягкого, бело-серого, с хрустящей корочкой.
Напоминание 2. Сёстры Лобановы и овсяное печенье
В комнате нас поселили впятером. Я сразу стала верховодить. А в соседней комнате были две девочки, как бы сказать помягче, ну их не уважали. Улыбина Наташа была полненькая и страшненькая, остриженная под горшок, ходила всё время в одних и тех же штанах, плавала неплохо, на уровне так, жиробасы в детстве часто плавучие, а потом все тонуть начинают. Тонуть – это не значит на дно идти. Просто наступает такой момент и у девочек и у пацанов, когда растёшь, оформляешься и перестаёшь чувствовать воду. Вода начинает дружить с плавучестью против тебя, этот момент надо просто пережить, переждать и всё будет снова почти как в детстве, ну у всех по-разному, кто-то, разочаровавшись, уходит. Я отвлеклась. Значит, Улыбина, её за человека не считали, ну так – жиробасная жаба, и ещё вторая девочка Аня, даже не помню её фамилии, что-то на «П». Они как-то сразу стали вместе в лагере, остальные их сторонились. Улыбина-то урод (ну конечно нет, но тогда я так считала), Аня же была симпатичная, смуглее меня, глаза такие карие живые, прям очень и очень симпатичная, и ещё волосы тёмно-русые вьются, длинные, она их в хвост носила, симпатичнее меня, у меня-то волосы прямые. К середине смены, когда я освоилась окончательно и со всеми сдружилась, девчонки из соседней комнаты стали к нам приходить, мы играли в какую-то игру, не игральные карты, кажется там были хоббиты, а может хрюки. То есть наша комната стала тусить с той комнатой. И вот как-то во время нашей игры припёрлись и Улыбина с Аней П. И девчонки из их комнаты им говорят: «Ушли отсюда! Вас не звали!» А я говорю: «Почему это вы решаете? Это наша комната, наша игра, проходите девчонки, Аня, Наташа, садитесь вот тут напротив». Помню Аня П так мне кивнула благодарно. Вы думаете, я такая защитница слабых? Нет и нет! Я всех слабых ненавижу. Просто две другие девочки из соседней комнаты, сёстры Люба Лобанова и Люда Лобанова, почему-то считали себя круче меня. Во всяком случае, мне так казалась. Они такие были красотки, закатывали томно глаза, когда вставали на тумбочку стартики поделать и только потом натягивали очки. Они были координированные и супер-обучаемые. Я с этими стартиками лет пять мучилась, пока стало получаться прилично. На старте надо выигрывать, иначе лидерство придётся отыгрывать по дистанции. Отыгрывать каждую десятую у соперника дико, ещё если не в волну, тяжело, и на финишный рывок может не хватить. Плавание этим опасно – силы могут покинуть вас в любой момент. Вроде плывёшь на скоростях и вдруг – руки не поднимаются, тело как вата, в волну не попадаешь. В плавании важно поймать волну. Если на дистанции кончились силы − это ужас, тихий ужас. На суше, в беге, например, ты если уж разогнался, то несёшься, пусть и задыхаешься, и ноги не бегут, забились, но борешься как-то, в плавании на морально-волевых не выплываешь – сбился ритм, сбилось дыхание, техника полетела, и всё − проигрыш прежде всего самому себе. Форма важна, кондиция. Я отвлеклась…
И вот эти Люба и Люда – они меня бесить стали ещё в Москве, но я хитрая, я с ними норм. А тут оказался подходящий момент. И я сказала их отстойным соседкам: «Садитесь девчонки, играйте!» Смотрю: все как-то недовольны, смотрят так на меня, а Улыбина с Аней П обрадовались искренне.
− Ой, да Мальвин, да что ты! Да не церемонься ты с ними. Пусть просто сидят и смотрят! Не надо их учить! – Люба с Людой так томно, в один голос, принялись убеждать. Люба была старшая, старше меня года на два, а Люда моя ровесница
− Слушай, Люба. Ты кто такая-то? Мы команда, а ты считаешь себя лучше что ли?
− Ну ты и дура, Мальвина, – обиделась Люба. – Они же отстой. А команда – это ерунда всё. В плавании каждый сам за себя.
Дело в том, что Люба была права. Команда у нас до сих пор никакущая. Вот у Ольги Алексеевны группа − реально команда. На соревах, внутренних спортшкольных, один плывёт, а все за него болеют, стоят по краям, кричат, на развороте рядом с контролёрами руками машут: давай, сильнее на повороте отталкивайся, выжимай давай. В нашей группе такого не было. Эстафеты ещё не начались. Когда ты в эстафете, то всегда дружить начинаешь, иначе не победить, дух важен, но я тогда об эстафетах даже не знала. Просто вожатые грузили про команду (у нас кроме тренеров вожатые в лагере были), вожатые видно по методичке нам болтали, как их научили, им же что плавание, что футбол – всё едино, их поставили на спортотряд, они и следуют инструкциям.
− Нет, Люба. Каждый за всех. Тебе хоть кто скажет. И если ты думаешь, что лучше других, то ты хуже других.
− Я хуже? – Люба засмеялась. – Мальвина поглупела, да?
− Ага, − выдавила сестра.
Все молчали. И закатывали глаза от возмущения.
− Я не поняла, ты что сказала? – я только этого и ждала. Я вцепилась в Любины волосы и стала её трясти, как сегодня во сне Зину. Завязалась такая не драка, а потасовка. Люба не ожидала, и не сразу стала отбиваться. Она оцепенела.
− Может им напомнить, как ты их брюки спрятала, как таскала у них печенье? Твоё, Ань, печенье, Люба слямзила! – кричала я.
На территории лагеря был магазин. Кто с деньгами, те покупали там палочки кукурузные и ещё разную кондитерскую еду. У Ани из тумбочки подтыривали, а однажды Люба украла целую пачку. Просто, потому что у Ани можно украсть, и её позлить, и посмеяться всласть, и при этом ты даже не считаешься крысой. Об отстойных можно вытереть ноги! Никто понятно в детстве так не формулирует, просто тащат и всё, крысятничать вполне себе норм у дур.
− Ты сама воровка! Это ты воровала печенье! Ты же любишь овсяное, − напала на меня, защищая сестру, Люда.
Тут за меня заступились мои подружки из комнаты, стали выяснять, когда и кто что видел, мы стали доказывать, что не знали, что печенье Анино. А я прекрасно знала, я даже видела, как Люба с Людой воровали у Ани с полки (я была с ними и стояла на стрёме) – ведь надо было ещё найти: Аня продукты стала прятать под бельём.
Мы поцарапались, покусались. В общем, Люба почти расплакалась. Но держалась. Нытиков-то почти не было в группах, ныли только абонементники, когда мы из душевых их пинками выгоняли − пусть подождут, не сломаются.
− Ещё что-нибудь своруешь, или что пропадёт, плохо будет. А девчонок тронешь, дело будешь иметь со мной. – Я, такая, вся из себя честная с укусом на щеке, меня аж распирало.
− С тобой! Ха! Да кто ты такая-то? Малявка мелкая! – закричала Люда, хотя была на месяц младше меня.
− Сейчас узнаешь, кто я такая. − Я тыкнула кулаками в лицо Люде. Люда пополнее, но взгляд у неё был не такой уверенный и нахальный, как у Любы – она и плыла слабее.
Мои девчонки впились в Любу, чтобы она меня не убила, она же рванула спасать сестру. С Людой у нас завязалась настоящая драка, начались крики, прибежали вожатые и даже уборщица, нас растащили, начались разбирательства. Я и все мои девочки подтвердили, что я просто заступилась за Улыбину с Аней П., просто заступилась. Тренер наказал Любу с Людой (сто приседаний и сто отжиманий), ну и немножко меня. Я была довольна. Меня зауважали, я же типа борец за справедливость, а Улыбина с Аней теперь часто к нам приходили. И Аня специально мне покупала овсяное печенье, я принимала его с благодарностью, шутила, и жадно проглатывала. Через неделю Люба стала со мной разговаривать, а Люда нет. Она помалкивала, затаила на меня злобу. Я ждала от неё подлянок. И они не заставили себя ждать. На дискач я тогда ходила с удовольствием, надевала супер-трикотажные штаны – они пропали, их не оказалось на моей полке в шкафу. Джинсы, тоже моднявые, были искромсаны внизу и на заднице. Тогда я сделала из них бриджи (не зря ж мама портниха, я и в восемь лет помогала ей кроить), надела их на дискотеку, я танцевала в нашем большом кругу, а на заднице у меня светилась дыра. Люба с Людой окучивали парней и все надо мной ржали. Но мне было наплевать, я светила дырой на попе и не стеснялась, под джинсами были надеты супер-красивые плавки. В какой-то момент Улыбина пропала с танцпола. А, вернувшись, рассказала, что схватила все лучшие вещи сестёр Лобановых и бросила где-то на территории, подальше от корпуса. Не знаю, что там она выбросила, но сёстры возмущались до посинения. Любимые трикотажные штаны было не очень жалко, они заношенные, но брендовые. Мама вздыхала:
− Я так и знала, что украдут. – Мама жила временем, когда зашитые штаны всё равно было жалко, мама жила прошлым, где вещи ещё не были одноразовыми.
Я не сразу до конца помирилась с Людой. Где-то два года мы друг на друга бычились. Многие, кто был в курсах, стали относиться к ним так себе, и им пришлось со мной мириться – я-то (уточню тут нескромно) звезда бассейна. Люда стала сильной спинисткой. Но всегда почему-то так получалось, что её не ставили отстаивать честь бассейна на Москве в эстафете. Аня П перевелась в другую спортшколу, а Улыбина плавает до сих пор, она всегда за меня и согласна на любую грязную подлянку. (А ещё она молчалива и никогда не выдаст.) И не потому, что она скотина, сволочь и мерзота, вовсе нет! Ей реально пришлось непросто в ту смену. Я её сама не переваривала тогда, просто выпал удачный момент. Улыбина писалась, сами понимаете – матрас днём выносили сушить, запах был. Её гнобили не только в комнате, даже Аня П общалась с ней с презрительной ухмылкой. Аня П не стала своей, такое случается, причин может быть миллион, может быть даже просто случайность. Аня П, кстати, не особо ценила моё заступничество, хоть и стала покупать печенье лично мне, ей было индифферентно: она милая, симпатичная, её любят родители, перетерпеть смену и забыть как страшный сон, а может она раскусила меня. Я же всего лишь уничтожила конкурентов, я даже представить себе не могла, что в лице некрасивой рыхлой зассыхи Улыбиной, найду такого преданного друга, что у этой бедной девочки Наташи такая большая душа. Улыбина очень хороший человек, случаются по жизни люди, которые благодарные – помнят, не забывают. Улыбина единственная из моих подруг, за кого я реально радуюсь и не планирую разные мелкие пакости исподтишка. Улыбина сильная кролистка, спринтер, она мастер уже год. И я рада за неё, она это заслужила. Знаете, обиды и переживания закаляют. Улыбину гнобили года три, потом она вытянулась, как-то очень быстро изменилась – иногда происходит такой скачок. Она по-прежнему была немного похожа на табуретку, что-то табуреточное из детства осталось и в лице. В плавании Улыбина, что называется, наработала технику. Есть такая поговорка: если долго мучиться, что-нибудь получится. Поговорка работает не для всех. Улыбина, кстати, очень переживает за меня. Она шлёт мне, прикиньте, эмодзи и стикеры − не бросила меня даже в карантин. Сама-то она, что называется, стрессоустойчивая. Нет воды – она целый день на клочке пола будет отжиматься или приседать, ей всё равно. Кстати, она кандидат в сборную Москвы, размышляют там: брать её или нет. Побед-то особых нет, но она всегда в шестёрке, стабильная. Вряд ли она прорвётся, но я за неё болею искренне, а не так как за других: сама улыбаюсь и лью елей, аплодирую, а в мыслях думаю: хоть бы ты шею свернула на повороте.
Тренер после лагеря стал ко мне ещё лучше относиться и всегда, когда кто-то новый приходил в бассейн, просил меня всё объяснить, всё показать, ну в общем, чтобы человек не терялся. К чему я это вспомнила-то? Тогда я впервые просто нашла к чему придраться, чтобы унизить людей. Я подпортила репутацию Любе с Людой навсегда. Меня бесили и Аня П, и Улыбина не меньше, чем их, им приходилось ещё жить в одной комнате. Я с удовольствием ела ворованное печенье – всё верно говорили же. Я просто хотела их унизить, обеих сестёр. И вот сегодня во сне так же унизили меня. Мёртвая Зина (я знаю: мёртвые могут являться в снах, их бояться не надо) решила пристать ко мне, повод − швабра. Эта старая деревяшка – не сошёлся же на ней свет клином, ну или несвет. Ну возьми себе другую швабру, какая разница на какой летать… Но нет: мёртвой Зине надо было меня унизить, до чего-нибудь докопаться. Чуть, ведь, не покалечила меня на помойке, она б ещё в продуктовую вонючую помойку меня затолкнула. Хорошо, что это был просто сон, просто ночной кошмар…