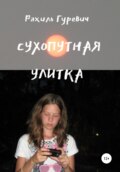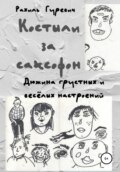Рахиль Гуревич
Адгезийская комедия
Глава шестая. Обои
− О! Прям парит. Недавно наклеила? – Сеня зашёл в квартиру, улыбаясь, оглядываясь, восхищаясь тем, как изменилась квартира в обоях.
Я молчала.
− Где велосипед?
− Да там, за дверью.
− Закати.
− Но у тебя ж обои. – Сеня аккуратно, через рукав куртки дотронулася до обоев, как будто они были хрустальными. − Они же пока не высохнут, мягкие…
− Закати, говорю.
Сеня послушно закатил велосипед в комнату, приставил в комнате к шкафу-купе.
− Что с тобой Мальва?
Я стянула бандану, и внимательно смотрела на его реакцию
− Мальва! – он замялся, потом сказал: – Тебе идёт и похлопал меня по бритой черепушке.
− Ну я от тебя и не ожидала другого ответа. Проходи. – Я надела бандану, села на табуретку и предупредила Сеню:
− На диване не советую. – И постучала по своей черепушке.
− Я тебе зефир привёз, − он закопался в рюкзаке, достал зефир. – Да что с тобой? На тебе лица нет и скулы такие…
− Я третий день не ем.
− Как раз зефир подойдёт, он натуральный. Ресторан у родителей открыли! – Вот чем мне нравился Сеня, он не спросил, почему я три дня ем, он просто заманивал меня вкусной едой, он не зацикливался над тем, что было. За него это делал его отец.
− Ок. Раз натуральный, давай сюда.
− Да что случилось-то? – спросил Сеня после чаепития. − Почему ты лысая?
− Бритая, а не лысая, я ж не чёрт,
− А при чём тут чёрт?
К сожалению, Сенина память здесь, на адгезийской территории, похуже девичьей. Если бы он помнил, что я ему рассказывала, он бы так не спросил.
− Волосы отрастут, – и я разрыдалась.
Сеня впервые видел, что я плачу, ну его ещё много может ждать открытий чудных здесь, в этой квартире. Потом я наелась от пуза нежным зефиром, разительно отличающимся от того, что стоял на полках в магазинах. В ресторане, где работали Сенины родители все потсавщики были не то чтобы дорогие, хотя и это тоже, они были. Ну «эко» или что-то в этом роде. Сеня стал рассказывать, что поставщики вроде бы возобновляют поставки, но не все – кто-то разорился, кто-то трубку не берёт, но кондитеры все на месте.
− У них же не скоропортящееся, не зелень, − объяснял Сеня. – С зеленью хорошей плохо и со свежими фермерскими корнеплодами.
− А что? Расти перестали?
− Ты знаешь, Мальв, сам удивляюсь. Людей так запугали вирусом, что реально некоторые стали жить как перед концом света. Не все произвели посадки, прикинь. Я сам обалдел. Ну как посевная может помочь заразиться? Однако, фермеры решили по-другому.
− Странные фермеры.
− А зелень не сажали, потому что думали, что раз закрыли, значит, не откроют. Да и раз открыли, то не нужен прежний объём – вход-то по каким-то бумажкам планируют, но пока пускают всех. Только планируют.
Сеня долго ещё рассказывал о тонкостях ресторанного бизнеса: он быстроокупаемый, но все деньги вечно крутятся, ресторан связан с поставщиками.
− Выиграли сейчас те конкуренты, кто сразу стал торговать на вынос, и моя сестра предлагала такой вариант. Но хозяева отказались – сбежали из города и засели по дачам как паникёры. Да что там – мой отец первый паникёр и есть. Накупил кучу мазей каких-то и капель – в нос всё что-то мажет, чтобы зараза не пристала. Боиться умереть.
− А ты не боишься? – спросила я.
− Ну твоя мама-то не умерла!
− Нет, не от короны. Я вообще – боишься или нет?
− Боюсь, − тихо сказал Сеня.
− И я боюсь, Сень, очень боюсь. – Я всхлипнула. – Ну всё. Раз приехал, время не теряем. Иди дно сделай на кровать. Дальше обои обрезать сверху-снизу лезвием. Подрезать лишнее и подклеить края, вот клей и кисточка.
Всю неделю я клеила обои. Не буду утомлять этим дурдомом, если надо будет поклеить кому, ни за что не соглашусь.
Первая комната, несмотря на утреннюю драку и приход главного адгезийского, далась мне всего за сутки. В полночь я доклеила. Тут, в бабушкином доме, всё с выступами, странные ниши, нависают параллелепипеды, в любой выступ под потолком можно припрятать всё, что угодно, вплоть до царских сервизов. Я клеила спокойно, ни на минуту не забывая слова художницы у Каменного пруда… А вдруг бабушка замуровала что-то в стену, хотя, думала я, давно бы пропикали этими машинами-искателями жильцы, которые, мне становилось всё яснее, снимали квартиру – не просто квартиру, а именно нашу с тайными надеждами…
Я была горда собой в плане наклейки обоев и думала только о том, как бы адгезийцы опять меня не потащили в свою суетливую преисподнюю, совсем ополоумели, даже тряпки привлекли − совсем уже, эпилептика из бассейна припомнили, нечего больше им предъявить…
Тут же в комнате стали резвиться чполы, а на только что наклеенных обоях вспыхнули буквы «О сколько нам открытий чудных…» И я «заткнулась», ну перестала возмущаться про себя.
Ночью всё было спокойно, во всяком случае, утром ничего страшного не помнила, и встала на удивление поздно. Я вошла в комнату, проверить, не отошли ли обои. Всё-таки для обоев ночью было, наверное, чуть прохладно. Обои отклеились только по краям и совсем чуть, чуть, я читала, что это нормально, потом маленькой кисточкой подклеить. Комната пыхнула на меня сыростью, я прикрыла плотнее двери, запихала тряпки-бунтовщики под щели дверей, и принялась за коридор. После комнаты я решила, что супер-оклейщик стен – это я. Сразу всё пошло наперекосяк, промучилась там три дня. Три дня я просто не вылезала из коридора. Сто раз пожалела, что не поверила буквам, предупреждающим, что надо резать обои исключительно на полу. Я же поверила тёте Свете и книгам с фото, где довольная милая женщина клеила обои поэтапно и всегда на вису отматывала рулоны, сразу их наклеивая. В общем, сбилась я с рисунком – обои оказались с ужасным незаметным раппортом.
Будущие жильцы захаживали посмотреть, они контролировали меня, переживали за свои обои, купленные, между прочим, на мамины деньги – жильцы просто съездили и выбрали, что им надо, и на том спасибо, и этим выручили. Грешным делом я подумала: не из адгезийских ли они, жильцы-то, может, они это всё подстроили, чтобы вытащить меня сюда и поиздеваться всласть? Меня всё меньше волновала сама сдача квартиры, мне всё надоело. Я готова была к тому, что в последний момент жильцы передумают жить у нас. Между тем, каким-то необыкновенным образом всё шло к концу. Заканчивался ремонт, несмотря на все мои косяки, стало ясно, что завершение не за горами – фронт будущих работ я теперь видела чётко, а не расплывчато. Я сто раз вспоминала пословицу: глаза страшат, а руки делают. Заканчивались работы по благоустройству и во дворе. Рабочие давно укрепили фундамент, подлатали козырьки и теперь прокладывали сквозь высокие деревья песчаные дорожки, то есть пока песок – дальше плитку положат, весь двор в плитке. Странные собачники гуляли ежедневно, но мне на них стало всё равно. Пусть жрут друг друга хоть до посинения. Мне не страшно.
Я конечно же стала себя критиковать, показывать на сбой рисунка (незаметный для несведущего, ибо рисунок был кирпичиками), но жильцы его в упор не заметили, они даже не поняли, о чём я говорю. Я в сотый раз подумала, как хорошо быть не ремесленником, тебя это просто не касается, ты не вникаешь, только приходишь посмотреть результат и высказать своё «фи».
Настал час икс. Отмучившись с коридором, я ожидала самого страшного от комнаты, где придётся клеить обои с щупальцами. Фиолетово-лиловые щупальца! Жильцы тоже ждали с нетерпением. Я раскроила обои благоразумно на полу вопреки советам красочной книги и рассказам тёти Светы; стала обклеивать, и где-то через три полотна я поняла, что рисунок ещё сложнее, чем казался. В плане наклейки-то нет. (Если бы я также на полу раскроила обои для коридора, я управилась бы дня в полтора… Везде потери трудодней, как смеялись надо мной по адгезийскому радио.) Я поняла, что тут какой-то оптический эффект с щупальцами. Да уж… Клеилось местами плохо, вот как-то не приклеивалось. Я промучилась до вечера и подумала, что стоит, наверное, пойти прогуляться, хотя мне вовсе не улыбалось встречаться с кем-нибудь. Я боялась, что если выйду из квартиры, внук Зины накинется на меня с кулаками. У меня появился просто животный страх. Я обвинила человека в убийстве, я избила его кулаками в резиновых перчатках, косточки правой руки до сих пор болят, я, по-моему, даже немного испачкала его пиджак… он загораживался… − нет, наверное. Я остановилась с малярным крылом в руках, я разравнивала полотно, прохлаждаться и размышлять на диване я себе больше не позволяла, да и наклейка обоев – не совсем противное дело, не то что потолок или плитка: если получается, так сразу виден результат и с щупальцами он был сногсшибательным. Я мечтала за работой… Во что превратится комната? Здесь у жильцов будет стоять электрическое пианино (они просили специальные розетки), скорее всего будут приходить дети к ним на занятия – вот дохля-Катя-то локти от зависти начнёт кусать… Эти щупальца, как они будут смотреться когда будет обклеена вся комната? Костлявые руки на обоях. И я клею эту некрофилию, потому что жильцы выбрали такие… Но смотрится сногсшибательно несмотря ни на чьи-либо воспалённые ассоциации. С такими мыслями я пошла мыться, и только тут вспомнила, что воды горячей нет – её ж отключили. Я плюнула и пошла не мытая. Только переоделась. Мне казалось, что клей так и не отмылся под холодной водой от рук, что он везде.
Когда выходила, я специально закопалась, поворачивая ключ, но за соседскими дверями не было слышно ни звука. А все три дня, что я клеила коридор, во время обеда у девочки случались истерики и её все три дня выгоняли из квартиры. Страшно подумать: почти неделю я не выходила из дома, и сейчас я наслаждалась воздухом, деревьями, шумом бульвара, суетой. Но отойдя немного, я пожалела о своей опрометчивости. Из подъезда соседнего дома вышла бабушкина знакомая Инна Иннокентьевна со злой собакой без поводка. Собака рванулась на меня. И, вот не поверите, сверху, как парашютисты, возникли собаки давно мне знакомые, адгезийские. Они ж вместе с хозяевами пасли меня под окнами и гуляли в неведомом дворе, где машин не было и рабочих тоже. Они триггернулись на мохнатого сумасшедшего хищника. И барбос, поджав хвост, бросился обратно к хозяйке. Рядом с Инной Иннокентьевной возникли два мужика в шортах – фиолетовый и оранж, она стала с ними спорить, настаивать, взяла возвратившуюся собаку за ошейник.
− Мальвочка! – кричала она. – Мальвинушка!
Я решила подойти. Ну хоть рассмотрю этих адгезийских охранников вблизи при естественном освещении, а не в полумраке тамбурного коридора. Собака Инны Иннокентьевны всё скулила, так скулят собаки, когда их хозяин ушёл в мир иной.
− Мальвочка! Извини, душка. Тут вот защитники у тебя.
− Мы просто санитары. Санитары леса, − ответил тот мужик, что ругался и с внуком Зины в нашем тамбуре − фиолетовый.
Оранж молчал.
− Оставьте нас вдвоём, молодые люди, нам надо поговорить.
− Отдайте собаку и говорите, сколько угодно.
− Не могу. И так напугали до полусмерти щеночка. Она добрая, она так радуется.
− Щеночку-то двенадцать лет, поди, аль тринадцать?
− Ну что вы! Мальвочка моего старого пёски помнит.
− Угу, − сказала я и перед глазами всплыл дог-гигант.
− А вы? Вы тоже без поводков. Вон, ваши-то таксы хитродельные резвятся, а мою напугали.
− На беседу пять минут, и у нас не совсем таксы, − отрезал Оранж. Да уж: они были людьми дела. Лишь бы не сожрали, подумала я, и сразу осеклась – адгезийцы же читают мысли.
Они оттащили напуганную собаку, пристегнув их поводок к ошейнику. Рыжий с грязными подпалинами псина шёл нехотя, поджав хвост, он скулил, жалуясь на безнадёжную судьбину…
− Мальва! Как дела твои?
− Нормально, Инна Иннокентьевна.
− Так редко тебя вижу. Как ты на бабушку похожа стала.
Ой, вышла погулять и стоять слушать этот бред…
− Я понимаю, ты вышла отдохнуть. Ты − молодец, и Славика сопровождаешь. Он иногда убегает от матери, сколько она пережила, сколько пережила… − Причитала Инна Иннокентьевна. Она выглядела совсем неважно: старое помятое лицо, рыхлое тело, сильно обвисшая кожа на руках и на шее – ясно, что совсем недавно она, наверное, была намного полнее… Как хорошо, что адгезийцы отвели всего пять минут. Больше я не вынесу.
− Я твою бабушку видела, − объявила торжествующе Инна Иннокентьевна.
Наверное, на кладбище сходила. Я, кста, за всё время так и не сподобилась, всё не до того.
− Бабушка приходила мне. То ли бред, то ли сон, но пришла. Кстати, Мальва, − заговорщицки зашептала Инна Иннокентьевна, щёлкая вставной челюстью. – Тут такое радио есть, адгезийское, не попадалось тебе?
− А как же. Очень интересное, местная станция.
− Да! Вот именно. И бабушка просила передать тебе.
Я сжалась вся, так стало мне одиноко и тоскливо, и причём тут радио?
− Бабушка просила тебя обязательно разгадать её ребусы. Ты знаешь, о чём это?
− Знаю конечно. Она мне написала наставление, тёть Инн, там есть ребусы. Но сложные.
− Они у тебя здесь?
− Нет, дома, в Москве.
− Жаль. Без них не найти камней.
− Каких камней? − я включила дурочку.
− Не знаю, Мальвина, передаю, что бабушка объявила. Так хорошо эту ночь провели с ней. Всё вспоминали былое. И не скажешь, что она мёртвая-то. Ну сон, все мы любим поспать, да, Мальвочка? – Инна Иннокентьевна посмотрела на наручные часы – такие изящные, с резной почерневшей золотой отделкой, но на старом облупленном обмусоленном почерневшем кожаном ремешке с застёжкой-маленькой пряжкой. – Всё. Не могу больше болтать. Собаку пристроила. Пойду радио слушать. Странно, что раньше мне их станция не попадалась. Да и сейчас бы не попалась. Кухонная бухтелка перестала бухтеть. Вот и включила магнитолку – я её в подъезде нашла, кто-то выкинул. У вас в подъезде выкидывают ненужное, которое кому-то очень нужно?
− Н-не знаю… Но ваш щеночек! Как пристроили, тёть Инн? Он же будет тосковать! – я действительно озадачилась тем, что Инна Иннокентьевна так легко расстаётся с любимцем, престарелым «щеночком» ростом в холке, подбирающемся к алабаю. − Она же только что с вами была. Она же расстроиться.
− Ну что ты, Мальва. Вот, ребята, − Инна Иннокентьевна указала на удаляющихся фиолета и оранжа, давно меня просят им отдать. И диктор по радио призывал всех собак отдавать этим вьюношам.
Да уж, вьюноши, скептически отнеслась я к характеристике этих троглодитов.
− Пусть. А то меня скоро люди уничтожат. Только и ходит полиция, штрафы выписывают, повестки к мировому. Щеночек-то мой, он молодой, пусть вьюнош, уже трёх собачек на части разорвовал, а скольких людей покусал! А всё подростковый нигилизм. Всё, такой-сякой, народу в зад метит, но не всем.
Инна Иннокентьевна заторопилась, направилась обратно к подъезду и всё махала мне рукой, всё прощалась, походка нетвёрдая, да и говорила она странно, не последовательно, урывками. Я обернулась: ни мужчин, ни собак нигде не было. Я так хотела поболтать со Смерчем, но он работал в магазине и, как тёть Инна, махал мне рукой, когда я проходила мимо магазинной лестницы – ну, хотя бы вышел меня поприветствовать. Странно, подумала я, как-то я поскользнулась на этой лестнице и больно подвернула ногу, еле доковыляла до дома, но на следующий день даже не вспомнила о болезненной травме – воспоминание всплыло только сейчас, спустя долгое время веретенецкого заточения, если можно так выразиться.
Поскучав на прогулке, поговорив с мамой по телефону, рассказав о тёте Инне и её сне, я попросила попытаться разгадать рисунки с буквами. Мама заинтересовалась, увлеклась. У неё даже не возникло ни тени сомнения в том, что сослуживица бабушки не в себе, в том, что ребус – пустая загадка. Не знаю, может, бабушка и маме снилась. Я вернулась почти в хорошем настроении, завалилась спать. Впервые не включала машинку – мало ли что, да ну. Ремонт идёт к концу, квартира преображается, стиралка исправна, что её зря гонять. Ночь и день пролетели незаметно. Встала рано и до вечера клеила щупальца. Специально гремела ведром в ванной рано утром, разводя клей, чтобы разбудить соседей. Ну конечно же больше никто не звонил в дверь.
− У всех много дел! Множество дел! Жизнь – путь длинный или короткий, надо всех успеть подготовить. Работы – непочатый край. − Весь день радио развлекало меня. Ведущий убаюкивающий. Значит, вечером настанет время хама, но мне будет всё равно. Я уйду спать в другую комнату, от обоев такая влажность, парилка. Хорошо, что я закончила клеить щупальца. Если войти в комнату не с балкона, а из коридора впечатление создавалось потрясающее. Если прищурить глаз (так мама выбирала материалы с рисунком), то щупальца растеклись, и получалось, что по стенам бегут волны. Если помотать головой, обнулиться и прикинуть свежим взглядом, рассматривая вертикали рисунка, получалось, что я попадала в волшебный лес, с крючковатыми стволами, а деревья расположены в шахматном порядке. Всё это оказалось возможным только потому, что я имела опыт в раскрое, везде соблюдала стыковку рисунка, и «раскроила» обои на полу, как и для комнаты − если клеить тяп-ляп, не соблюдая крупный рисунок, такого потрясающего эффекта не получилось бы. Декор не стал обаятельнее, теплее, добрее, он оставался страшным и жутким, наводил на невесёлые мысли, но он поразил меня многогранностью, три-де или даже пять-джи, если хотите. Когда я разглядела не просто шупальца-костлявые руки, а волны, я вспомнила своё увлечение русалками. Бабушка уговаривала меня посещать летние кружки в Веретенце, говорила, что у меня есть данные. Но я только внутренне раздражалась: это всё болтовня, я только русалка, только русалка. Я жила в русалочьем мире, я жила в гармонии собой и с бабушкой, всё мне было родное, квартира, двор… Зачем мне кружки? Вот эта узколобость объединяла всех нас в бассейне, всех, мастеров. Сеня – единственный, кто никогда не зацикливался исключительно на бассейне, он интересовался многим. В бассейне попадались и те, кто ходил в музыкалку или занимался с художником дома, но такие выполняли кмс и уходили – они свои пять балов к ЕГЭ заработали, на пляже щегольнуть всегда смогут, ну там разные ещё причины. Одна я осталась не у дел. Я и мастера не выполнила, и занятий других нет. Определённо мне прямой путь в уборщицы, уж что-что, а этот опыт я здесь приобрела. Улыбина мне говорила:
− Вообще не знаю, как бы жила, если бы не плавала. Что, Мальва, я бы делала? − Типичная Улыбина…
Я думала, что упёртость, хоть и мешала в детстве, но помогла сейчас, в этой квартире. Думаю, адгезийцы пугали всех наших жильцов, вот они и менялись каждый год, думаю. Адгезийцам становилось скучно с одними и теми же – но Сеня явно другого мнения. Веретенец и веретенцовцы и сейчас мне родные, несмотря на все изменения, иногда просто катастрофические, я чувствую тот дух, дух двора, дух дома. Мама говорит, что она не любит свой город, но всё равно скучает по нему, по их деревянному дому и по их району…
− Рано радуешься. Гордишься раньше времени. Ещё чинить, ещё ставить, прибивать. Сквозняки никто не отменял, − подал голос ведущий-хам. Сменил-таки, убаюкивающего!
− Если вы тут балкон откроете, или дверь, − сказала я запихивая в щели дверей тряпки, − я разгромлю всю вашу Адгезию к чертям собачьим.
− Черти собачьи – ёмко и точно, лучше и не скажешь. Кстати, со вчерашнего дня стражей-собак в Адгезии прибыло. Большой цепной цербер наконец-то наш! Повоюет, так повоюет! В Адгезии прекрасная боевая псарня. Наши слушатели с радостью отдают своих агрессивных псов. Сколько пенсий мы оградили от списанных в автоматическом режиме штрафов, выписанных за моральный ущерб, сколько принесли радости хозяевам не съеденных мосек и неразорванных шпицев. О! Вот и первый звонок. Как вы узнали – я же ещё не объявил номер и розыгрыш билетов. Ну… говорите, что вы молчите?
− Я не молчу, − я еле узнала голос Инны Иннокентьевны, к ночи язык у неё ещё больше заплетался. – Я хозяйка собачки-то.
− Ах здравствуёте, мадам Инна!
− Я не мадам, я – советский человек.
− Так пожалуйста, советским везде у нас дорога и почёт.
− Спасибо! – Инна Иннокентьевна что-то забормотала невнятное, но дальше стала говорить понятнее, она завела разговор о культах, религиях и учениях и закончила, достаточно неожиданно, на следующем: − Как скажите ваше мнение – в Америке поставили памятник сатане. Как это по-вашему? Разве так можно себя вести?
− Ну не знаю… − ведущий замялся, но после нашёлся и бойко закончил: − Лично я в Америке такого памятника не видел. А вот памятник Ленину в Нью-Йорке стоит.
− Сразу заметно: вы наш человек, − бойко, совсем не заплетаясь, торжествовала Инна Иннокентьевна. – Ура! Товарищи!
− Можно узнать ваш адрес? − вкрадчиво спросил ведущий.
− Зачем? – возмутилась бабушкина сослуживица.
− Хотелось бы подарить вам билеты лично. Дом называть необязательно, хотя бы улицу.
− Я живу в России, − отрезала Инна Иннокентьевна.
− Извините, но диалога тогда у нас с вами не получится. Я из лучших побуждений, хотел передать… − ведущий мямлил, он явно передразнивал Инну Иннокентьевну, её интонации в начале разговора.
Но Инну Иннокентьевну заело:
− Я-то живу в России, а вот где живёте вы?
Да уж, обрадовалась я, не в бровь, а в глаз.
− И я в России, − изумился ведущий.
− Не-ет, − заблеяла Инна Иннокентьевна, − не работаете вы в России.
− Разве наша Адгезия − не Россия?
− Адгезия – свойство сцепляться, а не страна, − отчеканила Инна Иннокентьевна. – А вы – пятая колонна!
Я захлопнула дверь, пусть болтает, болтун, пусть доводит коммунистически настроенную женщину, бабушкину знакомую… Всё-таки за комнату я опасалась. Со стороны коридора и с балкона я подпёрла двери табуретками, повесив их ножками на ручки. У комнаты с щупальцами на трёх стенах – выход. Одна стена – окно, другая – на балкон, третья – в коридор, а четвёртая – в соседнюю комнату. Никогда об этом не задумывалась. Пока не оклеишь комнату, не прочувствуешь все её степени свободы. Каждый проём – головная боль. Везде торчат излишки обоев. Надеюсь обои подсохнут, Сеня приедет и подрежет, мне определённо лень.
Я развалилась на дне огромной кровати. Мне было всё равно на её надтреснутое дно, на тонкие гимнастические коврики вместо матраса. Всё, конец. Осталось немного. Только покрасить стены в кухне. Остальное − не работа − уборка и общее руководство. Полки и вешалки я прибивать не стану и учиться сверлить не хочу, у меня сил нет. Это сделает дядя Вася. Мама с ним связалась, он освободился от работы и наконец сможет помочь. Хочется домой. Доделать, и побыстрее домой. Мама прислала мне фотки бабушкиного письма-наставления, она мучилась, но не могла разгадать её ребусы − пялилась в экран как баран на новые ворота. Надо будет у Сени спросить. Он умный, может подскажет.
− Ты глупая, − знакомый до боли голос. Тролль у кровати, привычно ушастый, с лапками и растительностью на мясистом простодушном лице. Тролль – лесовичок. − Смотрю, тряпки тебя довели. Стиральный агрегат не запускаешь. Стала бояться собственной комнаты.
− Ага. Полежи там, в жаре и стопроцентной влажности, я посмотрю на тебя. Даже чполы все сюда улетели.
− А зачем надо было столько клея на стены наносить?
− А зачем с первого раза отклеивалось?
− Стены халтурно подготовила, вот обои и не держатся.
− Давай ты не будешь давать ценные указания и критику разводить. Легко сказать, а сделать сложнее. Да стопудово там Адгезия твоя сопротивлялась. Видно, ей без обоев-то лучше, а, Кролик?
− Я не кролик, а Кроль! Вот стала бы кролисткой, глядишь – и мастер в кармане.
− Не надо молоть чушь. Я даже не хочу на это отвечать.
− Надо было назвать меня Бат. – Он глумился над самым больным, болезненным, подлый тролль!
− Слушай: какая теперь разница. Зачем ты появился? Напоминать мне о том, что я не выполнила мастера? Ты не оригинален.
− Сейчас вы хвалитесь званиями, состаришься − будешь соревноваться со знакомцами в том, кто позже ласты склеит.
− Спасибо, ты добр не по-детски.
− Я всегда за честность, Мальва – ты знаешь. Пришёл поддержать, − тролль радовался, торжествовал, что смог меня расстроить напоминанием о смерти и её неизбежности, − ты же боишься своей комнаты – так и скажи, признайся честно − тряпки тебя доби-или, − напомнил он совсем недипломатично.
− А третий раз про тряпки слабо? Ты пришёл напоминать и тыкать меня в мой позор?
Тролль состроил недоумённую морду – закосил под наивного дурачка:
– Я пришёл предупредить, − зашептал тролль заговорщицки: − твои спокойные покойные ночи − затишье перед бурей, адгезийцы будут не они, если не подготовят тебе сверхподлянку. И не зря они выбрали себе обои с щупальцами. Щупальца – это по их желанию приобретено, нашептали… в шептунстве они мастера…
− Я так и знала, что ты пришёл меня поддержать, спасибо тебе.
− А то, − сказал мой тролль довольно, он сёк как никто в постиронии. − А я подумала, что мой тролль абсолютно точно не человек в ботфортах. Кроль глуповат, резковат, обидчив, суетлив и добр по-своему. Не может быть, что тот в ботфортах косит под дурачка. Он не может быть и тем сушёным, безликим, кто приходил ко мне недавно – не мог же он быть един в двух лицах, не мог раздвоится. Наверное, даже Адгезиии такое не под силу… И тут я вспомнила себя-намба-ту. Единственное общее у всех троих (тролля, неэлектрика в ботфортах и сухонького, который уж точно тот самый барон) – поддержка меня в самые опасные моменты, я очень это ценю, несмотря на всё остальное.
Я поняла ещё в детстве у троллей главное – глаза. Там живёт их вечная честная (по их понятиям) душа. Кроль когда-то давно мне рассказал, что если тролль злой и нечестный, у него глаза − узкие щели: чем больше тролль врёт, тем больше сужаются у него глаза – это закон всех троллей.
− Ты же мой тролль?
− Ну конечно. Я никому больше не мешаю. Ты сама меня придумала. – убеждал он меня когда-то, сейчас казалось в другой жизни.
− Ага, придумала. Ты на себя глянь – у тебя глаза как у китайца. Ты ко мне в окно стучался в детстве, кстати, именно в этой комнате.
− Вот я о том же. Да лучше спать в стопудовой влажности, чем здесь. У видений есть вполне себе норм медицинское объяснение. Я не выдуманный, я − материален. – Тролль снова с видом знатока авторитетно сложил на пузе лапки.
Он прав. Я до него иногда дотрагивалась: мягкая шерсть на лапе, пушок, но это редко бывало − когда у меня уж совсем плохое настроение. Он буллит иногда, хитрит, но он – мой лучший друг. И никому ничего не расскажет.
− Верно. Поделишься с кем-нибудь, а этот кто-то разнесёт как сорока. Ты и сама такая. Прям и подмывает иногда рассказать кому-нибудь какую-нибудь новость или случай про кого-нибудь, а?
− Я не поняла, − я поднялась на кроватном дне, опёрлась спиной о массивную спинку кровати. – Ты намекаешь на что? Я хочу поспать с чувством исполненной работы. Ты же намекаешь, да?
− Это реально лучшие качества в человеке, не совать везде свой нос, не выведывать, не болтать, держать язык за зубами – только и всего, − бормотал тролль.
− Я так не могу. Мне всё интересно, что вокруг и кто с кем в бассейне. Я тихо завидую, если честно, но и радуюсь кое за кого, к кому хорошо отношусь. – Кажется, я поняла, что меня ждёт. Но ничего. Я не буду теряться в Адгезии, пусть все старые занавески с балкона, и новые, лежащие в пакете, восстанут против меня.
− Отношения важны. Но в принципе не обязательны, а без друзей – тяжко. Без настоящих друзей. А таким может быть только тролль, – бубнил тролль о своём, о девичьем.
− Я теряю логическую нить разговора, извини. Дай отдохнуть. – Я не могла сказать, что он мне надоел, что он и не нужен мне совсем. Я переросла его.
− Но дорогая, – тролль встал с табурета и стал ходить по комнате. Теперь я его не видела временами, короткими промежутками − от движений ветерок или сквозняк. Вот уж чего-чего, а сквозняков пожалуйста не надо. Мои обои!
− Пастух и пастушка. Шепни мне на ушко, − перед моими глазами на волосатой лапе стояли фарфоровые фигурки из детства. Лапа захлопнулась. Тролль как мячик подскакивал прям под потолок, он носился по потолку почище чпол.
− Веди себя прилично, акробат!
− Кто б говорил!
− Отдай фигурки. Они же не твои.
− Я не для того пришёл, не хочу выслушивать противные человечьи истины, даже не истины, а истинки. Ну ясное дело, что не мои, а твои.
− Отдай стрекозу! Она у тебя?
− Будешь давить − пропаду!
− Да пропадай. Достал. Дразниться прилетел?
− Пропаду навсегда! – Тролль сложил лапки, он стал молодым, хорохорился и выставлялся, как мог, даже волосатые лапы спрятал в карманы спортивных штанов, сейчас он сидел на невесомом кресле нога на ногу и покачивал лапой в модной кроссовке.
− У тебя кроссовки отстой.
− Глупая.
− Светоотражатель не отражает свет.
− А где ты видишь свет, дорогая? Света здесь нет и не будет. Я ж говорю: убежала, спасаясь от костлявых рук и шупалец Адгезии, а здесь-то – похуже будет, − рассмеялся Кроль. На его пальцах вспыхивали перстни. Да, ё моё! Неужели это всё таки главный в сапогах? Нет!
− Бабушкины цацки затмили тебе глаза и превратили в человека, который погибнет за металл.
− Что ты несёшь? Ты прекрасно знаешь, что эти цацки – единственное, что осталось от неё. Это же память! И я вних поверила совсем недавно. В то, что есть шанс.
Тролль снова стал лохматым взъерошенным стариком в кафтане на вате.
− Враньё!
− Сам ты враньё, я насквозь тебя вижу, провокатор мохнатый. − Я, когда в школе были случаи воровства, всегда знала, кто вор, ну по поведению чувствовала. Причём никаких там бегающих глаз, трясуна рук, покраснения лица от волнения… Нет, вообще не на это смотрела. Больше по интонациям: врёт − не врёт. Если нутро – это интонации, то можно сказать что я видела нутро.
− Ты судила по себе, Мальва. Только и всего. Запомни Мальва: вся наша жизнь на полутонах, как в музыке. Бас, там, или баритон, сопрано – это редкость, а вот полутона… Мы слышим враньё! Мы видим враньё. Враньё материально. Но недоказуемо, и уж, что-что, а увидеть его нельзя…
− Я не пойму: ты на всю ночь, что ли, прилетел?
− Пойдём, Мальвина, нас ждут великие дела.
− Куда? На плаху?
− Не шути, плохие шутки. А прогуляться тебе придётся… Тролль подошёл ко мне вплотную, плюхнулся рядом со мной, взял за руку. Мы лежали, как двое влюблённых на песке, на берегу моря или Иссык-Куля – моя несбывшаяся мечта, голова кружилась.