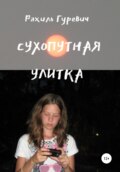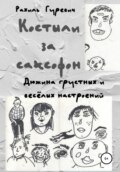Рахиль Гуревич
Адгезийская комедия
Со стены мигающий свет, как у нас выгорающая лампа в холле бассейна все зимние месяцы…
«Не чушь, не чушь!» – вспыхнули буквы в книге.
Я сплю, решила я, мне снится.
«Снится? Обязательно снится!» – буквы вспыхнули и пропали, как будто электричество перекрыли. Буквы – полный трэш.
Засигналила стиралка, я осторожно поднялась с дивана. Початая минералки издала звук, у меня сердце ёкнуло – всего лишь газ разровнял вмятины в бутылке.
Я захлопнула книгу, уговорила себя развесить бельё. А чего бояться-то? На балкон проведён свет. Я прищепила к верёвкам гигантский чехол от матраса –отлично: меня, наконец, не видно с балкона. Радио замурлыкало песни. Одни и те же каждую ночь. Старушечьи хиты. Все любят, все выходят замуж или разлучаются, мужчины галантны и работящи. Всё женщины не могут признаться мужчинам. И мужчины влюблены, страдают из-за безответной любви похлеще женщин. Время молодости бабушки кринжовое, без вопросов. Как они вообще без мобильников жили, даже без телевизоров кое-кто, и эти бабушкины фото. Платья – тряпки с оборками, причёски – косички крест-накрест. Ну просто мрак. Но песни норм. Со смыслом. Далеко не всегда звучали песни про любовь. Иногда про стойкость и героизм, про любовь к Родине. Включали и любимую бабушкину песню с необычным названием – «Четырнадцать человек». Разве так песни называют? Но я из-за числа её и запомнила. Засыпая, я думала: ненастоящее радио, как я сразу не поняла. И оно тут с самого начала. Просто вечерний эфир для избранных, а песни олдов – для всех.
Глава восьмая. Хвосты
Что мы имеем, размышляла я на следующий день, поднявшись непозволительно поздно и кутаясь в казённый плед от холода, что мы имеем: горящие буквы, смещение радийных частот, незнакомца и его след, собачников… Интересно: они всё в шортах, даже в такой холод?
Я выглянула в окно. Дождь, местами переходящий в ливень брызгался в щели окна, заливая подоконник. Страшные каракули фантастических пауков смотрели на меня с откосов – хотя я их закрашивала дорогой краской, они снова проявились. Скорей бы солнце, закрасить страшил по новой, с глаз их долой. Никого не было под окном, налипали на отлив прозрачные листики отцветающей липы. Странно – я вчера вечером не почувствовала липовый аромат, может липа дурманит только в жару, а в сырость нет? Я вышла на балкон: шатёр, рабочие прикрывали досками кучу песка от дождя – всё как надо. Я загрунтовала другую комнату, прошлась по квартире, рассуждая с какого места начать замазывать щели и штробы. Тётя Света советовала с коридора. Надо больше общаться с тётей Светой: в один миг всё может измениться, и тётя Света прекратит консультации. А что если в книге все главы сами собой перепишутся? Есть интернет, но там всё половинчатое, неполное, нельзя полностью доверять.
Целый день я разводила строительные смеси, мешала и равняла стены. Не остановилась, пока коридор не был закончен. Больше всего возни получилось с потолком – на меня лился не дождь, а падали излишки цемента. Пол в грязи, но стены стали выглядеть норм. Я переоделась, кинула вещи в стирку. Весь пол был заляпан цементом. Лень отмывать. Высохнет и сам отвалится.
Когда сырость и тучи, темнеет рано. И смеркалось. Я прошвырнулась по дежурному кругу, стараясь держаться подальше от редких прохожих. Я поговорила с мамой, и Сеня мне позвонил. В конце круга я выходила на наш бульвар. Людей на бульваре Бардина мало не бывает, хоть в ливень, хоть в мороз. Бульвар Бардина – самый центр. И уже практически столкнувшись впритык со фруктово-овощной палаткой, я увидела парня в синем костюме, такой в облипку пиджачишко. Это был Зинин внук. Он на ходу, ещё только подходя, бросил продавцу:
− Кабачок взвесь.
Крипово, однако. Ненаглядной своей дочурке покупает, завтра дохля будет жарить, кабачок и будет вонять у меня. Скорей бы жара, скорей бы покрасить окна и закрыть их. На кухне такая вытяжка… Как бы сделать вытяжку только на вытяжку и ни в коем случае не на втяжку. Может вентилятор?
Вообще-то я хожу быстро, но после сегодняшнего ударного труда, я, если честно, еле ползла. И не то чтобы ноги болели сильно, у меня отваливались руки. Болело не плечо, сустав (как я привыкла), а предплечье, запястье и кисть. До совершенства, как оказалось, мне ещё очень и очень далеко. Вот уж не думала, что из-за перегруза рук можно еле ползти. А этот напружиненный Зинин внук… Надо сказать, что за девять лет он не постарел, ну повзрослел изрядно – симпатичный такой, с правильными чертами, такой рафинированный, вполне мог бы и получше найти, чем эту полоумную дохлю. Но пацаны – они странные, они все клюют на внешность. Я писала уже тут по секрету: мальчики в бассейне у нас туповатые, а некоторые так тупые плотоядные животные. У нас в группе девочка есть Алиса. Она реально очень плавучая, она худенькая, скользит по поверхности как водомерка, она стайер. Она хорошая, симпатичная, но к разным дурам наши мальчики подкатывают, а к ней – никто! Ну не идиоты? Или вот Улыбина из нашей группы, и мс, и преданный достойный человек, но никто ни разу к ней не приблизился из пацанов. А она и готовит прекрасно, и не нытик, всё стерпит, не то, что эта дохля, у которой чуть что − предъявы, они при мне два раза поругались на кухне − я всё слышу. Всегда ругаются утром, как он уходит, так – тишина. Я уже знаю весь их распорядок. Утром дочка смотрит мультики, а дохля сидит за компом, потом они идут гулять, потом у них тихий час, вечером снова гулять, а по воскресениям к ним приходят гости. Жизнь однообразна и скучна, написал как-то Кирилл. Сто раз уже вспомнила его слова, пока колупалась на кухне и в коридоре…
Внук Зины, посмотрев с интересом, и сделав вид, что не узнал, обогнал. Я в этот момент разговаривала по телефону с Сеней. И вот представьте: он обогнал – я еле переступаю и смотрю ему вслед. И вижу, что за ним волочится хвост! Не в смысле, что кто-то следит за ним типа Шерлока, нет! Просто хвост торчит из-под пиджака! Я сама говорю с Сеней и сама глазам не верю. Ну не могла я ошибиться, точно хвост, висит почти до земли, тяжёлый, как у гигантской ящерицы. Я остановилась, мимо меня прошла пара с собачкой. Много гуляет людей с собачками, они все из нового города, но предпочитают гулять в старом. И эти тоже с хвостами! С гладкими, как у их таксы. Я смотрела и снова не верила глазам. Я попрощалась с Сеней, сказала, что подхожу к дому и там знакомая бабушки, с ней придётся поговорить. А на самом деле я стояла на тротуаре у поворота к подъезду, наблюдая народ, идущий мимо меня, смотря им в спину. И были ещё хвосты. Но не у всех. Я пошла прогуляться обратно. В соседнем доме, втором корпусе, жила полоумная Инна Иннокентьевна, с бабушкой они всегда обнимались, а бабушка ни с кем никогда не то что не обнималась, но и общалась на расстоянии, сейчас бы это назвали социальной дистанцией. С Инной Иннокентьевной бабушка всю жизнь проработала. За время, что я не видела подругу бабушки, она ещё больше обморщинилась и ещё длиннее отрастила сальные седые пакли. Я каждое утро слышала истеричный лай − Инна Иннокентьевна выгуливала свою лопухастую собаку без поводка. В моём детстве у неё собака была тихая, огромный дог, общительный и безобидный, если твёрдо стоять на ногах. Из подъезда стремглав – нет! − пулей выбежала лопухастая − помесь овчарки с дворнягой, со злостью кинулась на карманную мелкую собачку в костюмчике с оборочкой. Хорошо, что собачка была на поводке – хозяин её просто поднял в воздух за поводок, где-то на уровень плеч – собачка стала космонавткой, но оборки лопухастая успела сожрать. Хозяин, молодой парень, шуганул агрессивную псину.
− Что ж вы делаете?! – возмутился он, обращаясь к полусамасшедшей старухе.
− Как вам не стыдно, ваша чуть нашей не пообедала, − крикнула его жена.
Но реально: даже я испугалась собаки Инны Иннокентьевны, а остальные стали обходить конфликтующих по газону у проезжей части.
− Много вас тут шляется, понаехали, − проскрипела Инна Иннокентьевна.
− Вы будете мне указывать, где ходить? – возмутился хозяин карманной собачки. Он отдал жене это чудо, похожее без оборок ещё больше на гигантское насекомое, а сам стал пререкаться с компанией мужиков, которые стояли у палатки и только и ждали случая пободаться и помахать кулаками, защищая Инну Иннокентьевну. Дело шло к верной драке. Народ стал собираться в отдалении, чтобы увидеть поединок. Жена парня еле уговорила его не связываться. Подбежали мои знакомые собачники, они поймали лопухастую за ошейник, что-то говорили, объясняли именно собаке, она вдруг вырвалась и унеслась вверх по бульвару, за круг… Но я смотрела на хвосты! У парня и его жены хвосты были, у Инны Иннокентьевны −нет. Мужики у палатки, их было трое – все как один при хвостах. У самого противного хвост выглядел как настоящий крысий – розово-серый, фу. У моих собачников хвостов не было. Ну так – когда можешь заглотить другого, хвост явно помеха. Я в окружении бесов, в окружении чертей − ясно! Но почему свихнувшаяся Инна Иннокентьевна без хвоста? Я прогуливалась по бульвару, высматривая безбашенного пса. И выяснила, что хвосты появляются у наших домов, а в отдалении от домов пропадают.
− Эй! Мальвочка! – мычащий голос с лавки.
Сердце у меня ёкнуло, я пригляделась. На лавке сидел Смерч! Но он был не очень-то похож на себя. Я бы его и не узнала, если бы не глупая бейсболка с надписью «Форева!» и в крупную клетку рубашка. Не жирный, без кривой ухмылки, и глаза без поволоки, большие, а не щёлочки, смотрят на меня осмысленно:
− Присядь, Мальва!
− Ты выбрал самую заплёванную лавку, ковбой.
− Думаешь, не знаю, откуда? Прекрасно знаю, ковбойша.
− Я… − я запнулась, не стану же я объяснять олигофрену, что это мамин любимый фильм.
− Присаживайся. Когда ещё свидимся.
Я не садилась. Я падала от усталости и страха, но не собиралась рассиживаться. Может это и не Смерч вовсе?
− В магазине видимся. Я с тобой здороваюсь, ты не отвечаешь, – я сделала вид, что всё как обычно, всё обыкновенно.
− Да присядь ты, когда ещё поболтаем. Как я тебе вообще?
− В смысле?
− В смысле вида, внешнего вида?
− Ты прекрасен, − я мучительно вспоминала настоящее имя Смерча и не могла вспомнить.
− Зови меня Смерч, я так привык. Да садись ты. Ну семечками тут всё обкидано, ну и что?
− Окей, – я села, сразу стали меньше ныть руки.
− Вот видишь, как полезно сидеть, а не стоять. Ты хочешь спросить, как я так преобразился?
− Очень хочу.
− Ну так – Адгезия.
− У меня в квартире по ходу тоже.
− Ты не поняла. Мы в ином мире.
− То есть ты хочешь сказать, что нас грохнули?
− Ты не поняла. Я плохо могу объяснить. Я же болен.
− Но ты сейчас совсем не болен!
− Я тебя пригласил из-за доброты.
− Твоей?
− Нет, Мальвина, − твоей!
− Скажешь тоже, Смерч. Какая во мне доброта…
− Думаешь, я не вижу в магазине, что ты со мной здороваешься? Я всё вижу. Думаешь, я не помню, как ты дарила разные игрушечки и кувшинки с пруда? Никто мне, кроме тебя, не приносил прекрасных кувшинок.
− Смерч! Можно там гулять и любоваться.
− Смеются надо мной. А утром кувшинки ещё закрыты… Ты дарила фигурки из шоколадных яиц, помнишь?
− Забыла. Я тогда была совсем маленькой, а ты таким большим, − я надула щёки, вся надулась комично, чтобы его рассмешить.
− И совок ты дарила, и формочку, и фломастер, и уточку для ванной. Я с ней до-олго потом играл.
− Хорошо. Спасибо… – Как же его зовут? Вылетело из бошки! − Ты мне объясни: люди с хвостами, ты – разговариваешь. Что сие значит?
− Мне просто повезло. И тебе. Нам – повезло. В нашем доме – они… − Смерч перешёл на шёпот. С лавок у второго корпуса послышалось пьяное гоготание. Такое же я слышала и у себя под окнами ночами.
− Да кто они-то?
− Они ещё покажутся тебе. Хорошие люди, человечные. Очень и очень человечные.
− А хвосты? Что это значит?
− Человечные… Хоть и черти.
Пьяные ребята встали со своих лавок и через газон, через тротуар, подошли к нашей лавочке, обступили.
− Глядите! Смерч себе какую девушку отхватил! А, Смерч?
Значит, они нас видят, значит мы в нашем мире, я жива. Меня не грохнули!
Я сидела спокойно, но вся напряглась, незаметно сжала кулаки.
− Уходим, − Смерч поднялся, я тоже. Он взял меня под руку, и мы пошли вперёд, а там уж направо в темноте, к подъезду, к помойке, где еле светилась лампочка.
− Мычишь? Ась? Ну мычи! Мычи! – пьяный гогот летел нам в спину.
− Что это? Разве ты мычал?
− Для них я выгляжу так же, как всегда. Но не для тебя.
− Я что: особенная?
− Нет.
− А в чём дело?
− Извини, я не могу на эту тему говорить.
− На какую тему? Есть темы, на которые тебе запрещено говорить? Кем запрещено?
− Н-нет, адгезийцы ничего не запрещают. Мне неудобно называть причину.
− Не поняла. Что-то связанное с отношениями?
− Да. Они… – Смерч показал себе под ноги, – они любят таких, как я.
− То есть, − я чуть не сказала «больных», − особенных?
− Да. У меня не было девушки, понимаешь. Они любят, когда нет у человека отношений, то есть нет и не было. Понимаешь?
− Смерч! − Я так испугалась. Даже не заметила: были ли хвосты у тех пивных ребят.
− Не-ет, они все бесхвостые. Хвост заслужить надо, − Смерч показал кавычки.
− А у меня-то нет хвоста? – я стала оборачиваться, как котёнок, который охотится за хвостом.
− Ну что ты, Мальва. Ты наш цветок, наше украшение. – Тут Смерч понизил голос, мы как раз входили в подъезд. – А бабушку твою Зина убила. Я всёо-о видел.
− Ты тут был, в подъезде?
− Я дома был, но видел.
− ? – Ну, я превратилась в вопросительный знак.
− Между дверями схватила её − и по башке, всё равно, ведь, на травму от падения списали.
− А-ааа… Но за что? За что?
− Мальва! Я знаю, что ты забыла, как меня зовут.
− Нет! Я всегда помнила, что тебя зовут Славик. – Я вдруг резко вспомнила его имя. − Как я могла забыть!
− Странно, − озадачился Смерч. – Мне казалось, ты мучаешься и не можешь вспомнить, вот тебе и на, − он развёл руками, как ребёнок, когда водит хоровод про каравай, Смерч вёл себя по-детски.
Смерч жил на первом этаже, иногда он гулял по этажу, прогуливаясь по тамбурам, и тогда, и сейчас. Раз он говорит «видел», значит, видел.
− Они поругались у лифта, Галина Арсентьевна что-то сказала резкое, пошла на выход, а Зина за ней. И твоей бабушке стало нехорошо, а Зина … добавила и убежала. Я тогда как раз из укрытия вышел.
− За что? То есть – из-за чего ругались?
− Не помню. Зина что-то требовала, угрожала, что-то … нет, не помню.
− Они сильно ругались, твоя бабушка всё за голову держалась.
− Но умерла она от сердца.
− Всё! Я спать. Устал. Я рад тебе, тому, что ты здесь, что смог рассказать. Думают: больной, можно всё отнять, издеваться, больной овощ ничего не понимает и не расскажет. А я всё понимаю, просто я в своём мире, форева, понимаешь?
− Понимаю, Славик! Рада была поболтать! – Я обняла Смерча. – Ты красивый, Славик. Прекрасный Вячеслав. Ты найдёшь свою любовь. И кепку обязательно носи, никого не слушай.
− Ма-ама заставляет… Я ей пытаюсь сказать: стрёмная, а мама… Ты же знаешь, какие мамы.
− Ещё бы Смерч. Мне мама запретила носить джинсы дырявые. Ну правда они были слишком уж дырявые, и был март… Но это ж мода такая. Но мама считает, что это позор. У родителей заскоки, Слав, они не понимают нас, − ну надо ж было как-то его успокоить, он пустил слезу, рассказывая, как мама заставляет его носить эту бейсболку с ироничной надписью.
Я сделала вид, что поднимаюсь по лестнице, но остановилась на следующем пролёте, продолжая топать на одном месте, вскоре я услышала мычание Смерча и ругань его мамы, она кричала, что волновалась, как он один и в темноте. В ответ я услышала скулящее мычание.
Глава девятая. Поиграем в капитана-немо
Стиралка давно отстирала и отключила табло, лишь огонёк напоминал, что вещи во чреве присутствуют.
« Ты Лунтик?» − вспыхнули буквы на стене.
Почему это?− возмутилась я.
«Ты вернулась!»
Радио бормотало бодрым голосом – повторяли утреннюю политическую программу. Я заварила чай, решила не идти на балкон за сыром, хорошо, что конфеты под рукой, и сухарики… По радио заиграл гимн – полночь, начало нового дня. В детстве меня всегда удивляло – ноль часов ноль минут. Я не понимала, как может быть двенадцать и тут же ноль.
− Доброй ночи дорогие адгезийцы! Да здравствует безвременье! Всем тем, кто живёт от полуночи до полнолуния, кто предан полуночи, как лунные месяцы солнцу, пусть эти месяцы и не всегда лунные, иногда нас радует пасмурный дождь, не всё же смотреть на звёзды…
Ведущий бредет. Эта та самая станция, самонастраивающаяся.
− Радио наше действительно немного странное. А что не странное в безвременьи? Всё, что беспокоит, то и странное. Мысли волнуют, поступки тянут, совесть тяготит, и нет тому конца, как нет предела вселенной, как нет края адгезиийской равнине под землёй безвременья.
Я как-то сразу успокоилась от убаюкивающего голоса. Всё нормально, мне почти не страшно. Полумрак, свет настольной лампы. Пусть так, пусть так…
− Многие спрашивают: зачем люди возвращаются в своё детство? А затем, что детство нельзя забывать. Жизнь земная − всё детство, одно сплошное детство. Люди хотят сожрать друг друга, как дети друг друга убить. Многие хотят забыть шалости, а может быть и не совсем шалости. Если нас слушает молодёжь, хочется задать конкретный вопрос: как часто вы ненавидели? Если ответ положительный, есть шанс познакомиться с нами. Кто не найдёт себе оправдание, тот не наш слушатель…
Что он несёт, что он несёт?
− А несу я вполне понятные вещи, глаголю можно сказать истины. Тупиков, кто боится ночевать в пустой квартире, смею уверить: всё под контролем и меньше удивляйтесь, чтобы не отправиться в дом хи-хи навсегда. Вы на нашей земле и под нашей охраной. С вами ничего не случится. Мы лезем из панталон, выпрыгиваем из ботфорт, объясняем за скобками непознанное, подсознательное или секретное. Опознавательные знаки, маркёры, хвосты встроены в картину мира, мы показываем вам настоящее, а не мнимое. Вы не довольны, вы боитесь, вы хотели уехать, чтобы жить во мнимом? Вы наивны, как всё человечество. Итак, адгезийцы, вперёд! Если вы хотите разгадать семейные загадки и понять что-то о себе, вы останетесь здесь. Обещаем вам, что ни одна мальва, анютина глазка и львиный зев не пострадают во время адгезийских сходок, вписок и соседских разборок… Адгезия – страна без границ, страна мук и просветлений − так говорил великий гений, даже если он этого не говорил.
Я не заметила, как заснула под бессмыслицу − водопад звуков, не слов, а именно звуков…
Напоминание 3. Горбуша и фантазии
Мне снился лагерь. Я не маленькая девочка, мечтающая стать лучше всех, как в конфликте с сёстрами Лобановыми. Мне десять лет, а может одиннадцать, неважно, а может и важно. Я – с Улыбиной и Левицкой. В соседней комнате Асколова с Горбушей. Мы с Левицкой выступали на Москве, мы обе баттистки. Она сильнее меня. Тогда была сильнее. Но я знала, видела: она сдуется. Пусть она чемпионка Москвы, а я пока без призов. Левицкая – богатая, судила соревы в белых трико-платьях с трико- штанами, очень круто выглядела. Она яркая такая, как и я, волосы у нас одинакового цвета. Младший её брат пришёл в бассейн, так всем сразу объявил: у меня сестра Лера Левицкая, как вы её не знате?, да как вы смели её не знать? Левицкая не то что со мной так прям хотела общаться, тем более дружить, да и я её избегала. Она первая к нам с Улыбиной подошла. Сказала:
− Я с Асколовой в комнате не хочу. Ещё эта Горбуша.
В нашем бассейне есть инвалиды. Реально неходячие или с отсохшей рукой, или ещё что-то. Они и на Европу ездят, да и вообще – чемпионы. Заслуги тут не только их, заслуга здесь родителей. У инвалидов свои соревнования, но на внутриспортшкольных они с нами участвуют. И все им хлопают, хлопают, потом перестают хлопать. Я тоже шлёпаю в ладоши как все. Ну вроде как они герои, и все преклоняются перед их героизмом. И наверное они герои, но мне от этого ни тепло, ни холодно. Параллельная реальность, я не хочу в неё лезть. Хотя тёти Светиного Валерика реально жалко: он был ведь норм, ну мало ли там – судороги. Я вообще не о том. В бассейн, и даже в спортивные наши группы, прорываются тоже разные болящие. Ну там, сколиозники, горбуны. И вот Горбуша из таких, у неё кифоз третьей степени грудного и поясничного отделов. Я в спортдиспансере случайно услышала. Так что это точно. Она симпатичная, можно сказать красивая и одевалась лучше Левицкой даже. Она была постарше нас на год. Плавала очень прилично. Это раз.
Асколова была младше нас на год, она считалась неперспективной, но пока плавала не хуже среднего. Но я в свои одиннадцать видела: Асколову попросят из спортшколы. Это два.
Левицкая ненавидела Асколову. Не спрашивайте меня, почему; Левицкая так решила. Это сложно объяснить. Тут и поведение, и слова. Асколова была такая вся знаток любви. Тима Тарканов чуть с ума не сошёл на пензенских сборах, он её игрушками задаривал, а она предложила остаться друзьями, Тиму даже тренер успокаивал.
А я ненавидела Горбушу. Не спрашивайте меня почему, я тоже не смогу чётко ответить. Она, ясно было с самого начала, звёзд с неба особых не хватала, плавала неплохо, но не более. А её держали в группе. Догадайтесь с трёх раз почему. Если вы думаете, что я тут напишу, то нет. Я со свечкой не стояла, когда тренера родители «благодарили». Мама тоже дарит подарки, ну просто она так себя ощущает. Суёт мне сумку и говорит: иди поздравляй. Но мой тренер, он реально получилось мне как бы второй отец. Он всегда пошутит с группой, и со мной персонально, всегда подскажет что-то. Ругает после сорев, никогда не хвалит. Хвалят же, когда до человека дела нет, похвальбы техники-то и скорости не прибавят. Тренер принимает участие в моей спортивной жизни, расстроился из-за мастера больше меня, мы с мамой ему благодарны. В бассейне все хотят плавать, бассейн – золотое дно. Перед новым годом в тренерской пакетов подарочных с дедами морозами, снежинками и снегирями – ряды. И не только подлизаться, многие реально благодарны, ибо плавание – лекарь посильнее лекарств. Но я бесилась на Горбушу. Я считала, что нечего занимать чужое место. Повторюсь: Левицкая бесилась на Асколову, я – на Горбушу, а пацаны бесились на Пузыря. Бесячая такая выдалась смена. Пузырь – кролист. Бывают мамы дуры, мамы –дебилки и мамы-полные дрындодебилки. Мама Пузыря была из дрынд. Она таскала сына по всем соревам с первого класса, а потом перевела его на домашнее обучение. И он, понятно, не учился вообще, тренился два, а то и три раза в день. Но все, кроме его мамы понимали: это бесполезно. И поэтому Пузыря подначивали и ржали.
Всё и началось с Пузыря, его как бы в шутку начали топить на тренировках, эта игра называется «Капитан Немо». Тренеры любят обозвать то всадником без головы, то капитаном немо. Ну в смысле, если глубоко со старта заходишь и на повороте погружаешься – всадник без головы, если на финише сил не хватило – капитан немо. На утренних всем лень в капитана немо играть, а вот после завтрака – самое то. В этих утоплениях опасно, что они всегда неожиданные. Вот ты тренишься, плывёшь по дорожке, ты в ритме, когда на тебя нападут, сбиваешься, возмущаешься и ещё больше от этого захлёбываешься. Пузырь впахивал без сачкования, но ему тяжело давалось держаться за другими. А когда сил у человека нет, то легко можно хорошо так захлебнуться – силы нужны на единоборство, ну как в фильме про тайну двух океанов, а сил-то и нет. И Пузыря подтапливали. Ну так пошутить, никто его топить по-настоящему не собирался. Ради смеха. Получалось это не часто, тренеры же смотрят. Надо было выбрать момент. Вслед за пацанами, мы с Левицкой и Улыбиной стали подтапливать то Асколову, то Горбушу. Асколова сильно отбивалась и стучала, нас всех наказали однажды. А Горбуша – нет. Она, видно, могла очень долго находиться под водой, она хватала конечно меня за ноги, или Улыбину, но не очень цепко, не до крови, не как Асколова впивалась.
Как-то, просто ради прикола, ради хохмы (меня в то утро посетило прекрасное настроение) напала на Горбушу на утренней: «Поиграем в капитана немо!» Тренеры все сонные, отвлеклись, и как раз Горбуша навстречу по дорожке плывёт. И я её притопила видно дольше обычного. Хорошо, что я поняла быстро, нырнула за ней и вытащила наверх. Она была не очень красная, как все, кого топят, а уже зеленела, видно испугалась (поэтому и захлебнулась), и я потащила её к бортику за плечо, придавила вертикально, нажав на диафрагму и она очнулась. Она как-то смогла выбраться из бассейна, пошла нетвёрдыми шагами и села на скамейку. Тренеры всё что-то обсуждали, а Горбуша всё сидела, у нас вылезают иногда, если ногу сводит. И мне было прикольно, совсем её не жалко. Вот ни капельки. И никто не вылез её пожалеть, все плавали. Пузырь стал после этого как-то Горбушу успокаивать. У него мама реально жестокая, она его ремнём хлестала в детстве, чтобы быстрее плыл. Пузырю капитаны немо – так, перетерпеть можно, просто в голове сильно шуметь начинает. А Горбуша – она ж там радость всей семьи, с неё все пылинки сдувают, она утончённая. Она приходит как-то зимой в шикарной шубе и пушистом таком воротнике, и ещё не успела переодеться на офп, а пацаны её спрашивают:
− Крези (они Горбушу Крези звали), Крези! Зачем ты убила кота?
А она не поняла, что это про воротник ирония, она стала им по серьёзке жаловаться − у неё оказывается на самом деле кот умер. Они ещё больше гогочут, чуть не плачут от смеха, а она думает – они кота её жалеют.
Вспоминая сейчас тот эпизод, я жалела Горбушу. Она бросила бассейн год назад. Как-то она переросла всех по годам. Её не выгоняли, как других, она сама ушла. В преддверии восьмого марта я ехала на автобусе, он открыл двери у метро. Я сидела у окна. Люди выходили и заходили, а Горбуша уже в другой шубе с ещё более шикарным пушистым воротником стояла на остановке в компании видно одноклассниц, она точно была душой компании, она смеялась и шутила, она даже не удосужилась посмотреть на окна автобуса, между мной и ней было всего-то метра два. Она с подругами ждала другого автобуса. Был такой день, яркое небо, как обои старого «ворда», пронзительное солнце, как вспышки лампочки системного блока, такие дни по весне случаются чаще и чаще. Я поняла, что она добрый и открытый человек. Никто не видит её голую спину, никто не обсуждает, как она мастерски нивелирует горб центральной перемычкой на брендовом топике. Она такая же, как все: в этом меховом пальто с огромным воротником повышенной пушистости. Ей было наплевать на меня, она выкинула меня из бошки как дикий кошмар, в бассейне после «немо» она от меня много лет шарахалась. По-моему она считала меня чуть ли не убийцей. Когда Левицкая начала истерить из-за результатов, психовать и ругаться с тренером, я видела, что Горбуша не злорадствует как остальные, она ещё больше стала опасаться Левицкую – та стала всем рассказывать, что Горбуша может сглазить, поэтому у неё самой горб, она чёрный маг. Когда Горбушу убрали из нашей группы, перевели в среднюю, она наверное единственный человек за всю историю бассейна, кто радовался переводу к мелким. Лишь бы не видеть Левицкую, ну и меня как можно реже.
Левицкая чуть не помешалась от обиды, с этого момента она проигрывала в нашем бассейне всем серьёзным. Левицкая стала пропускать внутренние старты, или судила, стала рассказывать, что ей важнее учёба, а не разные там водокачки – ну как все, кто не тянет. А потом она стала судить постоянно. Она не могла без бассейна, и не только без воды, она привыкла обсуждать всех, общаться. Асколова её обходила стороной, и ещё кое-кто, но в целом многие к ней норм относились. Левицкая смирилась, как сейчас смиряюсь я… А Горбуша просто перечеркнула плавательную страницу. Ей был нужен бассейн из-за позвоночника, вот она и терпела. Наверное, теперь она ходит в другой бассейн. Теперь её отпускают одну подальше, может даже она снимает с кем-то дорожку, для себя тренится, думала я, когда закрывались двери автобуса. Она так на меня и не взглянула, а я ждала, я хотела, чтобы улыбка слетела с её лица, чтобы она съёжилась под моим взглядом. Как же я тогда в автобусе злилась, что она обсуждала что-то очень интересное со своими девчонками, она была лучшая среди них, меня в её жизни не стало. И я знала как минимум одного пацана в бассейне, которому она нравилась. Вы догадались, что это был Пузырь.
Тоска разлилась по мыслям, тоска и обида, и наверное сожаление. Зачем? Зачем я мучила Горбушу? Зачем я издевалась, делала каменное лицо, игнорила общение, зачем я испепеляла её взглядом…
− Да все над ней посмеивались. Ты как все.
Я открыла глаза и посмотрела перед собой, но ничего не увидела, по радио играла тихая вкрадчивая музыка. Я закрыла глаза. Передо мной сидела Зина, лицо размыто, как блин. Она как морской царь на дне Нептуна сидела на троне. Но тронов в квартире никогда не было, даже стульев. Только шатающиеся табуретки, найденные на балконе, восставшие из пепла, починенные дядей Васей.
− Ты думаешь ты особенная? Ты как все.
− Шваброй своей не тыкай в меня. Ты мертва.
− Твоя бабка тоже.
− Моя бабушка не по своей воле. Ты её убила. Ты её обокрала. Я тебя ненавижу. Я не знаю как, но я отомщу твоему внуку и его семье.
− Поиграем в капитана немо? − Зина страшно загоготала. Её рука стала расти и впилась мне в шею, я барахталась и задыхалась, но шла ко дну, к кафельному дну бассейна. Я не могла дышать, повсюду была изумрудная вода, а потом всё темнее, темнее, сквозь глубинную толщу свет не проникал.
Я очутилась в какой-то комнате, я кашляла и ловила воздух всей грудью. Горбуша сидела на стуле нога на ногу. Потом она встала и стала танцевать. Она держалась так прямо, так гордо и независимо, совсем не пришиблено.
− Я сейчас скручу фуэте, − сказала она. – И ты умрёшь.
− Да пожалуйста, − ответила я. – Крути свою фуэту. Обкрутись.
Она стала закручиваться, как полотенце, мы таким иногда хлестали девочек-абонементниц, выгоняя их из душевых. Полотенце-Горбуша стало хлестать меня, приговаривая: это тебе за вредительство, за наглость, за мерзость. Мне было ужасно больно, лицо пылало, плечи жгло. Но я молчала, я не хотела, чтобы видели, что мне больно. Я молчала… но воздуха снова стало не хватать…
Кто-то положил руку на моё плечо. Я открыла глаза, покрутила головой как это делает кот Том после того как его в очередной раз огрел палкой хитренький мышь. Ещё не хватало видений.
− Ну даёшь, Мальва, − передо мной стоял мужчина, из тех, из самоедов-себяедов, тот что в рыжем одеянии − в коричневом костюме с жёлтыми полосками…
От испуга я тут же очухалась и села: в комнате ни-ко-го!