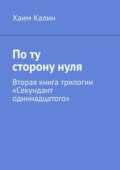Хаим Калин
Под солнцем и богом
Его захватили: королевство истомы, могучих – вплоть до кипения крови страстей, тайны запретного, яд вожделений. Пусть Иоганн эти полчаса на себя обычного походил мало, к нему не раз наведывалось немыслимое для его профессии чувство – душно-приторная зависть, рано или поздно передающая эстафету тупой ненависти. Тем временем его корневище всею носоглоткою мычало, будоража его материю лихоманкой взбучившегося либидо. Все, что ему хотелось – чтобы Морис и дальше выбалтывал – один сюжет смачнее другого, одно гульбище похоти за другим… Что он, впрочем, и делал.
Никогда не сливаясь с жизнью «объектов», порой преследуемых годами, Иоганн испытывал к ним почти вселенское равнодушие. К Морису же он пусть не проникся, но от вырванной щипцами «исповеди» в некоей лощине внимания просел, откинув зад, как макака.
За годы служения дьяволу он по-настоящему увлекался лишь одним – историей оружия – коллекционировал отраслевые книги и публикации. Сверху хобби ограничили девятнадцатым веком – и ясно почему: патроны ревностно берегли его легенду датского коммивояжера-предпринимателя, специализирующегося на сбыте офисного оборудования. Надраивая и, когда нужно, рихтуя оболочку его легенды, в Москве и в Европе работала целая бригада поддержки.
Для гормональной разгрузки предписывались услуги одной из древнейших, как впрочем и его, профессий. В Копенгагене, в иных местах, им часто посещаемых, кандидатуры жриц любви, предварительно просветив, утверждали…
Как бы там ни было, ни одна из женщин порог его квартиры не переступала. И Иоганн даже не помнил: так сложилось из-за кем-то установленных правил или свое брала его брутальная природа, не испытывающая нужды в интиме, тепле очага.
То, что не удалось его многочисленным врагам, в схватках с которыми отшлифовался его монстроподобный характер, обществу соблазнов, где он обитал с начала шестидесятых, в считанные минуты совершил юркий, многоликий прохиндей Шабтай, казалось бы, ничем в обществе не выделяющийся. Сексуальные игрища, почти еженощно устраиваемые Шабтаем, с разносолом подробностей, которые, словно наркотик, вколол в его вены портье, пробудили у Иоганна жор сатанинского вкушения, а к эпилогу – тупое волочение за колымагой скабрезностей, явно перегруженной, даже с учетом «красноречия» отчаяния.
Многонациональный хор, включавший в себя чуть ли не все женское белое население Габороне, и, как легко просчитывалось, – не из посудомоек, а жен дипломатов и прочего элитарного люда, давил на его барабанные перепонки и, судя по позе, на что-то другое. Выдержав множество испытаний на живодерскую прочность, на высоко-кулинарном блуде сатана прокололся…
Все же рассказ Мориса, чувственного романтика-вуайериста, почерпнутый из опыта еженощных подслушиваний у двери Шабтая и взбудораживший постное, лишенное фантазий либидо «гостя», затереть его генеральную задачу не мог. Мозг Иоганна бесстрастно отложил «фонограмму» последней случки Шабтая, выданную Морисом то ли в середине, то ли в условном конце, дышавшем «донышком баллона». «Дальнейшее зачем?» – спросил себя Иоганн, прочувствовав, что тема блондинки исчерпана, а прочие, несть числа, гульбища Шабтая, лишь туманят прицел. Но слушал, не перебивая, по мере того как «баллон» портье пустел, в какой-то миг иссякнув.
Морис попытался встать, с горечью сознавая, что выдал на гора до последней крупицы. Но увидев перед собой лужу, отпрянул – убоялся поскользнуться. Глаза безотчетно заметались, пока не остановились на полотенце, все еще лежащем на коленях, но промокшем от его пота насквозь. Портье дернулся в поиске иного «хвороста для гати», но, увы, под рукой ничего. Взмыл полотенце над головой и, точно неврастеничное дитя, метнул со всей силы на пол.
Распрямляясь, Морис ощутил, как дыхание перехватило нечто йодистое, спустя мгновение опрокинувшее в вихрящуюся миражами бездну. Оттуда, ему навстречу, – последнее, что запечатлел – взлетело огромное синее яблоко, то рвущее макушку внезапно выросшими руками, то выставляющее их в виде колыбели, истошно крича…
Иоганн постоял с минуту над распластавшимся на диване портье, одной рукой прижимая к лицу поверженного носовой платок, а другой – держа стеклянный пузырек с прозрачной жидкостью. Позже, хватившись, что явно переусердствовал, запихнул носовой платок с емкостью в карман.
«Гость» повертел головой, остановив взор на распахнутой занавеске душевой. Чуток подумав, двинулся туда. Вскоре вернулся, держа в руке безопасную бритву. Поочередно приподнял безвольные руки портье и совершил два резких касательных движения. Платком протер бритву от своих отпечатков и дал Морису за нее «подержаться».
Квартиру Иоганн покинул тем же макаром, что и проник в нее, – через окно, плотно прикрыв за собою створки.
Последние шаги в доме Иоганн выполнял сугубо машинально, благо навыков ему не занимать. В его же башке царил настоящий кавардак: стонали широкозадые фемины, обихаживаемые многостаночным Шабтаем, ноздри резал смрад похоти, впрочем, дико влекущий, мелькали фотки персонажей, которых так и не удалось «закопать», и где-то, будто в окрестностях, сновали два санитара, кого-то вынюхивающие, не совсем понимая кого… «Перекуривая», Шабтай реготал, потешаясь над каким-то Иванушкой, и довлело ощущение, что Иванушка – он сам.
Тем временем, ловко маневрируя, наверх выбирался фрагмент из «покаянной» портье: «Носовые и шипящие, но язык какой – не знаю, хоть убей! По телефону Шабтай изъяснялся на нем и раньше, не исключено, с блондинкой. Зовут ее Кохана».
Запрыгнув в «Ситроен», Иоганн уставился в лобовое стекло и, казалось, отгородился не только от напарника, но и всего вокруг.
– Что-то непредвиденное? – осторожно поинтересовался Франк спустя минуту, как тронулись.
– Что?! – вспыхнул Иоганн, точно вопрос ни к месту.
– Ты взмок весь, до последней нитки, – бесстрастно заметил Франк.
– Носовые и шипящие, Франк, тебе это знакомо? И еще… – запнулся Иоганн.
– Мне это, Иоганн, не знакомо, – чуть подумав, откликнулся напарник. – Но меня все чаще раздражают твои иносказания.
– Повторяю вопрос: носовые и шипящие, что за язык такой?! – пророкотал Иоганн.
– Польский, – хмыкнув, небрежно бросил Франк.
– Поляки откуда здесь? Посольства нет даже… – засомневался Иоганн.
– К чему тогда вопрос о шипящих? Знал ведь, что польский… На эрудицию или, может, вшивость проверял?! – отчитывал Франк.
– Рули к Дунгу лучше… – вяло отмахнулся Иоганн.
– Польку будем искать? – предположил, покосившись, Франк.
– Не только… – улыбнулся краешком губ Иоганн, наконец вспомнив, откуда ему знакомо слово «кохана».
Оно вынырнуло из молодости, столь далекой от дня нынешнего и его самого, на четверть века «одубевшего». Из поры, которую он выбрил из памяти, словно пушок малодушия, питаясь, как хищник, свежатиной и не задумываясь, что человеком зовется скорее номинально.
В его юные годы песню «Кохана»[14] распевала вся страна. Хотя многие слова в ней лишь смутно угадывались, но в синтезе с мелодией вздымали целый мир. Еще раз улыбнувшись, Иоганн пропел про себя строку, неясно как всплывшую в его пошедшей струпьями душе: «Кохана, твiй кришталевий свiт, кохана…[15]»
Все юноши его поколения и он, не исключение, восхищались этой песней, которая будто стелила жирный чернозем с набухающими розовыми бутончиками, необоримо, хоть и неосознанно, манящими к себе. Но это было так давно и столь затопталось на большой дороге живодерства, что улыбку на устах Иоганна можно было отнести разве за счет сдвига коры какого-то там мозга…
Так или иначе целиком переключиться на задание у Иоганна не получалось. «Кохана» перенесла его в битком набитый зал, где аудитория неистовствовала, требуя повторить песню на бис. На сцену с букетом выскочила простоволосая, дивной красоты девушка – в трепетной надежде соприкоснуться с идолом, вручив ему цветы. Маэстро между тем запропастился. И все, что ей оставалось, вернуться ни с чем обратно. Но в том секторе – не спустишься, ступенек нет. Расстроившись вконец, она не знала ни куда себя деть, ни цветы, стоившие зимой баснословно дорого. Идти же через всю сцену под взглядами недоброжелательниц – мол, что, фифа, покрасоваться захотелось – девушка не решалась. Нервно переминалась с ноги на ногу, ожидая непонятно чего или кого. Из зала даже кто-то крикнул: «Не маячь, тащи его на сцену, из-за кулис!», сопроводив призыв хамоватым свистом.
Вдруг у сцены вырос невзрачный брюнет, протянувший девушке руки. Почти не колеблясь, девушка устремилась к нему навстречу, подставила подмышки.
«Герои являются без анонсов, но всегда в самый раз», – подумала мужская половина зала, да и женская тоже.
Приземляясь, девушка уронила букет, и цветы разлетелись в разные стороны. Брюнет собрал цветы и вручил их девушке, подчеркнуто галантно, будто от самого себя. Зардевшись от признательности – то ли за приземление, то ли за цветы – простоволосая красотка в считанные мгновения буквально растворилась в новоиспеченном кавалере. Тот же, не долго думая, легким прикосновением ладони к плечу пригласил девулю на выход.
Когда кумир наконец вернулся под юпитеры, то опешил. Зал по-прежнему ломится от зрителей, но аудитория словно исчезла, устремив взоры ко входу. Некоторые даже отталкивают близстоящих. Лишь запев снова, он увидел, что часть публики поворачивается. Кто на звук, а кто – с гримасой раздражения, когда отвлекают от чего-то необыкновенно важного.
Блицем ловкости повенчанная пара всего этого не видела, двигаясь в вестибюле к гардеробной. Брюнет увлеченно о чем-то рассказывал, жестикулируя, а прихваченная им дива внимала каждому слову.
– Ты проскочил поворот, – прошипел Иоганн.
От неожиданности, а точнее, спертого тона Франк резко затормозил, хотя можно было, сбавив скорость, преспокойно развернуться.
Глава 9
– Тащи его сам, Эрвин, баста! – прохрипел Юрген, хватаясь за провод, три дня как скрепивший группу по воле поводыря.
Сплотив погорельцев, шнур-связка стал приносить ощутимый довесок к покрываемому за сутки километражу. Понукать или искать застрявших Эрвину уже больше не доводилось.
Подопечные остановились, жадно хватая воздух, который обжигал трахею, но в легкие, им казалось, не проникал.
Эрвин освободился от крепежа и пошел обратно – навстречу к группе и Юргену, замыкавшему их скорбный марш. При этом смотрел себе под ноги, в полном безразличии, что там произошло.
Между тем надрывный крик Юргена, массажиста из Дюссельдорфа и самого выносливого участника группы, не застал вожака врасплох. Проблема едва волочившего ноги Дитера еще вчера обратилась в жестокую, неумолимую данность, и всей группе стало ясно, что профессора не сегодня-завтра бросят посреди пустыни подыхать. Та же участь ждет и остальных, с той или иной отсрочкой… Вопрос лишь времени, чей лимит, не будь Эрвина, они давно исчерпали. О том, что он увел их от потерпевшего аварию самолета, почему-то уже никто не вспоминал…
Запас орешков и печенья почти иссяк, воды оставалось дня на три-четыре. Утром они лишь позавтракали, узнав от Эрвина: на обед и ужин не рассчитывайте. На вопросы, сколько провианта в его в мешке, поводырь отмалчивался. Но даже в его лике, редко что говорящем, прочитывалось: жалкие крохи.
После сегодняшней сделки Эрвина, уступившего Юргену свой завтрак в обмен на поддержку Дитеру, все следили за каждым движением поводыря, полагая, что загадочный жест командора – подвох. Правда, какой – бедолаги взять в толк не могли.
При этом группу по-настоящему тревожило иное: почему поводырь их до сих пор не бросил, отобрав остатки воды? Ведь он, исполин, подавил бы любое сопротивление играючи.
– С меня довольно, Эрвин, баста! – вновь прохрипел Юрген, увидев, что вожак приближается. На почерневшем от солнца лице массажиста выделялись одни треснувшие в нескольких местах губы. Казалось даже, что зеленые в оригинале зрачки Юргена заделались карими.
Юрген отпустил руку Дитера, которую удерживал на своем плече. Тот зашатался и вскоре повалился на песок.
Эрвин подошел к профессору и, присев на корточки, принялся его рассматривать. Сотоварищи сгрудились за спиной вожака, затаив дыхание, притом что секундами ранее дышали как гончие.
За семь дней марша щуплый Дитер усох на треть, веся килограмм сорок, не более.
К всеобщему изумлению, Эрвин закатал рукава рубашки доходяги и осмотрел руки, смотревшиеся в отличие от оголенных участков тела анемично белыми. Набухшие вены и узор синих прожилок оттеняли истощение.
Тут, будто спохватившись, Эрвин распрямил рукава, но пуговицы на манжетах не застегнул. Перевел взгляд на шею и, чуть подумав, поправил задравшийся на рубашке Дитера воротник.
Эрвин распрямился, окидывая взором отхлынувших подопечных, чьи лица укрывали шали из обивки самолетных кресел. С десяток раз на день их перевязывали, часто с его помощью. Грубая ткань натирала лицо, вызывая раздражение, но без шалей они давно бы окочурились от теплового удара.
– Кто Дитера потащит? Приз прежний – моя порция, – с оттенком бравады озвучил Эрвин, немало всех удивив. Своим обычным фасадом он напоминал стелу из мыла, самой что ни на есть хозяйственной выделки. Правда, не приведи господь, ослушайся ее, чем только не лягающую… Казалось, в повседневном Эрвине функционировал один вестибулярный аппарат, а все центры эмоций приморожены или же их нет вовсе.
– На сколько пайки твоей хватит? – усомнился Юрген. – Минут сорок, когда прешь за двоих? Сил осталось – разве что на последний вздох! Хочешь с нами, как с Дитером, расправиться? На сей раз, перепоручая доходяг, кем мы в ближайшие дни станем! – Юрген закашлялся, губы его чуть порозовели. Продолжил: – Профессор плох, но, знай, его судьба на твоей совести! Дитер сдал, когда ты его дважды оставил без обеда!
– Ты устал, Юрген, остынь! Да и сделал свое, вон сколько за сегодня отмахали, несмотря на Дитера… – заговорил Эрвин, на диво примирительно. – Очередь других…
«Закольцованные», метавшие взоры то на Юргена, то на поводыря, потупились, и Эрвин понял, что искать волонтера бессмысленно. Вновь присел на корточки и с присущей ему поволокой во взоре неторопливо оглядел близлежащий ландшафт.
Дитер лежал ко всем спиной, сочувствия ни у кого не ища. В какой-то момент распластался и, вытянув руки, устремил взгляд за горизонт, как бы удаляясь от свары, коей был причиной.
В те заоблачные дали его душа могла унестись еще вчера, не подбери его Эрвин. Но этот спасительный жест убежденности профессора не поколебал: вожак его единственный и неустранимый враг в испускающей последние вздохи жизни.
Оторвав голову от подушки апатии, Дитер принялся постранично листать ту самую, не разменявшую и пятый десяток жизнь. Но, не пройдя и полпути, его словно гирей бесстрастной истины огрело: все усилия, положенные на алтарь истории лингвистики, науки о языках, нередко мертвых, и ушедших в небытие их носителей, потрачены впустую, совершенно зря. Воплощать свой дар следовало в прикладное, а не в кабинетную схоластику, слабо вписывающуюся в насущные проблемы рода человеческого.
«Наибольший парадокс человечества, – продолжал размышлять ученый муж, – добровольный отказ от свобод в пользу протектората общества, где и в просвещенное сегодня верховодят снедаемые амбициями царьки, людей глубоко презирающие. И все, что в ходе многовековой эволюции обществу удалось, – это смягчить, несколько припудрив, базовый модуль природы – вселенские джунгли, воспроизводящие себя за счет комбикорма слабых. При этом миссии универсального арбитра оно (общество) так и не осилило. Я же сам – самый что ни на есть комбикорм, как и миллиарды прочих сирых и беззащитных».
Чуть погодя профессор вспомнил о своем соотечественнике, величайшем живодере столетия, и его пронзила сумасшедшая, но всецело захватившая мысль: проживи он жизнь сначала, то стал бы врачом – и не обычным, а генетиком. Тотчас, обвально, с жаром, ему захотелось этой идее-миссии служить, осознавая, конечно, что уже не доведется: «Пусть не я, так другие обязаны проникнуть в тайны генетического кода и в раннем зачатии купировать новоявленных Гитлеров, Сталиных, Мао, иных одержимых абсолютной властью сволочей! Как тех, кто размахивает флагом высших интересов общества, наличие которых не только спорно, но не доказано вообще, так и всевозможных Эрвинов, отъявленных мутантов, призываемых первыми в свою гвардию. А все разглагольствования о диалектике истории, где один злодей, обезлюдив треть страны, что-то там возвел, чтобы изуверы, его наследовавшие, подневольным трудом оборудовали еще один барак на улице, именуемой человеческим прогрессом – сплошная демагогия, оправдывающая насилие как неизбежную данность. Реальность же неумолима: прикрываясь жупелом государственности или классовыми интересами, беспечно скармливаются или калечатся миллионы человеческих жизней, чье предначертание – достойно жить и, как можно реже, испытывать боль. Но разноплеменному сонму вожаков-предводителей на те страдания и боль уникума глубоко наплевать…»
Он понимал, что его идея, в силу своего однобокой крайности, ничем не отличается от расовых, прочих мертворожденных доктрин, хотя, танцуя от обратного, обращает свой скальпель против откровенных выродков, калечащих, по его разумению, род человеческий. Понимал как ученый, все и всегда систематизирующий, но как человек, сотворенный слабым, лишь этим и укрывался.
Дитер свернулся калачиком, ласково «жмурясь» всем своим телом, высушенным солнцем и лихом. Казалось, подобрав под себя ноги, профессор тщится удержать, не выпустить из рук лобзик, столь необычно им собранный, чтобы подрезать, а где и перепилить этот неправый, столь жестоко обошедшийся с ним мир и передать его потомкам.
– С профессором, как все-таки? – обратился к команде Эрвин. – Делать что?
– Переть его дальше глупо, шансов, что оклемается, никаких, а воды и так… – Конрад, тихий бухгалтер из Аахена, прикусил язык. На борту «Боинга» он отметился тем, что, угодив в силки шока, словно сомнамбула удерживал мешок с припасами, не размыкая хвата.
– Без еды мы еще протянем, хоть и сойдем с маршрута, но без воды… – Садовник из Саарбрюккена Вилли, въевшийся всем в печенки проектом озеленения Сахары, трусливо взглянул на товарищей.
– А что сам думаешь, шеф? – хмуро спросил Герд, то ли художник, то ли обладатель иной свободной профессии, определенного места жительства не имевший. Супясь, он решал ребус: чего это Эрвин открыл дискуссию? За всю их эпопею в первый раз…
– Дитер – наш товарищ, а не банка из-под пива, – заявил Эрвин, тихо, но, как всегда, весомо.
– Но он безнадежен, да и… холостяк, в отличие от многих! – Юрген сделал шаг вперед, как бы подсказывая выход. Связка тут же пришла в движение, подхватывая свой скарб.
– Куда? – осадил сотоварищей Эрвин, вновь не повышая голоса. Все остановились как вкопанные.
– Эрвин… ну, не знаю… давай его укроем… чем-нибудь, но торчать здесь… – Юрген искал глазами поддержку у остальных.
– Может, воткнем палку с чем-то белым… Нас несомненно ищут… Или выберемся, вот-вот… – Конрад нечто высматривал, быть может, материал для флажка. Между тем, кроме зубов в отвисших челюстях, о белом в округе ничего не напоминало…
– Белым?… – Эрвин спустил с себя бачок с водой, их самую большую емкость с припасами. Привязанный к телу мешок, с которым ни на секунду не расставался, перетащил с бедра на живот.
Тут вожак принял странный вид: будто в тяжких раздумьях, при этом замечалось давно выношенное решение. Длилось это между тем недолго. Без особых усилий Эрвин ловко забросил Дитера себе на плечо, повернулся к группе.
– Пристрою его под барханами, смотря какой ветер… Пока не вернусь, воду не пить, проверю! – грозно подытожил предводитель.
Удаляясь, Эрвин услышал вздохи облегчения дружно валившихся на песок сотоварищей. Больше от них не доносилось ни звука.
Засыпая, Гельмут заметил, что ближайшую простирающуюся в метрах ста гряду барханов Эрвин миновал и продолжил путь дальше. Гельмута так умаяли невзгоды пути, что вникать в логику движения поводыря он не стал. В сознании даже не фиксировалось корневое: сколько ему отведено на этом сузившемся до инстинктов животного и дышащего топкой Сахары свете?
* * *
Гельмута тревожил какой-то запах, бередивший своей органикой в безжизненном суховее пустыни, но, что это и откуда, он не понимал, мечась в сумбуре яви и сна.
В несытые годы его детства, в разоренной войной Германии, Гельмут в трепетном волнении считал дни до праздника Октоберфест[16], по большей мере манившего соблазном набить пузо до отвала. В его родной деревеньке Ольшаузен, в тридцати километрах от Мюнхена, торжество разворачивалось по тому же сценарию, что и в прочей Баварии: хоровое пение под раскачивания, подстегиваемое национальным коктейлем из пива и шнапса, и чуть ли не круглосуточная трапеза, по которой молодая поросль и воздыхала.
Истошные крики повсеместно забиваемых поросят веселили подростков, к трепету жизни равнодушных по розовости лет. И знаменитая баварская кровянка, прочая гастрономия подворий, продукт того трепета, туманя, распаляли аппетит. Как результат, в дни праздника педиатры вкалывали не меньше, чем хирурги, с утра до ночи штопавшие и вправлявшие пьяный травматизм…
Гельмут проснулся, обнаружив для себя новую явь, но скорее, формат. Вроде Сахара та же, без границ и надежд, те же друзья по несчастью, вповалку спящие рядом, разве что скулы запали совсем. Отсутствовал, правда, Дитер, но с ним мысленно распрощались еще вчера, с облегчением списав с водного довольствия. Иного и так не было. Семерка умалилась в шестерку, высадив обронившего билет пассажира, но поднабрав кредитных пунктов на выживание.
Не исключено, Дитеру повезло больше, чем остальным, подумал Гельмут. Профессора «отселяли» пока еще люди, пытавшиеся даже нечто воткнуть…
В кого они сподобятся завтра, Гельмут не успел рассудить. Он вдруг вычленил Эрвина, резко преобразившегося. Вожака, чья сатанинская сила с первого дня марша, где тараня, а где охмуряя, цементировала группу.
Эрвин сидел, как и обычно, в центре привала, совсем рядом. Но – небо! – его титановый стержень растаял вместе с мылом, органично дополнявшим его. Налившись непосильным грузом, руки безвольно свисали по бокам, а ноги угловато раскинулись, притом что на привалах он их неизменно под себя подбирал.
Суть его провиса, между тем, заключалась не в утяжелении форм, а в глазах, уродливо разбухших. В них не проглядывало ни черты его прежнего. Стеариновая невозмутимость размякла множеством расслоившихся клеток. И, казалось, те глаза раз и навсегда потеряли способность фокусировать взгляд, отображая закат людского начала.
Эрвин не просто выскочил за бровку реальности, а трансформировался в безмозглую тушу плоти, некую кровянку, зафаршированную в бурдюк формовки а-ля человек.
Оцепенев, Гельмут постепенно, копок за копком, зарылся обратно – в воронку, откуда ему то не хотелось вылезать, то где было непереносимо.
Наконец, переболев сумятицей чувств, Гельмут испытал нечто, чему будто не было почвы произрасти. То не вписывалось в жестокую схватку за жизнь, которую он вел с момента злосчастной катастрофы. Этим чувством было сопереживание.
Гельмут уже не мытарил себя, что лишившись поводыря, группа схватится за воду, чтобы, напившись кому повезет, подохнуть поодиночке. Не маяло и одиночество от осознания своей малости и обреченности, коль никто не протянет руку и за собой не поведет. Гельмута повело иное. Он сострадал исполину Эрвину, все-таки вздернутому дыбой пустыни, Дитеру, которого они так торопливо сплавили на небо, остальным сотоварищам, обезличенным лихом.
Гельмут никого не упрекал – ни судьбу, неправедно с ним обошедшуюся, ни Эрвина, тащившего группу, некогда казалось, по сломанному компасу, ни мачеху-природу, так и не ставшую человеку родной. Он просто печалился, сострадая всем и всему на свете, сковырнув корку отупения с задубевшей от невзгод и страха души.
Эрвин дико икнул. Гельмут взглянул на него и, пустив слезу, стал укладываться на боковую. Запах органики, до боли ему знакомый, растревожив нутро, утонул в печали – гаснущего праздником Октоберфест детства.