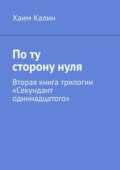Хаим Калин
Под солнцем и богом
Глава 20
Гельмут весь вышел, стравив из запасников последнее: хворостинами застыли конечности, окаменел череп, заиндевела плоть. Казалось даже, что горячий песок ежится под его немощами, отжившими свое. При этом глаза Гельмута мерцали, но не гаснущими кристаллами, которые замыкают последний вздох, а осмысленной, необычного регистра жизнью.
Свет обращал себя в никуда, ни за что не цепляясь, даже за шляпку последнего гвоздя надежды. В нем клубилась мудрость, раз и навсегда обретенный смысл и какая-то рыженькая, веселенькая насмешка над всем сущим – ухмылка мертвеца, который своей праведной, но истончившейся судьбою заслужил право помахать всем нам, грешным, ручкой. И с непокрытой головой шагнуть за облака.
Все же что-то недоговоренное скользило в этом вызове, в этих внеплановых, но столь трагичных именинах.
– Что ты вез, Эрвин? – спросили «глаза», высушенным, но вполне человеческим голосом. Они тут же сомкнулись и о том, что Гельмут по-прежнему жив, говорило лишь шевеление песчинок в районе носа и губ, едва различимое. Сам же адресат в эти мгновения судорожно отхлебывал воду.
Тяжело дыша, Эрвин отбросил флягу и медленно повернулся на звук – уставился на соседа полубезумным взором. Емкость перевернулась несколько раз по окружности и замерла. Из нее не вылилось ни капли.
– Гельмут, что?! – прохрипел Эрвин, безостановочно мигая налитыми кровью очами. Подобрал лежавшую на коленях крышку от фляги, тупо посмотрел на нее и выбросил. Вновь перевел взгляд на Гельмута.
– Пить?! Уже нет…
– Что в твоем мешке, Эрвин?
– Мешке?!
– Точнее, в саквояжах… которые… в нем. Один из них… я пронес… при посадке в самолет. Ты сказал: «Купил подарки… а чемодан отправил еще в Мюнхене». Твой же саквояж… больше нормы». Помрешь… завтра-послезавтра… а все тащишь. Ухожу… дышать недолго. Признайся: что в мешке? Земные тайны… на том свете не засчитывают… только искренность и… грехи.
– Уходишь?! – Эрвин подался к сипящей коряге, выдутой хамсином на последний пригорок судьбы.
– Смотри в оба, Эрвин… гожусь лишь живым. Не проворонь… Все-таки… расскажи… – извлек из себя по кускам Гельмут.
– Для чего? Сам говорил: не засчитывают… – Поводырь двух саквояжей, не разменянных и на контрамарку в рай, принялся раскручивать кольцо соединяющей его и Гельмута связки.
– Странно… как, – вновь засипел Гельмут. – В самолете подсаживаюсь к тебе… Падаем… Салон, где я должен был сидеть, выгорает дотла. Кабели рвем из-под обшивки… Нас… тащишь куда-то. Не понимаем… зачем. Оказываешься правым: нас… никто не искал. Хотели бы, давно… нашли. Тащимся… в связке. И этим же проводом… друг за другом… Ангелы подхватили… Вроде… жить… да жить. Ан нет… Твои… саквояжи все…
– Заткнись, не тронь!!! – Эрвин зашелся в диком кашле, выхаркивая черный суховей пустыни. Руки взметнулись до подбородка и резко распрямили провод, отгораживаясь непонятно от кого и чего. Разве что от коряги-Гельмута…
Шлагбаум из легочных шлаков и хомута постепенно обмяк, и, закатив глаза, Эрвин повалился головой на колени, но провода из рук не выпускал, сохраняя натяжение.
– Ты добрый, Эрвин… совсем… не злой, – вырывал, словно щипцами, из себя слова Гельмут. – Орал зачем? Скоро… подкрепишься, смотришь,… донесешь свой груз. Воды бы тебе. Хорошо бы… оазис… а лучше к жилью. Хм, вспомнил, как… познакомились… на сборе группы в Munchen-Reim[46]. Шутил я тогда: «Смотри, одни… мужчины… Жен на верблюдах… отправили, чтобы… встретиться… в Йоханнесбурге, в конце… маршрута. Оторвутся, по полной». Накаркал… верблюды… А как в самолете… болтали: о лугах, животноводстве… прочем. Деревенские мы с тобой… Лишь в деревне… знают цену дружескому плечу.
Проводник последней исповеди – лицо на коленях – замотал головой, на сей раз вполне осмысленно. То ли оклемался после схватки со злоумышленниками, невидимыми расхитителями саквояжей, то ли так возразил Гельмуту.
– Юрген выносливее, но ты… выбрал меня. Плохо, конечно… что их бросили… у оазиса. Но и тебя понимаю… кагалом… без еды. Да, кстати, на рождество у вас… какие лакомства? – Гельмут чуть оживился.
– Что значит «у вас»?! – Эрвин резко оторвал голову, словно угадал вопрос прежде, чем тот прозвучал.
– Ну… там, где ты родился…
– Я родился в шестидесяти километрах от твоей Ольшаузен, говорил еще в самолете! – отрезал командор.
– Эрвин, обещай… что не будешь… злиться. Как-никак помог я тебе… И как… можно злиться… на того, кто, скорее всего, подарит тебе жизнь? Обещаешь?
– Гельмут, не транжирь силы зря! – прикрикнул Эрвин.
– Время… еще есть. Скажу… когда подступит. Успеешь… Все-таки я ветеринар…
Эрвин вновь уткнулся головой в колени. Его куфия размоталась и повисла космами чудовища, обитающего в дремучих, необитаемых краях.
– Отец был… в плену, у русских, – продолжал свою исповедь Гельмут. – Я родился… через месяц после его мобилизации. Встретились в пятьдесят четвертом, когда… мне исполнилось… двенадцать. Из России он вернулся… полуразвалиной – запущенная стадия туберкулеза. В пятьдесят шестом… умер. Эти два года… – Гельмут замолк, набираясь сил. – Общались много. Получив инвалидность… он не работал. Почти не интересовался… как мы жили эти двенадцать лет. О том, как воевал… тоже помалкивал. Почему-то… проявлял интерес… к нацистским концлагерям. Наш Ольшаузен в получасе… езды от Дахау. Упросил… своего двоюродного… брата Герхарда… свозить нас туда на мотоцикле. Тогда музея… и в помине не было. Лагерь… бытовал почти… в первозданном… виде, служа приютом… для беженцев… из Восточной Германии. Шастая… промеж бараков, расспрашивал: чем… кормили, обмундирование… нормы трудовой выработки, смертность. Никто ничего… не знал, отмахивались как от умалишенного. Порой… казалось, кроме… технологий… превращавших человека… в тягловую скотину, отца не влекло ничего. Разговоры… вел только на эту тему… собирал вырезки, расспрашивал… кого только мог.
Односельчане, побывавшие… в американском плену, вернулись… практически сразу. Мой отец… уже преставился… но из России все еще… тек ручеек наших пленных.
Я много… думал о войне. На примере… отца и десятков… других в один… прекрасный момент понял, что мы, немцы, не столь уж… одиноки… на континенте. Есть… еще один, отметившийся… в злодействе народ – русские. Только изуверы, ничем не лучше нацистов, могли… миллионы пленных… сделать… рабами и методично, целенаправленно… изводить. Заметь… не много не мало… через десять лет… после того, как война… кончилась. И огромные беды и разрушения… которые немцы… принесли России… здесь ни при чем…
Вот и ты, Эрвин… Смотрю… и вижу сквозь тебя… отца, валящего… в Сибири лес. По пояс в воде… полчища гнуса… тиф… Ты пленный, Эрвин, заложник тех, кто тебя послал, кто сделал… таким…
Гельмут зашелся кашлем, но спустя минуту продолжил:
– Пленные рубили сосну, но… ее никто не вывозил, оставалась гнить в… болотах. Треть умирала… в первый квартал, до года… не дотягивал никто. Единственный шанс выжить – попасть… на более терпимый… объект. Тебя… оболванили так же, как и моего отца… каждого, конечно, по-своему. Вне образа раба… отец уже себя не мыслил. Сушил сухари, прятал от нас…Окружил себя… множеством идиотских… никому ненужных вещей: самодельные безделушки, ножики, прочая дребедень, которую… привез из России. Взахлеб рассказывал…о своих истязателях, под различными соусами… оправдывал драконовские порядки… обвиняя собратьев… в лени, злом умысле… и всех смертных грехах…
Гельмут исповедовался, повернувшись к Эрвину спиной, но никакого умысла в таком расположении было. Выработавшись до костей, со вчерашнего вечера лежал как бревно, неотвратимо угасая. Из-под нанесенного ветром слоя песка угадывался больше голосом.
Выдохся и сам вожак, безуспешно пытаясь встать на ноги. Обещанные им трое суток прожиты, без еды покрыто двадцать километров, вода при этом допита, но планете Песков конца края не видно…
Жизнь закатилась, но не закатом, который в эти минуты растекался багрянцем по пустыне, а ржавым пфеннигом, провалившимся меж бескрайних земных половиц. Шурша молекулами, она заторопилась по трехмерной шкале: калории, вода, время. У Гельмута – сковырнула последнюю отметку, а наперснику, хоть и некогда двужильному и ведомому вдобавок сверхцелью, следующего заката не сулила. Если, конечно, не призвать на помощь сподручное…
Между тем, слушая Гельмута, Эрвин менялся на глазах, сбрасывая с плеч вселенскую усталость. Разогнул поясницу и перенес центр тяжести на руки, которыми оперся за спиной. Этой позой чем-то напоминал легкоатлета, настраивающегося за бровкой на новый забег.
Напрашивалось: что же такого произошло, а точнее, из уст Гельмута прозвучало – настолько преобразился Эрвин. Никаких прочих раздражителей в округе замечено не было: та же бескрайняя пустыня, облекаемая в одежки сна, но уже без всяких галлюцинаций. Лишь жар жажды да апатия, сменяющие друг друга.
Исповедь напарника задела Эрвина за живое, пусть человеческого в нем теплилось самая малость. В его изначально стройном, хоть и усеченном до размера бойницы мировоззрении образовалась куча мала. Во многом случайный, но метко пущенный шар повалил скучающие в амбразуре кегли, захламив конструкцию.
Ни длительное обитание в Германии, потрясающей основательностью уклада, ни гул антисоветской канонады, ни на минуту не умолкающий, не заронили за годы на чужбине и тени сомнений: справедливо ли дело, которому он служит и оправдана ли по общепринятым нормам работа, которой посвятил жизнь? Стоило Эрвину услышать живое слово, глубоко личное, выстраданное, не искавшее сочувствия и оттого достоверное до крупиц, как он открыл для себя: о мире, как таковом, его приводных ремнях, кумирах и демонах он никогда не задумывался. Во многом потому, что родился практиком, полагающимся лишь на самого себя, основные приметы и, конечно, усеченное мировоззрение, советским обществом исподволь навязанное. Вокруг же круговорот антагонизмов, чаяний и идей – гигантский плавильный котел, где спекаются миллиарды судеб. При этом мир не стихиен, в нем очевидный, изначально заложенный смысл, свое величие, правда и ложь. Самое любопытное: он един, как эта пустыня, сама Земля, общая для всех времен и народов, – для Гельмута, его замученного в России отца, прочих простых и не очень людей и, наконец, для него самого…
Незаметно он перенесся в казахскую степь, где родился, но на деле бывшей для него неродной. Родителей, крепких курских крестьян, выслали в Казахстан в разгар ледохода коллективизации. Своих двух братьев он знал лишь по фотографиям – их загрызли голодные собаки, когда несмышленыши углубились в дикую степь.
Не успели горемыки-куряне воздвигнуть хутор, чуть обжиться, как грянула война, и их «оккупировали» прежде, чем вермахт добрался до Сталинграда. Семь хуторских дворов уплотнили двумя десятками поволжских немцев, повторивших их горькую долю и маршрут.
В сорок третьем от воспаления легких умирает мать. И он, годовалый малыш, оказывается на попечении постоялицы, бездетной вдовы, поволжской немки, с которой отец, чтобы его не потерять, не долго думая сошелся. Вскоре отца призывают на трудовой фронт, так что свои первые слова он произнес по-немецки. Мачеха, забитая, малограмотная женщина, русского почти не знала…
Чуть позже в ушах зазвучали дудочки и трещотки. Накануне отъезда он столкнулся на Нойхаузерштрассе[47] с пикетом в защиту домашних животных, немногочисленным, но как только не изгалявшимся, чтобы привлечь внимание. В силу деревенской закваски животных любил, но лишь криво ухмыльнулся и пошел своей дорогой дальше. Еще тогда, чуть потревожив, мелькнула неясная, шмыгнувшая в ближайшую подворотню мыслишка. Ныне она созрела, обретя очевидность пересохшей, растрескавшейся, как вся его кожа, истины.
«Доходяга Гельмут, конечно, неправ, обвиняя русских в исконной жесткости, – размышлял Эрвин. – Не знает он русских, да и откуда ему знать! Из россказней тронувшегося умом отца? Его народ можно упрекать в чем угодно, только не в этом. Скорее, наоборот…»
До призыва в армию он варился в соку таких же, как и он сам, ссыльных. Скольких бед и драм наслушался, ни разу, однако, не слышал, чтобы проклинали власть, репрессировавшую невинных, ни сам народ, позволивший над собой надругаться. Костерили кого угодно: судьбу-злодейку, начальство, на худой конец, но только не народ и строй, им возведенный. И, развязывая пупки, в глухой тоске тащили свою лямку дальше… Русские, украинцы, белорусы, все.
«А в чем, скорее всего, Гельмут прав: русские, как и все братья-славяне, быстро, даже угодливо, учатся дурному, волочась за вождями-пророками бездумной, но кучной толпой. И я, можно сказать, такой же…»
– То, что ты русский… догадался лишь днями. Дитеру… признаться… не поверил тогда, – передохнув, вновь заговорил Гельмут.
Эрвин недоуменно посмотрел на сотоварища. Пытался вникнуть, прослушал он последний фрагмент или Гельмут некоторое время молчал.
– О чем ты? – откликнулся Эрвин, так и не разобравшись.
– Отец матерился… только по-русски. Мать… поначалу думала: не хочет подавать дурной пример. Когда же русским… матом защеголяли… мы с братом… окрысилась… Слова… смешные, но запомнились…
Эрвин заерзал, то ли опасаясь темы, то ли предвкушая услышать самый зычный в мире арго в исполнении его тайного, заморского почитателя.
– Последние ночи… ты во сне… ругался по-русски…
– Гельмут, об отце, плене – понятно, но этот бред сивой кобылы зачем? – перебил Эрвин. Подался вперед, обозначая угрозу.
– «Твоу мат»… но начало забыл. Ухожу… не помню. Постой… голландец из Утрехта, Япп Хариус, коровы покупали у него. Теперь… вспомнил: «Япп твоу мат». Смешно…
В прошлый отпуск… собирался в Россию – страну посмотреть. Но туда, где… надрывался отец… не пустили. Не по-людски… Говорят: русские немецкие военные кладбища… снесли, а умиравших пленных… закапывали в могильники. Без единого колышка… не то что креста.
– Гельм… ты… мо-л-чч-ать! – Эрвин захлебнулся спазмом. Держась одной рукой за горло, второй шарил рядом, пока не нашел то, что искал. Пополз в сторону Гельмута…
С первыми лучами солнца Эрвин проснулся. Подполз к емкости для воды, запрокинул ее, но ничего не выцедил. Напоследок поводил по горловине языком, но без толку. Опуская емкость, неуклюже дернулся, от отчаяния. Острой кромкой поранил нижнюю губу – подбородок окропила кровь. Даже не пытался смахнуть.
Хоть и через не могу, с первой попытки встал на ноги – не то что вчера. Быть может, не веря в удачу, или осваиваясь с вертикальным положением, добрую минуту простоял, прежде чем взвалил на спину мешок и двинулся к гряде холмов, упиравшихся в его внутренний компас. На глаз – самых высоких за две недели пути.
Шел медленно, но явно не от истощения, казалось, его движения тормозит какой-то утробный, не переваренный груз.
У склона сбросил мешок, долго изучал рельеф, вероятно, выискивая подъем посподручней. Ничего путного, похоже, не нашел и полез в лоб, там, где стоял. На первой трети поскользнулся и кубарем покатился вниз, соревнуясь наперегонки с мешком. Повторил попытку, но на прежнем месте вновь споткнулся. Опять оказался внизу, уже один, без мешка, на сей раз застрявшего на склоне.
Перевел дух и, осторожно переставляя ноги, добрался до мешка. Распластался на склоне и, развязав тесемку, вытащил из мешка два саквояжа. Прицеливаясь, насколько это было возможно, забросил один за другим наверх – в естественную выемку, ближе к вершине. Второй бросок смазал – саквояж покатился вниз, к счастью, прямо в руки. Пополз, толкая саквояж головой и цепляясь четырьмя конечностями за склон, но быстро выдохся.
Стало припекать, при этом лицо Эрвина оставалось почти сухим. Лишь несколько капель блестели на лбу и под глазами. Аккуратным движением снял влагу с надбровья и поднес большой палец ко рту. Влага только размазала задубевшую на пальце грязь. Тем не менее обсосал палец, не раздумывая. Чуть просветлел, не совсем понятно от чего…
Неожиданно, но бесповоротно Эрвину все расхотелось: утолить жажду, выполнить задачу и даже вернуться домой. А подмывало беспечно шляться по жизни, нигде не задерживаясь, чтобы никогда и ни у кого не возникало вопросов «когда?» и «почему?» Просто плыть на матрасе времени и мерно дышать – даже в это небо, доводящее до безумия своей неизменной голубизной.
Вместо сладостного безделья явился отец, насупившийся, в заплатанной косоворотке, с ковшом воды и косой. Сказал: «Пей! После еды запивают!» Но, не дождавшись отклика, поставил ковш рядом. Присел, как перед дальней дорогой, через минуту встал и, приглашая легким поворотом плеча, зашагал к ближайшему полю, размашисто, уверенно.
Защемило где-то, но по-прежнему ни о чем не думалось и ничего не моглось.
Между тем забвение не наступало. Какие-то шероховатости, чуть покалывая, мешали растаять, забыться.
Он покатил по улочке шикарных особняков в Кёнигзвинтере[48], в тупике припарковал свой мотоцикл. Прошел две улицы пешком, у богатой, облицованной мрамором виллы остановился. Осмотрелся немного и одним махом перевалил через забор. Отмычкой открыл двери, стал дожидаться хозяина.
Тот даже не вздрогнул, когда, включив свет, увидел взломщика, но побелел, как бумага.
Впервые в карьере нейронная атака – мимо, психику объекта (а был он начальником отдела вооружений Минобороны ФРГ) не примяла, от жуткой боли он за голову не схватился и зубами не застучал.
Неделей ранее смежник наведался к бундесу, подсев к его столу в кафе во время обеденного перерыва. Разложил веером фотографии, на которых тот развлекается с семиклассницами. Не впечатлило, смежнику пришлось убираться подобру-поздорову.
Эрвин вновь озвучил задачу: «Какое количество танков «Леопард-2» федеральное правительство планирует закупить? Затребовал, разумеется, и сопутствующую документацию.
Чиновник метнул взгляд на телефон, но обмяк, увидев, что кабель отсоединен. Бросился к массивной пепельнице, должно быть, в намерении разбить окно, чтобы всполошить соседей. Болевым приемом Эрвин упредил. Немец, взвыв от боли, раскорячился на полу.
Последние иллюзии рассеялись: лакомый кусочек не надкусить даже. Ничего не оставалось, как сматываться, «стерев» прежде память.
– Думаешь, теряюсь в догадках, кто ты? – прошипел бундес, поднимаясь на колени и растирая запястье. – Монголы… Орда… В войнах берете числом, но до скончания века вам суждено жрать конину из-под седла и размножаться в шатрах-бараках, как быдло…
Кинулся было свернуть шею, но сдержался. Куряне – народ прочный, да и выучка как-никак. Отключил сознание, оставив лишь копеечный синяк на шее.
Та лютая, осаженная в зародыше злоба высвободилась почему-то сейчас, воскресив цель. Рыча, а когда подвывая, он дополз до лежавшего в выемке саквояжа, а чуть позже – и до самой вершины.
Веки Эрвина то приоткрывались, то смыкались. Казалось, он перепроверяет себя. В километре от гряды, где, подыхая от жажды, он лежал, блестел оазис, за которым зачиналась растительность, правда, хилая, очажками.
Сбросил вниз саквояжи, скатился вслед сам. Запаковал их в мешок, взвалил за спину.
Шел зигзагами, через каждые двадцать метров падая. В трехстах метрах от водоема повалился навзничь, израсходовав последнюю щепотку воли и сил. Прежде чем потерял сознание, подумал: «На этот раз и вправду крышка». Малейшей досады, что до спасения рукой подать, не испытал. Будучи спортсменом по духу, понимал: между победой и поражением нередко сантиметр, а порой и меньше. Между жизнью и смертью – тоже.
Глава 21
Дидье Бурже жутко не хотелось вставать, хотя непременно нужно было. До встречи с Анри, его сменщиком, накануне прибывшим в Чад из Лиона, меньше получаса. Опоздать, не говоря уже не явиться на передачу столь ответственного объекта, как электростанция, Дидье, потомственный инженер-электрик, в принципе, не мог…
Трехлетний контракт Дидье, главного инженера электростанции в Ебби-Бу, самого северного города Республики Чад, истекал через неделю. В ящике его письменного стола – билет «Эр Франс» в Париж, вылетом из Нджамены[49] в следующий понедельник. Как и все авиационные билеты в мире (за свои пятьдесят два Дидье повидал их немало, исколесив полсвета) пованивал свежей типографской краской. На сей раз терпкий аромат не возбуждал, пощипывая таинством неизведанного или перспективой смены въевшихся в печенку декораций и мест. Напротив, вгонял в тоску.
Узнав об обширном инсульте матери, Ивонн, бессменная спутница жизни, три месяца назад улетела в Марсель. Да так и не вернулась, хоть и устроила тещу в специализированный диспансер. Через день звонила, беспокоилась о самочувствии, быте, сетовала: контракт вот-вот заканчивается, на короткий срок возвращаться глупо. Интересовалась, как справляется со своими обязанностями Жужу, их экономка. Отвечал: отлично, как всегда…
Жужжу между тем уже давно не было в живых – внезапно умерла от тропической лихорадки вскоре после отъезда Ивонн.
Двух младших сыновей усыновила сестра покойной, старшая же дочь, шестнадцатилетняя Кану, по африканским меркам – переспевшая невеста, будто бы предоставлена самой себе.
На следующий после похорон день Кану предложила себя в качестве домохозяйки, вместо матери. Дидье с радостью согласился: так устраивался его быт, сбившийся со своей колеи, и решалась проблема ее содержания. Жужу за три года командировки стала им с Ивонн почти родной.
Но этот неожиданный и, казалось бы, выплеснутый волной трагедии шаг, послужил лишь завязкой будущих, маловероятных на тот момент отношений. Освоившись на новом месте, Кану с детской непосредственностью пустилась в намеки, что на нее-де можно рассчитывать в гораздо большем… То и дело говорила: без супруги, наверное, тоскливо, кроме того, мужчине в расцвете лет воздержание вредно.
Те притязания он всерьез не воспринимал: мало ли что ребенок, переживший семейную драму, лопочет. Конечно, не в себе, какой-то заковыристый, посттравматический синдром. Пройдет.
Между тем Кану, сославшись на большой объем работы, дома у себя ночевать перестала и поселилась в комнате Ивонн. Дидье же в последнее время все чаще домоседствовал – контракт подходил к концу, на электростанции забот поубавилось.
В какой-то момент он ощутил дискомфорт. Поначалу тени некогда могучих, но будто давно выработанных эмоций, затем – жжение, свербеж. Непрерывное мельтешение Кану, ее клокочущая молодостью округлость, в приправе раскованности, наконец продрали коросту дремотной, а скорее, увянувшей силы, с забвением которой он давно смирился. Незаметно состарившись, супруги Бурже физически друг к другу охладели (когда – Дидье уже не помнил) и разошлись по разным спальням, посчитав плотскую составную брака отмершей. Чуть погрустив, сказали выдохнувшемуся чувству: «Adieux».
Все же инженер порой задумывался: «А почему? Как мужчина я вполне: инструмент-то с петухами торчит о-го-го! Любовницу почему не завел?» Но кроме потери общего интереса к жизни, то бишь к карьере, не отвечавшей его чаяниям, путного объяснения не находил.
Тем временем первобытное дитя природы на диво аппетитных, накаченных протеинами форм с естественностью дикого животного разгуливала по дому почти в неглиже. И чем дальше, тем реже напоминала о его одиночестве и принадлежности к мужскому полу…
В конце концов, вскочив однажды посреди ночи, Дидье бросился в комнату Кану, дверь которой та демонстративно оставляла распахнутой, и до рассвета погружался в ее телеса. Рассвета нынешнего, затянувшегося на восемь недель, до невозможного жарких, непривычно бесстыжих, по Камасутре изворотливых (для шестнадцати – непонятно откуда), промокших простыней, в бреду…
Срамная стихия, взбаламученная с виду здоровым, но в стебле глубоко порочным цветком засосала Дидье с требухой и портками. Приходя с работы, он, едва наткнувшись на томный взгляд Кану, заваливал ее, где приходилось, и, меняя плоскости и позы, добирался до спальни, чтобы там ненадолго забыться. И начать все сначала, вновь…
Удивительно это или нет, Кану сетей корысти, присущих таким отношениям, не вила и почти не упоминала имя Ивонн. Свято верила, что пугающая разница в возрасте – тридцать шесть лет – не что иное, как плата за ее цвет кожи, африканскую нищету и сиротство. Но, несомненно, чувствовала: исчезни она хоть на день, Дидье озвереет, ведь с первых дней их безумной случки (ни на что иное это, увы, не тянуло) он сподобился в безмозглый, истекающий слюной и прочими растворами придаток.
Дидье и на самом деле в любую свободную от плотских игрищ минуту неотвязно думал о том, как продлить сатанинский пир, на котором дитя врожденного порока, не облизываясь, косточку за косточкой обгладывала его. Но никакого решения, кроме как забрать Кану с собой во Францию, не находил. Самому остаться в Чаде законных оснований не было. Не покинь он страну по завершении контракта в срок, рано или поздно экстрадируют. Разве что жениться на Кану… Но расстаться с Ивонн, дарованным Богом придатком, некогда обожаемым и скрестившимся с ним судьбою, Дидье тоже не мог.
Попробовал заказать Кану паспорт – из этого ничего не вышло. Оказалось, международные паспорта в Чаде выдают лишь с двадцати лет. Для состоятельных семей делают, правда, исключения. В любом случае нужна виза министра внутренних дел, срок рассмотрения просьбы до полугода…
Дидье прижимался к своему наваждению и ласкался как щенок. Ни черная, как сапог, кожа Кану с синим отливом, ни терпкий, молодого пота запашок, покалывавший ноздри, не омрачали его гуттаперчевую усладу – воистину амебный жор, из тенет которого, как он не поглядывал на часы, освободиться не удавалось.
* * *
Даже угасая, человек предполагает, а Всевышний, пусть придирчиво, но располагает.
Практик до мозга костей и врожденный одиночка Эрвин, едва открыв глаза, краешком еще бредящего сознания выхватил: дарован шанс, на этот раз – последний, и он его не упустит.
Из носа лилась кровь, собиравшаяся на песке в лужицу, голова трещала, точно под чугунным прессом, горло, казалось, забито песком.
Эрвин перевернулся на спину, запрокинул голову и зажал нос рукой. В этой позе пролежал минут пять – кровотечение прекратилось. Попробовал сесть – кровь вновь хлынула прежним напором. Ножом вырезал из рубашки два лоскута, законопатил ноздри.
Долго смотрел на мешок отвлеченным, оттенками не богатым взором. Так глядят на знакомую с рождения стену, давно некрашеную, с трещинами, но в доску свою. Притянул проволочные лямки и, поворачиваясь на живот, вдел в них руки, загружая мешок на спину.
По-пластунски пополз в сторону воды, не делая остановок. За ним тянулась струйка крови, берущая начало из уже присохшей лужицы. Абрисом напоминала лик Гельмута, который, казалось, смотрел своему наперснику, а может, сводному брату вслед – то с болью, то с напутствием.
Предводитель изведенного войска, но с трофеями, хоть и чужими и у своего же народа отнятыми, стертыми до мяса руками торил себе путь. Его носоглотка хрипела: «Орда не быдло, быдло не орда». Вначале по-немецки, а у самой кромки воды – на том, что бредил языке.
* * *
Начальник Оперативного отдела Первого управления КГБ Андрей Кривошапко в это утро брал Вену, которую знал как пять своих пальцев. Но знал заочно: по километрам пленки, отснятой советской агентурой, ее письменным и устным отчетам и… наконец рассказам отца, штурмовавшего в сорок пятом этот редкой красоты город.
За годы службы в разведке Кривошапко выехал заграницу лишь второй раз. На заре карьеры три года пробыл в Нью-Йорке в качестве референта ООН, под ее дипломатическим прикрытием…
Ныне столица мира, конечно же, деловая и с оговорками политическая, после проведенных в Вене суток задвинулась на задворки предпочтений как откровенный китч. Казалась ансамблем закопченного кирпича и безжизненных небоскребов, замышленных для охмурения непритязательных эмигрантов (кем и была, по его разумению, американская нация), ну и третьего мира князьков.
Рингштрассе, собор Св. Стефана, Венская опера изумляли изяществом стиля. Он манил в кардинально иную жизнь – изыска церемоний, вековых традиций, этикета. В королевство шика, не ведомого гражданину увязшей в бездорожье, но чванящейся мнимым величием страны. В мир праздной утонченности, вышколенных манер, вальса… Немецкую чистоплотность и добротность общежития и упоминать лишнее.
На вложенное по команде Остроухова в швейцарский тайник письмо, предлагавшее встречу, Корпорация отреагировала лаконично, но исчерпывающе: «Время и место: Вена 24.01.1980 г. в 9:00. Остановка конного такси у дворца Шонбрунн. У контакта на руках кожаные перчатки вишневого цвета, на голове – вязаная шапочка футбольного клуба «Аустрия». Пароль: «Вам длинный или короткий?» Ответ контакта: «Длинный, если уложимся в полчаса». Завершение пароля: «Без проблем».
Утомлять напутствиями Остроухов не стал, ограничившись: «Надеюсь, понимаешь, что в этих лимонах наша судьба, твоя и моя». Молчание визави, хоть и бесстрастное, воспринялось как знак согласия. Тут же заговорили о «коридоре», то есть пересечении границы, что поначалу представлялось более сложным, чем злосчастные миллионы выцыганить. Начальники отделов Управления – как носители уникальных государственных секретов – даже на визит к живущим в провинции родственникам испрашивали визу зампредседателя, формулируемую порой: «Только с охраной!»
Обыграв несколько вариантов, Остроухов и Кривошапко заключили, что все потенциальные препоны – а было их бесчисленное множество – обойти невозможно, так что лучше остановиться на наиболее простом: прицепной вагон к поезду «Москва-Будапешт» до Вены. Таким образом отсекался «Шереметьево», их главная преграда, где каждого пассажира снимали на видео.
Кривошапко немало подивился, когда раскрыл протянутый Остроуховым канадский паспорт, со своей фотографией и всеми уместными отметками въезда-выезда. Ведь обратиться в собственную «Службу документации и удостоверений», эвфемизм сектора подделки документов, оснащенную по последнему слову техники, Рем Иванович будто бы не мог. Но расспрашивать полковник не стал – на то Остроухов всему голова, матерый глава единственной эффективно работающей в СССР структуры.
Благополучно минув границу, Кривошапко в эйфорию вместе с тем не впал. Вместо прежних страхов объявились новые, а точнее, настороженность к близящейся встрече. Смущало все: пароль, не несший смысловой нагрузки, явно не шпионское время – девять утра, да еще какая-то гужевого транспорта остановка. Хорошо, хоть не на конном заводе – трупный запах отшибает…
Полковник прибыл к Шонбрунну в 8:45 и исподволь исследовал окрестности. Остановку конного такси нашел сразу – красочная табличка с изображением фиакра и лошади хорошо просматривалась. Но, объяв пространство со всеми составляющими, захандрил пуще прежнего.