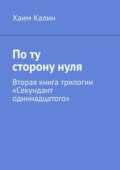Хаим Калин
Под солнцем и богом
Иными словами, куда бы кривая предприятия, пусть хорошо им обсчитанного, не вывела, Остроухов, полагал Богданов, в нештатной ситуации выкрутиться и друзей-подельников прикроет. Даже когда неделю назад все полетело в тартарары и с таким риском изъятые из бюджета два миллиона сгинули, невозмутимость, с которой Остроухов вел их писчебумажную летучку, плодимые им идеи, выглядевшие вполне подъемными, лишь укрепили к нему доверие – и без того неоспоримое.
Но на поверку все оказалось блефом. Остроухов просто играл, хоть и талантливо, как и все, что он делал. Хватило лишь легкого толчка извне, якобы грозящего разоблачением, – именно так Остроухов расценил доклад Ефимова – как гранитный монумент его величия рухнул. И тривиально запаниковав, генерал совершил сразу несколько грубейших ошибок, прежде для него невообразимых.
На самом деле доклад Ефимова серьезной опасности для заговорщиков не таил. Позволь Остроухов начфину с ним вовремя ознакомиться, то ничего бы взламывать сегодня не пришлось. Но это так, на полях проблемы. Корень же ее, полагал начфин: Остоухов, ни с кем не советуясь, ревизора либо отстранил от должности, либо арестовал. Тем самым наломал не просто дров, а осиновых колов, только маячивших на горизонте после аварии «Боинга».
Просмотрев лишь четверть архива ревизора, Богданов, к своему превеликому удивлению, открыл, что большую часть времени Ефимов на службе кропал… докторскую диссертацию и ни о каких подкопах не помышлял. Быстро сориентировавшись, что врученный ему Андроповым мандат не более, чем синекура, созданная председателем для громоотвода (на всякий пожарный), и никаких реальных полномочий у него нет, Ефимов разгадывать кроссворды как журнальные, так и шпионские не стал и переключился на карьеру научную.
Обнаруженный ночью дубликат доклада ревизора говорил лишь об имитации активности и ни о чем другом. Да, доклад отмечал скачок в агентурных расходах (увы, как начфин не утаивал подлинный материал, затемнить поле обзора не вышло), но от опытного взгляда финансиста не ускользнуло: ревизора беспокоила не расшифровка дебита, а его конфигурация, так сказать. Ефимов не требовал оргвыводов, а рекомендовал умалить рвение в части раздувания одной статьи расходов за счет ряда прочих. Шалит, дескать, цифирь, приглядывайте. Более того, никаких следов канала связи Ефимов-Андропов в бумагах ревизора он не нашел. Да с чего бы? Диссертация дело нешуточное, до дембеля бы управиться…
Богданов лежал на спине и тупо смотрел на абажур, ему казалось, непривычно отяжелевший. В какой-то момент начфину стало чудиться, что, набухая в размерах, полусфера по миллиметру снижается.
Он резко вскочил, сбрасывая ноги на пол. Почесав макушку, замер на краю кровати.
В этой позе начфин просидел до утра, лишь однажды сходив в туалет. Никаких гримас скабрезности на его лице больше не проступало, но в душе Богданов порой подсмеивался, нервически, правда…
Он неотвязно думал о том, что его полуночные рефлексии о крушении единственного в его жизни мифа, за которым, пусть мерзко потея, он укрывался, – оторванная от реальности блажь. Его участь намного горше. Получи он даже «вышку», ныне кажущуюся неизбежной, забвению все же предан не будет. Лет через двадцать его помянут как героя, отважившегося бросить вызов тоталитарной машине всех времен: надо же, такого монстра развел, пусть личной выгоды ради!
Однако дотянет ли он до позорного, регламентированного законом конца? Задумавшись о туманной участи Ефимова, Богданов вдруг вспомнил, как на их эпистолярной сходке, созванной Главным по следам аварии «Боинга», он пустил по кругу вопрос: «Какие инструкции Шабтаю?» Взглянув на реляцию, Остроухов застыл, точно столкнулся с внезапно выросшей преградой, но спустя секунду-другую беспечно черкнул несколько слов. После чего передал цидулку Куницыну, бесстрастно, точно он сам передаточное звено. Генерал-майор, взглянув на вопрос и комментарий, брезгливо поморщился и скормил «протокол» бумагорезке. Тем самым оборвал принятый в их форуме цикл, то есть не вернул реляцию автору запроса.
В той чумной неразберихе было не до протестов, да и тема возникла случайно, от растерянности что ли. Сегодня же, прикидывая возможную судьбу Ефимова, Богданов почему-то зацепился за тот эпизод, да так и застрял на нем. К утру он постиг, что пытаясь выгородить себя, Остроухов, не исключено, готов – тем ли иным способом – устранить сподвижников либо – что более вероятно – забросить их в судьборезку трибунала. Ни один из документов, выводивших из бюджета огромные суммы, Главный не подписывал…
Богданов встал на ноги и отправился к сейфу, стоявшему рядом с письменным столом. Достал из кармана брюк связку ключей, открыл. Порывшись, вытащил пистолет, обоймы не имевший. Насколько он помнил, патроны хранились подле ствола, но в серой мгле зачинающегося дня нащупать их не смог. Развернувшись, он зашагал к выключателю, держа оружие в левой руке. Терпкий, разнесшийся по комнате запах масла, казалось, добавил начфину решимости.
От ярко вспыхнувшего света Богданов зажмурился. Тут его посетило, что за свою жизнь он упражнялся в стрельбе лишь единожды – в день, когда получил личное оружие и форму старшего лейтенанта КГБ. В армии служить не довелось, а в Комитете от стрелковой подготовки он, под тем или иным предлогом, уклонялся. Ломай теперь голову, где предохранитель… Богданов опустил руку и без всякого энтузиазма потопал к сейфу обратно.
Сейф под завязку забит папками и журналами. Начфин принялся нехотя вытаскивать содержимое, которое по ходу дела изучал, хоть и поверхностно.
Дойдя до журнала «Newsweek», ноябрьский выпуск 1979 года, Богданов впился в него взглядом. Резко перевернул обложку и обратился к оглавлению.
В эпоху холодной войны любое солидное общеполитическое издание немалую часть своего объема посвящало противостоянию военно-политических блоков, рассматривая оружие возможной войны: «Трайденты», СС-20, МИГи т. д. Однако памятки по обращению с пистолетом «Макаров» в «Newsweek» быть не могло. Однозначно.
Богданов раскрыл журнал на двадцать восьмой странице, углубился в чтение. Спохватившись, что стоя читать неудобно, отодвинул стул у письменного стола, сел.
Светало. Бушующие в этом часовом поясе липкие метания, угрызения и комплексы унимались, уступая место энергии созидания…
Название статьи, так круто изменившей намерения полковника, не просматривалось – нависнув над журналом, начфин закрывал его. Зато имя автора – сбоку – читаемо: Мильтон Фридман[26]. Статья средних размеров – три страницы. Кажется, что тут размусоливать? Последний позыв к знанию утоли и за дело… Хоть и счетовод, но в погонах ведь! Честь офицера на «Феликсе» к балансу не сведешь! Барабан крути, как исстари водится…
Но нет, Богданов мял листы, исступленно мечась между эпилогом и прологом и черкая нечто на полях.
Шелест-перехлест, казалось, уже мог взбесить соседей. Подленько напрашивалось: не подкинул бы кто начфину канцелярские нарукавники, дабы не стер локти до мозолей…
Во внезапном коленопреклонении перед некими истинами Богданов не услышал, как квартира пришла в движение: в соседней спальне проскрипела дверь, в ванной зажурчала вода, а чуть позже – на кухне затрещала сковородка.
В кухне раздался голос, но его приглушило кваканье жарки. Минут через пять воцарилась тишина, которую оборвал деликатный стук в дверь спальни-кабинета.
– Дима, вставай! Завтрак на столе!
– Что?! – Богданов, как ошпаренный, вскочил, метая взгляды то на стол, то на несгораемый ящик с мрачным, прямоугольным зевом.
– Дима, ты в порядке? – Супруга Богданова приоткрыла дверь.
Зину смутила не разобранная постель. И, не услышь она прежде голоса мужа, то наверняка испугалась бы.
Распахнув дверь, Зина увидела, что на супруге лица нет, а правый карман брюк необычно оттопырен.
Душа великой в своем долготерпении и редкого такта женщины мелко-мелко затряслась: столь затравленного лика мужа за двадцать лет супружества она не припоминала.
Лицо Зины поплыло, смазалось. Взгляд же стремился к карману Богданова, откуда выглядывал некий массивный предмет, образно напомнивший ей рогатку. При этом на рогатку он не походил – ни весом, ни формой, ни торчащей тупой металлической рукояткой.
Зину подмывало закрыть лицо руками, но правая рука дошла лишь до груди. Погладив шею, та медленно сползла обратно. Чуть погодя ее материнские недра пронзило: выхватить этот привод беды и забросить куда подальше! Но тело ослушалось, мерзко деревенея. Зина прикипела к полу, не в силах пошевелиться.
Богданов резко притянул к себе стул и уселся, ощущая мерзкую дрожь. Какое-то время он бессмысленно переводил взгляд с Зины на пол и обратно, почему-то выравнивая штанины в коленях. Казалось, все его «я» замурыжено в складках брюк.
Тем не менее вскоре полковник встал на ноги. Будто хотел нечто сказать, но лишь вяло махнул рукой. Чуть покачиваясь, прошел к окну, оперся руками о подоконник. Потряс головой, точно норовя себя растормошить. Похоже, вышло. Анемичная фигура «задышала», выламываясь из корсета обреченности.
Богданов рассматривал узоры инея, позабыв об апперкоте страха – не заметила ли Зина лежавший на столе пистолет – следствие затмения наложить на себя руки, сгинувшее столь же внезапно, как и явившееся. Не думал он и о самодовольно-мясистой роже приговора, исчезнувшей в антракте разворачивающейся драмы, но мерзко дышащей в спину. А парадоксально преобразившись, вкушал звонкие, щемящие годы своего ученичества в Америке, вспоминая гуру-наставника Мильтона Фридмана, готовую диссертацию, которую, бесцеремонно отозвав на родину, Минпрос похоронил. Размышлял об экономической системе, где без всякого риска можно лепить, как вареники, компании, мерно богатеть, а, измени фарт, обыденно ликвидироваться, оставляя всех и вся с носом, отношениях, при которых любой выбор – прерогатива индивидуума, а не нахраписто собранной из вторсырья машины-пугала общества. Еще Богданов думал о том, что для того, чтобы заниматься интересным, творческим делом, необязательно красть чужие секреты, терроризировать целые страны, ввергая их то в пучину гражданской войны, то в апатию нищеты и упадка, как и совершенно не нужно принадлежать к касте избранных, которая, прокрутив его на мыслимых и немыслимых тренажерах лояльности, к себе подпустила, а достаточно застолбить свою нишу и, если Богом дано, строить замок удачи на зависть друзей и врагов. Его же трагедия в том, что имел несчастье не в том месте или не вовремя родиться…
В какой-то момент Богданов осознал, что Зина по-прежнему в комнате и неотрывно за ним наблюдает, но, наиболее вероятно, за торчащей из кармана рукояткой пистолета, коль он повернут к ней спиной. И, выходит, совершенно зря он запихнул оружие в карман, лучше бы оно оставалось на столе…
Полковник медленно повернул голову и, выдержав паузу, сказал:
– Не стой, Зина, собираться тебе…
– А это?…
– Что «это», Зина?
– Ты не станешь?…
– Нет никакого «это». Есть только ты и я. И еще, видимо, что-то…
Как только за Зиной закрылась дверь, Богданов бодро устремился к столу. Подхватив горку папок, адресовал себя к сейфу. Наклоняясь, полковник застыл. Завалившаяся и тем самым спасшая ему жизнь обойма, своим кончиком выглядывала из-за папок, которые он не успел перебрать.
Богданов осторожно опустил папки на пол. Одной рукой вытащил из кармана пистолет, другой – обойму из сейфа. Непринужденно загнал обойму в «Макаров» и положил оружие на стол. Поднял папки с пола, аккуратно просунул их в свободное пространство и подравнял ранжир.
Полковник осмотрелся, будто выискивая, что еще пристроить, и, не поворачиваясь, потянулся к пистолету. Взяв его в правую руку, он удостоверился, что комплектность на сей раз в порядке и… вложил в сейф. Но не спрятал, а прислонил спереди – к ласкающей его взор канцелярщине. Закрыв сейф, проверил надежность замка. Секунду-другую колебался, убрать журнал «Newsweek» в ящик стола или нет, но лишь закрыл его. Нежданно-негаданно состроил уморительную, точно у клоуна рожицу и… исполнил ласточку, фиксируя левую ногу параллельно полу.
– Что у нас, Зинуля, на завтрак?! – громко потирал руки Богданов, войдя на кухню. В таком веселом, с налетом задиристости, состоянии духа, резко преобразившемся, Зина мужа воспринимала с трудом.
Потухшая, выжатая как лимон спутница внимательно осмотрела Богданова. Дождавшись конца завтрака, посетовала:
– Не отдыхаешь ты, Дима, изведешь себя…
Когда Богданов пересекал КПП управления, облик отформатированного от прически до пят офицера советской разведки, отличавший всех прочих входивших, к нему явно не клеился. В глазах резвился озорной чертенок, а в разухабистой походке сквозил вызов. Причем всему и всем.
Отдавший ему честь охранник долго щурился: должно быть, норовил уловить запах алкоголя или иные отклонения.
На 9:00 у начфина назначена аудиенция у Главного, в реестре приема не значившаяся. Но Остроухова на месте не оказалось. Когда будет, секретариат не знал. Отсутствовал и Куницын, к которому полковник наведался прежде, чем зашел к Главному.
Весело болтая полами пальто, начфин устремился к своему кабинету. В какой-то момент его посетила неожиданная мысль: звучит ли марш при вручении Нобелевской премии? Если да, то какой? Но думка не отложилась, затерявшись на марше.
Задиристый кураж резко пошел на убыль, когда начфин увидел группу сотрудников, в растерянности топчущихся у кабинета Ефимова. Четверо, у самой двери, – офицеры орготдела, у стены напротив – Остроухов с адъютантом, коих начфин заметил чуть позже.
Полковник остановился, наблюдая, как один из офицеров открывает кабинет ревизора. По движениям – самым традиционным образом. Впрочем, ничего удивительного: дубликаты всех ключей Управления, помимо ключей от сейфов, хранились в специальном шкафу орготдела.
Богданов понимал, что ротозействуя, нарушает этический кодекс разведки, негласно включающий в себя сотни, а возможно, тысячи иезуитских установок, по большей мере профессионально оправданных. Но блюсти ту хартию он больше не желал, чекистом себя более не считая. Испытав помутнение рассудка, из клинической смерти перекинувшее его во вторую жизнь, пусть короткую, на свой имидж он плюнул. Смахнув с себя заскорузлые путы, твердо решил, что остаток дней проживет духовно раскрепощенным, смакуя каждый отпущенный миг. И посвятит себя, насколько это возможно, любимому делу…
Дверь в кабинет Ефимова открылась, начальник орготдела с двумя офицерами прошли внутрь. Главный за трио не последовал, но что-то шепнул адъютанту. Тот немедля присоединился к вошедшим.
Богданов неотрывно наблюдал за Остроуховым, чуть лыбясь. Генерал тем временем невозмутимо смотрел в открытую дверь, делая вид, что его не замечает. Начфин озадачился: неужели патрон не внемлет вызову, который уже бесит его самого?
Наконец генерал чуть повернул в его сторону голову, вопрошая взглядом: «Ну чего тебе?»
Богданов изумился, насколько изможден Остроухов, по-стариковски одрябнув и пожелтев. Черные разводы под глазами выдавали, как минимум, несколько бессонных ночей.
Полковник поприветствовал шефа кивком головы, не стирая улыбку с губ. Остроухов не откликнулся, спокойно вернув барельеф в прежнее позицию.
– Слышали, что Ефимов умер? – огорошил Богданова помощник, располагаясь к докладу.
– Как? – чуть не клацнул зубами начфин, покрывшись меловыми пятнами.
– В орготдел заскакивал, там венок заказывали…
Полковник ошалело перевел взгляд на телефон, который так и не прозвенел вчера в полночь…
Глава 13
У длинной, ладно выстроившейся цепочки такси руль справа – точь-в-точь как в Лондоне, откуда Арина прилетела сорок минут назад. Пассажирка остановилась как вкопанная в испуге, что самолет вернулся обратно – в один из лондонских аэропортов, ей незнакомый. Но обнаружив на рекламном плакате искомое – Йоханнесбург, мило улыбнулась и возобновила движение.
То, что в ЮАР левостороннее движение, Арина узнала еще в школе ГРУ и, прожив последующие десять лет на Западе, забыть этого будто не могла. Да и температура разнилась градусов на двадцать, не меньше. Но удостовериться никогда не помешает…
Внезапный ночной звонок, предписавший немедленную встречу со связным, скособочил части света, воспринимаемого ею, как довесок к Европе, где она обитала и трудилась. Поначалу Арина даже перепутала Йоханнесбург со Страсбургом, городом ее недавнего задания, и связному пришлось все основательно растолковать. Как Иоганн и Франк, коллеги по сымпровизированной на ходу, спонтанно возникшей группе, в Африке она прежде не бывала. Так что ей, женщине, сводившей с ума легионы, запутаться со всеми «бургами» – очередная милая блажь.
Получив от связного страну назначения и объект (впервые – женщину, да еще без фото), она дважды переспросила: как с ней соотносится чем-то знакомый носатик со странным именем Шабтай, чей снимок прилагался? И уяснив, что ориентир все-таки Шабтай, а полька – будто последняя, кто виделся с ним, не без раздражения захлопнула «записную книжку» задания.
Днем ранее снаряженный по душу Шабтая Иоганн, процедив всухую невинную душу Мориса, портье отеля «Блэк Даемонд» в Габороне, озадачился новым объектом – анонимной, но неотразимой полькой, с которой Шабтай провел свою последнюю в городе ночь. Через Дунгу, капитана габоронской полиции, некогда вышвырнутого из Института им. Патриса Лумумбы за попытку изнасилования и избежавшего нар лишь в обмен на обязательство сотрудничать с неизбывно грозным, но и милующим к своей выгоде СССР, Иоганн узнал, что единственные в городе поляки – колония строителей.
Ни у Иоганна, ни у Франка флирт с полькой не заладился по неучтенной причине: кроме родного, полька по имени Барбара (все, что удалось узнать) не владела ни одним из европейских языков, даже на уровне солдатского словаря. Франк просто рвал и метал: страна-недоумок, командировавшая на край света немую! Иоганн же чертыхался в основном про себя: ему это было не понаслышке знакомо…
Привлекать единственного на всю колонию переводчика агенты не решились, лишние уши явно ни к чему. Меры спецобработки Иоганн отринул сразу: гражданка страны Варшавского Пакта, не наломать бы дров. Да и толку – безъязыкая…
Раскинув мозгами, Иоганн телефонировал расквартированному в Париже связному и, пользуясь кодом, передал: «Прислать агента, говорящего по-польски, женщину». Сообщил ориентировку на объект и канал связи.
Франк и Иоганн расположились в разных отелях, приступив к охмурению «ящика» – просмотру южноафриканских каналов. Было ясно: раньше двух-трех дней, а то и недели вестей не жди.
Медленно катившая свою тележку к такси Арина не могла и предположить, что ее объект, Шабтай, отметился в этом секторе аэропорта всего четверть часа назад, и они, на его удачу, разминулись.
Шабтай проснулся сегодня утром в приюте для бездомных, где прописался с помощью раввина литваков, и, даже не позавтракав, помчался в центр Йоханнесбурга. Цель обозначилась еще вчера: спрятать от людских глаз свой автомобиль. Куда деть джип, номерами выводивший, если не на конкретный адрес, то на город его обитания, он поначалу приложить ума не мог. Изготовился было свинтить номера, что, в принципе, мало что меняло, когда решение обнажилось. Спустя час Шабтай уже въезжал на стоянку длительной парковки йоханнесбургского аэропорта, тихо злорадствуя в душе: «Подряжайте дельтаплан… Улетел, а куда – одному Богу известно. Ни на одном-то рейсе не значится…»
Запечатлев Арину, таксист опешил, да так, что ее чемодан просмотрел. Тотчас бросился прилаживать переднее пассажирское кресло, ему казалось, слишком задвинутое вглубь авто. Арина напомнила о чемодане, минула переднюю дверь, услужливо распахнутую таксистом, и открыла заднюю.
– Куда-куда, Габороне? Ботсвана? – не верил своим ушам водитель. Убедившись, что ему не послышалось, секунд десять не мог тронуться с места, мысленно соотнося даму, точно с обложки журнала «Vogue», с той несусветной дырой, куда надлежало ехать. Воровато поглядывая в зеркало заднего обзора, начал движение.
– Нас никто не преследует, сэр, – через полчаса холодно заметила Арина, устав от суетливых взглядов, загадивших, словно мухи, зеркало.
– Да-да! – согласился водитель, вновь украдкой взглянув на нее.
В самолете Арине выспаться не удалось, и сейчас, откинувшись на спинку, она то и дело «прикусывала» зевоту, а порой и выдергивала голову из «несознанки» сна.
Пообвыкнув к расслаивающимся контрастами окрестностям, где жирование белых перемежалось с убожеством сегрегации, Арина открыла для себя, что ремесло забросило ее в самую что ни на есть несуразную страну. Тут, ко всему прочему, бесчинствует тропическая жара, поначалу недооцененная после утомительного, вывернувшего всю душу перелета. Пальто еще в терминале она спрятала в чемодан, а строгий пиджак от «Армани», дождавшись паузы в сеансе прободного вуайеризма, незаметно сняла и положила на сиденье рядом.
Вырвавший из уютной постели звонок на эзопов лад сообщил: предстоит немедленная, длительная командировка. Оттого она и захватила объемный чемодан со всем необходимым. Но связной о саванне умолчал, а скорее, и сам не учел… В Лондоне же шел снег, тотчас таявший, правда.
Ее казавшиеся богемным вывихом сапоги на меху нестерпимо жгли ноги. Само же тело прело, покрываясь испариной.
– Далеко ли ближайший mall[27]? – потревожила таксиста Арина.
– Мы уже за городом, миссис, – сориентировал водитель.
– Тогда разворачивайтесь! – скомандовала гранд-дама.
– Маршрут что, меняется? – чуть не свернул голову таксист.
– Маршрут прежний, ответвление лишь. Кстати, обменяйте мне пятьсот фунтов, пожалуйста.
– Наберется фунтов двести от силы…
– Спасибо и на том.
В торговом центре Арина пробыла целый час, доведя водителя до дрожи в суставах. В зеркало заднего обзора он уже больше не смотрел, буравя взором боковые. Наконец пассажирка возникла в поле зрения. Из ее пакета торчали обшлаги меховых сапог и край какой-то одежки с красочным ярлыком.
Словно пропитанный сладкой патокой колобок, таксист выкатился из машины и угодливо распахнул заднюю дверцу. В знак признательности (похоже, за долготерпение) Арина хотела было улыбнуться, но вдруг зевнула, успев, правда, прикрыть рот ладошкой.
Впрочем, не диво: с континента на континент – эка невидаль летать, гардероб же моднице выбрать – мука да бессонница!
Арина признательность все-таки выразила – лишь уголками губ, опасаясь вновь оконфузится. Поправив юбку, уселась на прежнее место. На ее ногах блестели новенькие, отделанные вычурными лепестками туфли на шпильках.
Обустроив свой гардероб, Арина приободрилась, и ее незаметно подхватило течение задания. Но, сверившись с часами, заключила: вопреки инструкции, встреча с Барбарой сегодня не состоится. Снять отель и привести себя в порядок она не успеет. Да и состряпать «шпаргалки» беседы – времени явно в обрез. Явись без наработок, можно и о порог споткнуться – подозрительности, вполне оправданной, или теорем загадочной, а то и завернутой в себя души.
Тут на нее нахлынул острый позыв взглянуть на фото объекта. Она, конечно, понимала, что такси не место, где разворачивают «карту» задания, но ей захотелось этого здесь и сейчас, неотвратимо. Арина вытащила из сумки косметичку и, пряча ее обратно, незаметно извлекла из бокового кармана снимок. Последующий час дива ощущала звон одиночества, сушивший душу, и какую-то первозданную обнаженность, безо всяких шансов запахнуться.
С фото, в стандартных советских одежках, на нее смотрел молодой человек, первоначально не опознанный лишь в сумятице ночного вызова. От того, прежнего, с которым она дважды сталкивалась, парня отличала лишь короткая прическа. Встречались они не так уж давно – десять лет назад, когда «скрипели перьями» в школе ГРУ. Первый раз – на лекции психологии, непреднамеренно ею сорванной, а второй – на церемонии выпуска, длившейся всего десять минут.
Свою жизнь на родине, заваренную на экстракте серости и собачей неустроенности быта, Арина уже давно из памяти вычеркнула. Слишком та не вписывалась в многоукладность и изобилие возможностей нового пристанища. Но время учебы в школе ГРУ помнила, невольно возвращаясь к нему, хотя бы в силу своей профессии. Да и куда не гляди – мостик между убожеством родных пенат и пятачком, откуда перенеслась в заоблачные выси европейского, а порой и заокеанского истеблишмента, чьих сыновей она то изводила до икоты, то ползать по-пластунски побуждала, выборочно, конечно.
На десятиминутном «выпускном балу» ни с кем из цикла Арина, понятное дело, сблизиться не могла, дивясь через годы, что «бал» вообще провели. Прибившись к стану разведки, Арина не переставала поражаться, насколько внешний сыск продуманный, хорошо подогнанный механизм, приводимый в действие турбиной конспирации. Достаточно сказать, что ее связные менялись ежегодно, дабы, не засиживаясь, как можно меньше знать о партитуре одного из самых ценных советских агентов.
Вся логика устройства сыска, ее походная философия исключала любое побратимство, спайку на ниве ностальгии, пусть одномоментную, и прочее сугубо человеческое. Лишь крупная, повлекшая хаос и неразбериху авария могла двух некогда соприкоснувшихся агентов свести воедино, да еще когда один преследует другого, пусть через третьих лиц.
Из всего цикла Арина только того парня со снимка и помнила, других же – нет. Были те все как на одно лицо, без искры романтики. Такие для нее как бы не существовали, как, впрочем, и большая часть отечественных самцов, в своем большинстве – бычившихся похотью. Нахлебавшись вдоволь подобного «интима», она и забрела на тропу разведки. Иного способа вырваться из резервации ходульных, дисгармонирующих с сутью жизни ценностей не нашлось.
Шабтай, как его нарек планшет задания, своей внешностью будто далекий от того, чтобы слыть сердцеедом, напротив, запомнился своим ненавязчивым, обтекаемо оливковым присутствием. Но в еще большей мере – врожденной деликатностью и обаянием женского угодника, воспринятыми, разумеется, интуитивно.
«Что ж ты натворил такого, Шабтай? – повторяла ныне про себя Арина, кручинясь. – Где лажанулся, что в полночь меня вытряхнули словно песчинку из половика, дабы взять след? Да, по большому счету, мы друг другу никто. Но, не приведи господь, сама оступлюсь… Что, и по мою душу снарядят наряд, заарканить чтобы?!»
При охмурении объектов подданства чужого Арина по женскому добродушию ни разу не задумывалась, каков моральный кодекс тайного ордена, которому она исправно служит, и как сводят счета с вероотступниками, объявись такие. Догадываться начала только сейчас, на конкретном примере коллеги. Судьба однокашника не могла не встревожить, если ее, одного из самых оберегаемых агентов, командировали чуть ли не на Южный полюс всего лишь по-польски погуторить…
«Пусть Шабтай ротозей, болтун или даже предатель, неужели приговорен?» – прорезалось в конце концов.
Она никогда ни читала газет, не смотрела новостей, увлекаясь одними сериалами, которые проглатывала, как мармелад. При этом прилежно листала «глянец», чтобы держать руку на пульсе высшего света, где порой мелькала как комета. В тех изданиях нет да нет да проскальзывали заметки о ее именитых объектах – как до, так и после «интрижки», с охотничьим иезуитством смоделированной в Москве.
Но лишь сейчас, получив некий посыл на примере Шабтая, она вывела закономерность: после разрыва на ее подопечных обрушивались крупные неприятности, притом что степень и временной разброс карьерных, прочих крушений разнились. Некоторые лишались должности, кое-кто вступал в нелады с законом, а один крупный промышленник и вовсе повесился.
Ее занятость длительных отпусков не знала, так что чужие неурядицы в памяти рассасывались, залистывались. Кроме того, в статьях «глянца» замечались недосказанность и едва уловимая брезгливость. Будто дана установка пройтись по вершкам и навсегда забыть. Прочие же источники информации ее не интересовали. Да и зачем ей, женщине, этот вечно пикирующий, норовящий укусить побольнее мир, не зовущий ни к любви, ни к покою?
– Куда вам, в Габороне? – спросил таксист.
Погрузившаяся в печальный разговор с прошлым Арина встрепенулась.
– Мы что, приехали? – далась диву пассажирка, не соотнося мелькающий за окнами караван-сарай со столицей, пусть африканской. Понизив голос, уточнила: – А отели здесь есть?
– Знаю три…
– Тогда в лучший!
* * *
Прильнувшей к окну платиновой диве Барбаре казалось, что она сходит с ума. Прямо на нее, по петляющей дорожке, двигалась к дому сестра-близнец, которой у нее отроду не было. При этом сходства между женщинами никакого, особенно в цвете волос. Странными, невидимыми узами «сестер» сопрягало одно – внешний абрис совершенного, какая-то безупречная, отнюдь не студийная, дышащая полной грудью красота.
Мысленно ущипнув себя и уразумев, что брюнетка не мираж, Барбара вернулась в бренный мир живой, но дико уязвленной. В следующие несколько мгновений ее взор, точно неодушевленный стеклорез, скользил по фигуре брюнетки, норовя зацепить малейший изъян-зазубрину, но, ничего не найдя, переключился на образ в целом. Прежде чем «родственница», одетая в нечто сверхизысканное, проникнет в дом, Барбаре вдруг захотелось сделать ей хоть малую, но болезненную пакость: присобачить бородавку, морщинку, родинку наконец. Но еще сильнее – никогда с ней больше не пересекаться, дабы, не дай бог, не подцепить вирус неполноценности! До сих пор самой красивой женщиной на свете Барбара считала саму себя, преувеличивая в границах разумного…
Между тем Барбара ощущала, остро и необоримо, что свалившаяся непонятно откуда «астронавт» на высоких шпильках шагает именно к ней, нацеливаясь свести особые, не сулящие ничего хорошего счеты.
Белые мужчины-европейцы в их курятник-мазанку наведывались – и все исключительно к ней. Тем самым первое, что платиновой диве пришло в голову, брюнетка – жена одного из ее любовников-немцев, с которыми она недавно поочередно рассталась. Как бы там ни было, брюнетка – первая женщина-иностранка, выказавшая к общаге строителей интерес.
Полька вздохнула с облегчением, когда «шпильки» постучали в ближайшую ко входу дверь, но тут же вспомнила, что в общежитии, кроме нее, ни души. Вся бригада отправилась к венграм отмечать приезд новобранца, непонятно как провезшего через три границы ящик токайского. Стало быть, даже разыскивая кого-то другого, «шпильки» обречены постучатся и к ней, чего Барбаре не хотелось вовсе.
Барбара проверила, заперта ли дверь, и присела на краешке кровати. Тут она услышала, что в комнате, куда сунулась «астронавт» в бередящих душу одежах, кто-то подал голос. Но те фонемы смахивали скорее на хрип, нежели на человеческую речь.