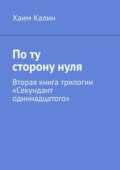Хаим Калин
Под солнцем и богом
Глава 11
– Чего не зеваешь, Петя? После ночной ведь.
– Позеваешь тут…
– Нелегкая вчера кого несла: пьянь, суицид или сердечников?
– Всех чохом, но беда не в этом…
– Что значит?
– Работать не давали, к телефону каждый час…
– С каких это пор дежурного зовут?
– Сам не пойму… Если кто и звонит ночью, сестра, не вникая, посылает. Сегодня – где только не откапывали меня! Странно… даже не представился. Четырежды дергал: «Куницын Виктор – что с ним, в сознании ли?» Когда блатной у нас, главврач предупреждает…
– Курицын – кто-то новенький?
– Куницын, а не Курицын.
– Один хрен!
– Да и случай этот – прямо для учебников!
– Вся наша жизнь в совке – сплошная энциклопедия…
– Игорь, случай – медицинский, совок здесь ни при чем.
– Давай, прогоним по-быстрому, с больными… Мне заступать, тебе на боковую. Прямо посерел весь…
– Так вот, Игорь, пацаны эти – фельдшер, кто доставил, рассказывал…
– Ножевые?
– Поменялись бы на ножевые с радостью.
– Это что – метафора?
– Ослепли они, антифризом траванувшись.
– Ничего нового, – моющий под краном руки Игорь, глубоко вздохнул. – Но почему об этих вывихах, отнюдь не врожденных, кроме нас, врачей, никто не задумывается, спрашиваю я себя.
Краник вдруг зачихал, и вода литься перестала.
– Б…ди! Опять! Сами же, твари, за жизнь свою дрожите, как все! – заорал Игорь.
– От крика трубы не оттают, а морозы крещенские не спадут, – с какой-то серой, стариковской горечью отчитал Петр Туманов, врач-реаниматолог восьмой клинической больницы Москвы.
– Остановились на чем – антифризе? – все еще хмурясь, подал голос Игорь Сова, заведующий реанимацией и друг Петра Туманова. Душа его металась – между неловкостью, которую он испытывал к другу, чурающемуся горлопанства, и лютой ненавистью к устройству жизни, без копейки сотворившего его врачом – для больниц, не знающих одноразовых шприцов…
– Когда дверь вышибли, они… – вернулся к своей истории Петр.
– Какую дверь? – перебил его приятель.
– Закрылись они в подвале. Киряли ведь!
– Русская рулетка… Нет, что это я? Ромовая баба по-русски, а-ля антифриз!
– Так вот, фельдшер сообщил, что они катались по полу!
– Где же еще им? Лезть на стену что ли, без глаз?
– Игорь, не перебивай! Катались они, обнявшись, клубком. При этом вопили, как резанные. Ни в одном учебнике о подобном ни слова!
– Петя, ты хоть врач от бога, но явно не русский. Убежден, что и Павлов не был русским. Скорее всего, обрусевшим шведом или англичанином. От его учения за версту несет прилизанной Европой. Что мы знаем о человеке вообще? Немцы – твари, конечно, но в одном их заслуга бесспорна: всю эту лживую, зацикленную на гуманизме медицину они отважились вспороть, норовя докопаться до сути. Подоплеки не ищи, пацаны-то русские! Умом Россию не понять, душой Россию не измерить… – продекламировал заведующий реанимацией.
– Что ты несешь, Игореша!
– Каюсь, прости, занесло. В этой долбанной стране, кроме как паясничать, занятия не вижу! Да, телефонные звонки откуда?
– Знаешь, вся эта история – какая-то несусветная, из любой привычной схемы выламывается, – взволнованно заговорил Петр Туманов. – Двое траванувшихся из одного подъезда, кореша, шпана местная. В своем подвале и киряли – прибывшая вслед мать причастила. Личность третьего поначалу установить не могли. Женщина его не знала, сам он без сознания, а документов – никаких. У собутыльников – печать порока на лице, его же лицо – холеное, умное. Когда раздели парня, я рот приоткрыл – одни бицепсы. Если не культурист, а спортсмен, то, видать, серьезный. «Химики»-спортсмены, как тебе известно, у нас еще не отмечались. Придя в сознание, он назвал имя, адрес и телефон. Я чуть не ахнул. Те дома с детства знаю: ЦК, Совмин, прочая номенклатура.
После нашего звонка отец прибыл почти сразу. С проходной звякнули: на территории «Волга» с правительственными номерами, к вам. Здесь я связал все воедино: адрес парня, номер «Волги» и иные нестыковки.
«Где он!» – отец с места в карьер. Говорю: «К нему нельзя, только в себя пришел!» «Номер палаты, спрашиваю!» – голосом, не терпящим возражений. «Вы хоть знаете, что с ним?» – кричу я вдогонку. Увидел все сам… Заглядываю через полчаса. Смотрю: глаза стеклянные, уставился в одну точку. Руку сына к своей щеке прижал. Классический шок. Сын же кричит, костерит кого-то: «Меня угробил, дяди Сашин черед!» Психоз, понятное дело… Не отец же «микстуру» в рот лил. Тут меня к телефону. Думал, главврач зовет, мало ли что… Голос густой, приятный, но ощущение, будто звонишь сам – и не лишь бы о чем, квартиру канючишь, вне очереди. Почти на цыпочки встал, ни много ни мало. Какая там реанимация… Себе не принадлежишь, внемля.
– Куницын Виктор, что с ним? – спрашивает.
– Интоксикация с потерей зрения, – отвечаю.
– Жить будет?
– Будет, но ослеп, похоже, необратимо.
– В сознании?
– Да! Психоз, правда…
– О чем говорит?
– В психозе не говорят, понос это – подкорки…
– Мне нужно знать! – сказал так, будто за яйца хапнул.
– Пересказываю, что слышал: «Меня угробил, дяди Сашин черед».
– Перезвоню через час, – после длинной паузы.
Вскоре вижу: Куницын-старший уже в коридоре. Рядом, откуда ни возьмись, два мордоворота. Охрана, а может, стража… Хоть и вышибалы, но при галстуках. Через час новый звонок от инкогнито. По манере вещать – командует всю жизнь – майка к спине липнет. Вопросы те же: Куницын, в сознании ли и что говорит? Признаться, я и не заглядывал, не до того было. Новые больные косяком. Промычал что-то… Фальшь уловил сразу: «Заходить каждые четверть часа». Я ему: «В отделении аврал, да и отец с ним, в курсе он…». «К следующему звонку – всю картину» – обрубил, будто об отце не расслышал. Бегу в его палату. Вижу: пацан привязан, вырывается. Только что идти, а вернее, ползти надумал. Привязали. «Укол успокоительный, немедленно!» – приказываю. Пока кололи, он крикнул: «Любил тебя, батя, так, что и убить решился! Подставил…» Тут пронзило меня: не психоз это, другое, совсем другое…
– Что дру…? – Губы завреанимацией точно защемила клипса страха.
– Остается лишь догадываться… – развел руками Петр.
– И впрямь аномалия – хоть сюжетом, а хоть по Павлову. Давай с пацана обход начнем, – слушавший друга, точно Севу Новгородцева через глушилки, Игорь решительно встал.
В палате Виктора Куницына не оказалось – койка его была пуста. О пациенте напоминали лишь жгуты, аккуратно сложенные на тумбочке, да примятая постель.
Дежурная медсестра на вопрос «Где Куницын?» ответила: «Петр Федорович, сами же распорядились – к офтальмологу! Санитары увезли, будто новенькие… С полчаса как».
Друзья переглянулись – то ли в растерянности, то ли во взаимопонимании – и бессловесно двинулись на обход.
Петр Туманов смотрелся измотанным и чуть растерянным. Правда, в его потухших глазах то и дело вспыхивал изыскательский огонек. Его же друг и шеф, Игорь Сова, напротив, был предельно собран – записывая в блокнот любую мелочь, притом что прежде такой пунктуальностью не отличался. Кроме того, с опаской оглядывался, порой на стены, к которым придвигался вплотную.
– Трудись, Игорь, пойду, – напутствовал Петр Туманов, передав последнего больного.
– Да-да! – Игорь Сова вновь оглянулся. Казалось, не прочь распрощаться поскорее.
– Непыльного дежурства. – Петр Туманов с тревогой во взоре протянул Игорю руку.
– Ступай, Петька, не мозоль глаза… – Игорь Сова вместо рукопожатия хлопнул товарища по ладони.
Обидевшись на двусмысленный жест, а может, крутой поворот в мировосприятии друга, кухонного антисоветчика-балагура, заскочившего вдруг в личину прилежного, запуганного обывателя, Туманов с кислой миной стал разворачиваться. Но остановился и сказал:
– Катались они по полу…
– Кто они? – зло перебил сменщик с не врачебной фамилией Сова.
– «Химики».
– Неужели ты, Петя, ни хрена не понял?! И запомни: я всего этого не слышал!
– Катались они, не обнявшись… – отстаивал свое право на мнение Петр Туманов. – Спортсмен их к себе прижимал. Не душил, а именно прижимал, как бы оберегая. Еле вырвали. Ключ из замка они вынули, а ослепнув, найти, понятное дело, не смогли.
Глава 12
Начальник финансового отдела внешней разведки СССР полковник Дмитрий Богданов корпел над балансом ушедшего семьдесят девятого года. Близилась полночь, но столь поздние бдения ни у кого в Первом управлении, канцелярии высших национальных интересов, вызвать подозрений не могли – по такому графику начфин трудился второй месяц кряду. Его огромная, могучая страна две недели как жила восьмидесятым, отчитавшись перед безликой, но трансконтинентальной по охвату бухгалтерией за минувший год. Ему же пока не выходило с балансом семьдесят девятого расквитаться.
Между тем Богданов совсем не унывал. Такой график отчетности сложился еще при его предшественнике, и за последние пятнадцать лет с верхами по этому поводу трений не возникало. Отправь лишь своевременно просьбу в финансовый отдел Комитета – не заставит себя ждать отсрочка в четыре недели, а то и больше.
По большому счету, любая отчетность его структуры – чистой воды бюрократия, а то и липа. Ведь бюджет Первого управления КГБ относился к разряду наиболее оберегаемых в СССР (и не только) тайн. Ни в одном фолианте Госплана проследить его конфигурацию – пустая затея! Как и у Минобороны, из отчета в отчет перетекала лишь цифирь довольствия и зарплат.
Кому следовало, кое-что об операциях советской разведки, конечно, знал, но скупые сведения передавались полунамеками, из уст в уста. В самом Политбюро среди посвященных – лишь генсек и предсовмина, ну и сам председатель, по штату. Отдадим должное: «красные масоны» стеречь свои тайны умели.
На заседаниях Политбюро задачи из компетенции КГБ обсуждались часто, но разведоперации за рубежом не упоминались даже вскользь. Несомненно, Андропов в общих чертах держал Брежнева и Косыгина в курсе, но все их рауты по делам шпионским сводились к выколачиванию денег. Да и геронтократов, живших от таблетки к таблетке, вся разведывательная заумь скорее раздражала. Диссиденты – тут ясно все: устои, ошейник при-стег-нуть! Но к чему нам столько агентов «вливания», пережив инсульт, артикулировал Ильич…
К тому же сам Юрий Владимирович начинку внешнего сыска знал не многим более, чем старшим по чину докладывал. Вследствие предательства нескольких агентов, сплавивших МИ-6 и ЦРУ массу чувствительных «примочек» службы, в Управлении две трети усилий уходило на укрепление режима секретности. При желании Андропов мог затребовать любую папку, на что разок-другой отважился, но, упершись в «Агент «А» в стране «Б», выполняя задание «В», на шпионскую экстерриториальность, замотанную крест-накрест конспирацией, стал смотреть сквозь пальцы.
Безусловно, по делам службы Андропов и Остроухов общались регулярно, но после введения правил мега-секретности между ними установилась негласная хартия: «Вы нам, Юрий Владимирович, свободу действий и требуемые фонды, мы же, разведка, больше ни одного провала. Но письменных докладов отныне никаких. Лишь устные – Вам и заму-куратору».
На этом и размежевались: нечто вроде кодекса полевой хирургии до более внятных времен.
Вместе с тем старый партийный волк Андропов в доверчивых простофилях не значился. Понимая, что режим сверхсекретности в жизни спецслужбы – данность, пускать дело на самотек вовсе не собирался. Решил, хотя бы для блезиру, внедрить контрольно-профилактическое звено. Назначив подполковника Ефимова инспектором Управления по бюджету, хоть и подчиняющегося Остроухову, но негласно – с полномочиями выходить на председателя напрямую – он прорезал глазок в чугунной двери, запирающей логово профессионалов. Проникновение в святая святых – тайны фискальные – делало работу службы, пусть не прозрачной, так осязаемой.
Получив три месяца назад под дых, концерн «Остроухов, Куницын, Богданов и сын блудный», мягко сказать, приуныл. На тот момент миллион зелененьких из бюджета Управления ускакал, найдя пристанище в одной из банковских ячеек Европы. Рисуя, как кружева, мудреные, троекратно запутанные схемы, свежеиспеченная, хмелеющая от безнаказанности фирма-оборотень споро «ткала» и второй. Третий – под их патронажем, хотя и вслепую – «достреливал» Иоганн: работая в «две смены», он регулярно пополнял их секретный счет. Троицу аж от азарта вело, а тут не то чтобы едет – навечно в их пенатах прописан ревизор!
Посовещавшись, горе-предприниматели решили ботсванский проект все-таки не стопорить. Резко возвращать «лимон» в родные авуары сулило наследить, возможно, больше, чем при его изъятии. Но не менее – однозначно. Ведь провели-то его, в основном, под мероприятия, числящиеся лишь на бумаге. Их наяривали будто вновь обращенные, но на самом деле мифические агенты, без имени, должности и звания. Спрятав концы в воду, резко извлечь и вернуть на берег не так то просто. Пенька разбухла – суши и перебирай…
«Великолепное трио» обкатало проблему на стенде вероятности и отважилось все оставить на своих местах. Остроухов навел справки и выяснил, что Ефимов в Комитете человек новый, в недавнем прошлом – доцент кафедры экономики военного института перевода. За границей ни разу не был, практического опыта в сфере западной монетарной системы не имел. К тому же ни о каком допуске к делам особой секретности и заикнуться не мог. Одним словом, гоняй костяшки на счетах и гадай задачки со всеми неизвестными на кредитной гуще…
На тот момент чадило, обжигая волосяной покров на заднице, иное: как заткнуть глотки многочисленной агентуре, работающей под дипломатическим прикрытием? Хоть по ведомству она плоть от плоти внешняя разведка, но формально и административно, как ни крути, челядь Громыко. Взбунтуйся кто-либо из них из-за немотивированного прикрытия разработки, правдоискатель мог воспользоваться своей, неподконтрольной КГБ, связью. А случись бунтарей объявится несколько, Андрей Андреевич, вне сомнения, учуял бы неладное…
Да и без диппочты МИД можно было обойтись, адресовав «телегу» самому Андропову. Не по уставу, конечно, да и риск подставиться бешенный, но пока амбиции движут миром, даже такая инфернальная конструкция, как государство-динозавр СССР, в неизбывной опасности. Кому как не им, кругу избранных, коих набиралась от силы сотня в многострадальной, троекратно сбившейся с пути страны, этого было не знать.
На поверку, однако, все вышло наоборот. Агентура что-то там вякала, слезно прося «калым» для помолвки, пучившейся от воздержания, а подполковник Ефимов, которого они, обыграв тему, сбросили со счетов, всего за три месяца с момента заступления на должность, бесстрастно заключил: такие крупные суммы для «смазки» западных перевертышей за последнюю пятилетку не расходовались. Причем постиг это, обсосав лишь голые цифры и не имея доступа ни к одному источнику секретной информации. Только отсутствие всякого опыта и незнание цеховой специфики вынудило его обратиться к Остроухову за разъяснениями – по крайней мере так Главный воспринял его доклад – а не адресовать «сигнал» отцу-покровителю Андропову. Между тем, не получи он в ближайшие дни исчерпывающих разъяснений, его следующий шаг угадывался…
О внезапной докладной записке Ефимова, отметившей красным буем потраченные в рекордные сроки два миллиона и со всего маху рубившей последнюю ветку, на которой заговорщики после крушения «Боинга» в качестве последнего пристанища ютились, Дмитрий Богданов узнал лишь сегодня, на три дня позже, чем сам Остроухов, а через него – Куницын.
Генерал-полковник вызвал утром начфина к себе и вручил несколько исписанных от руки листков. При их чтении у Богданова то прели ладони, то что-то другое. На столе лежала специально заготовленная горка писчей бумаги и карандаши для «прений», но, как ни диво, коммуникационная оснастка не понадобилась. Богданов тихо встал, взял со стола выложенные Остроуховым ключи, бросил в бумагорезку прочитанное и так же тихо, почти незаметно, ретировался. Выходя, он заметил, что Остроухов бесстрастно, а скорее, уныло, достает из ящика какую-то папку и даже не косится в его сторону.
«Вот это глыба, фундамент вечного, прямо таки китайский богдыхан!» – успел подумать Богданов, прежде чем просторный коридор превратился в катакомбу, неуклонно сужающуюся…
Буркнув помощнику «ни с кем не соединять», Богданов закрылся в кабинете и минут десять вытуривал из себя корявую дрожь. Причем едва он справлялся с отдельным фрагментом – руками или лицом – как начинал мелко трястись всем телом снова.
Заскорузлым движением он забурился в карман брюк и извлек полученные от Остроухова ключи. Словно испугавшись чего-то, Богданов распрямил ладонь – ключи грохнулись на стол. Точно зубной бор, звук от падения больно вгрызся в его натянутые, как тетива, нервы.
Душевный фантом, верткий, но липучий, мало-помалу растворился, незаметно унеся с собой заплесневелые объедки и прочий захламивший разум мусор. Богданов принялся предметно рассматривать ключи, казалось, ища тавро изготовителя.
Спустя некоторое время начфина посетило, что, возможно, Ефимов не так уж страшен со своим подкопом, коль Главный распорядился изъять весь компромат, снабдив ключом от кабинета ревизора и отмычкой для сейфа. Он распрямил плечи и, будто в облегчении, прислонился к спинке кресла. Расслабон между тем длился недолго – начфин вдруг впал в гимнастику гримас. Он то поджимал губы, то вытягивал их трубочкой, то хмурился, морщась, то его правая щека подрагивала. Из набора мимической риторики он разве что не подмигивал. Быть может, потому, что пережив за неделю сдвоенное банкротство, заигрывать с самим собой – глупо. Ни копья не выцыганишь…
Наконец морщины душевного похмелья разгладились, вернув начфину ясность мысли. Подвижка за подвижкой выкристаллизовалось: возможны лишь две причины, которые могли подвигнуть Остроухова вскрыть кабинет ревизора: Ефимов либо отстранен от должности, либо – что наиболее вероятно – арестован. Но не успел Богданова обдать бриз надежды, как он наскочил на коварный, затаившийся в туманной низине порог.
«Зачем тогда ломиться в кабинет Ефимова скрытно, под покровом ночи? Что мешает все проделать официально, днем? И почему я должен ждать сигнала в полночь, а вернее, отсутствия такового? Может, вопрос об аресте еще не решен и идут последние согласования?»
Глубоко вздохнув, Богданов посмотрел на часы. Минутная стрелка завершала последний оборот, чтобы слившись с часовой, начать отсчет новых суток. Если в ближайшие две минуты не раздастся звонок, на который он отвечать не должен, но упреждающий, что «выемке» – отбой, он отправится на задание Главного. Конспирировать – рукой подать, кабинет Ефимова на его же этаже.
Четверть часа назад по коридору прошел патруль внутренней охраны, что означало: в его распоряжении минут сорок, как минимум. Задерживаясь в последний месяц допоздна, он его режим изучил, и пояснения Остроухова в эпистоле были излишними. После 20:00 обход – каждый час, но иногда, ломая график, патруль выходил на десять минут раньше, дабы планов не строили…
Упреждающего сигнала не последовало. В 00:10 Богданов надел шапку, пальто, перчатки и покинул кабинет, заперев обе двери, свою и приемной. Полный парад – оправдать наличие перчаток на руках, как того требовала сверстанная Главным инструкция. Хотя Богданов, белый воротничок, никакими спецнавыками не обладал, но до такого маскарада додумался бы и сам. Человеком он слыл способным, весьма даже.
Прежде он не раз бывал у Ефимова. Во всем Управлении ревизор контактировал лишь с тремя – Куницыным, Остроуховым и ним самим, получая для аудита от «великолепной троицы» тщательно профильтрованную документацию. Да и как коллеги-финансисты они были обречены «надоедать» друг другу. Надоедал, правда, один Ефимов, натыкаясь через раз – «информация закрыта», под чьим маркером и вошла в историю их завалившаяся из юности в старость, так и не познавшая возраста осени страна.
Единственно, чего Богданов не знал, – это, где расположен выключатель в кабинете ревизора. Так что, проникнув внутрь, он порядком изъелозил рукава пальто, прежде чем нащупал кнопку.
Начфин достал отмычку, прошел к сейфу. Из-за перчаток долго не мог приноровиться к прорези замка, но справился. После первого полуоборота почувствовал, что механизм пришел в движение. Вскоре друг за другом прозвучали два щелчка.
Богданов раскрыл дверцу сейфа и как-то весь вытянулся – уродливый своей рифленой массивностью ящик был пуст.
Подавив изумление, Богданов решительно забурился в сейф головой. Но, измазав перчатки густой конторской пылью, ничего, представлявшего интерес, не нашел. Лишь на нижней полке к чугуну сиротливо жалась подушечка с личной печатью ревизора.
В облике Богданова мелькнули штрихи собранности, вслед за чем укоренилась направляющая цели. Он осторожно закрыл сейф и той же отмычкой запер его. Деловито уселся за столом ревизора, распахнув пальто.
Верхний ящик, как он и предполагал, был заперт, остальные замков не имели. В одном из них – под папками – он нашел нужный ему ключ.
Богданов выложил все хозяйство ревизора на столешницу и, посматривая на часы, принялся изучать аккуратно подшитые документы. Скоро правую перчатку ему пришлось снять – нормально переворачивать листы не выходило. Похоже, своими отпечатками пальцев на бумаге начфин решил пренебречь.
За сорок минут Богданов не освоил и половины архива и, в очередной раз посмотрев на часы, встал и выключил в комнате свет. Опираясь о стол, дожидался очередного обхода патруля.
Ровно в час ночи донеслись шаги и приглушенные голоса – постовые в полголоса о чем-то переговаривались. Чуть позже заскрипели дверные ручки. Когда через одну, но чаще подряд – патруль проверял, заперты ли двери кабинетов.
Он расслышал, как один из охранников сказал: «Этот работает, не проверяй. В журнале записан». «Этим» был он сам.
Через минуту-другую дверная ручка в кабинете Ефимова скрипнула. Начфина точно прошибло током: неужели забыл закрыть? Не забыл. Вскоре об обходе патруля напоминали лишь его мокрые подмышки.
Богданов вновь включил свет и, сняв пальто, вернулся к прежнему занятию – перлюстрации. С часами уже не сверялся, полагая, что к следующему обходу с Ефимовым «будет покончено». Иносказательно, конечно. При этом, просмотрев лишь малую часть бумаг, начфин Ефимова – как возможного изобличителя – исключил…
Открыв очередную, отличавшуюся худобой папку, Богданов снял шапку, но, поправив волосы, надел вновь. Стащив зубами вторую перчатку, извлек из скоросшивателя три машинописных листа. Бегло ознакомившись с их содержанием, забросил листы обратно и оперся руками о столешницу.
Глаза заиграли озорством, со временем обретшим хамоватый оттенок. На губах блуждала издевка и явно не над самим собой…
В конце концов, остепенившись, Богданов вернулся к перлюстрации архива. На сей раз изучал поспешно, почти отбывая номер. В какой-то момент стало казаться, что залихватский шелест страниц заговорил словами – будто «дурак» или «мудак», но из-за внезапной остановки просмотра бумажное «словотворчество» захлебнулось.
Богданов встал и, соблюдая прежний порядок, забросил папки в ящики стола. Оставил лишь ту, худосочную, столь его увлекшую. Извлек из нее листы и просунул во внутренний карман пальто. Его полный иронии лик, словно подсказывал, что время он потратил без толку и конспирировал зря.
Начфин подошел к выключателю, остановился. Подумав малость, отправился к столу обратно. Открыв верхний ящик, вынул из внутреннего кармана листы и вернул их на прежнее место, в пустую папку.
Несмотря на сильный мороз, служебная «Волга» Богданова завелась почти сразу. «День, разверзшийся громом трибунала, к ночи стерпелся даже…» – едва тронувшись, подумал он.
На полпути к родной обители Богданов испытал острый приступ голода, придавленный забавным желанием стибрить где-то поваренную книгу жизни. Той самой, которая, применительно к его персоналии, с недавних пор, как в немом кино, заторопилась к концу бобины, хотя и миновала сегодня внеплановый обрыв.
Начфин несся по скованной стужей Москве, подрядившись постичь сущее. Он не искал ни его формулу, ни общий знаменатель, просто размышлял. О том, как в суете дня все случайно и нелогично, как эфирно переменчива судьба, играя то в поддавки, то в прятки, как у единиц фонтанирует успех, большинство же – корячится в гадюшнике сущего, как натужно дыша, та серая масса тянет свою лямку, чтобы, смыв резьбу души, взойти и не вернуться, как возносит кого-то удача, низвергая, если в прикупе ее чуть больше, и как туманен каждый новый рассвет, если вообще он состоится, и что редкие баловни судьбы – Остроухов и Ко – по сути, заложники амбиций и страстей…
Но пользы из своих розмыслов он не извлек.
Открывая дверь в свою квартиру, Богданов, был крайне осторожен, как и двумя часами ранее. Но на сей раз не как взломщик-любитель поневоле, а как заботливый партнер. Их общий с Зиной мирок лет как пять плескался в милом, но бестелесном лягушатнике, освященным не озвученным, зато безупречно исполняемым контрактом, коему Всевышний пусть не ассистировал, так благоволил.
С женой, а со временем – духовной спутницей, Дмитрию несказанно повезло. Многие завидовали теплоте их атмосферы, не допуская при этом, что пару сплачивает отнюдь не любовь или, на худой конец, обязанность, а глубокое, органичное понимание того, что счастливую семью, единожды возникшую, не заменит наиярчайшая интрига, пусть бурлящая нарзаном свежих, нерастраченных страстей. Хотя начфин, постоянно меняя пассий, давно утолял свой плотский зуд на стороне, но располневшую, подурневшую Зину буквально боготворил.
Из комнаты Зины (они давно спали раздельно) донесся легкий скрип, а чуть позже и шелест халата. Не разуваясь, Богданов с тапками в руке заторопился в зал.
– Спи, Зинуля, тебе же на работу…
– В вашем буфете всухомятку все… – Зина минула мужа, переложившего тапки из правой руки подмышку. – Сам встаешь ни свет, ни заря.
– Сантехник был? – вдруг всполошился Богданов. – Сделал?
(Для обслуживания жилфонда центрального аппарата функционировала особая, специально подобранная техбригада. По неукоснительно соблюдаемой инструкции ни один работяга без особого допуска пересечь порог высшего чина КГБ не мог. С учетом норм зодчества «на авось» и безмерно раздутых штатов госбезопасности подразделение слесарей-сантехников трудилось, не покладая рук. Записываясь загодя, чекисты знали, что раньше двух недель слесаря не жди. Вот и, бывало, загодя справляли нужду на работе, а если приспичило, то у соседей… В нужник – добро пожаловать! Аль не братья-славяне мы? Случись кофуз у нас – мы тут как тут, в обратки!)
– Шайбы или прокладки не хватало. В подвал ходил, – донеслось из кухни.
– Точно, есть там мойка. Надеюсь, заглушил, не оберешься потом… – Обувшись в тапки, Богданов направился к жене.
– Дим, от службы за полночь инфаркт не за горами, – отчитывала Зина, отлично зная, что в девяти случаев из десяти службой и не пахнет. – На пенсию тебе пора.
– У нас, Зинуля, «на пенсию» – жаргон, лучше не знать тебе его…
– Спокойно ешь, подавишься.
– Сама зачем работаешь? Будто не хватает нам…
– Солить себя… – Голос Зины увлажнила слабость. Быть может, впервые с тех пор, как Богданов их альков покинул, оставив после себя корыто, где замачивалось его исподнее да воспоминания.
Начфин отложил вилку. Кособочась, выполз из-за стола и прильнул к Зине, но не воспламенившись влечением, а словно стесняясь чего-то или в раскаянии.
Зина слегка поежилась, но не от соприкосновения тел, а из-за чувства неловкости, как и супруг.
Богданов «жеманился» с минуту, после чего резко отстранился. Обнимая Зину за талию, бережно повел к спальне. На пороге, уже радушно, но чисто по-братски обнял. Упредив любой ответ, исчез за смежной дверью.
Начфин в одежде повалился спиной на кровать, скрещивая руки на груди. Поначалу раздумывал, разоблачаться или доесть вторую отбивную, разделанную Зиной на квадратики их все еще греющей любви, но вдруг криво ухмыльнулся – точь-в-точь как в кабинете Ефимова несколько часов назад.
Дивный эрудит Богданов на дух не переносил канонизацию имен. Любое сотворение легенды пробуждало у него неприязнь, а в лучшем же случае – сомнения. При этом никакой научной степенью он не обладал и в академических кругах замечен не был. Да и с чего бы? Оказавшись в зеленый тридцатник в Конторе, существующей для большинства лишь фасадом, Богданов как уникальный финансист для СССР дематериализовался. Но по месту занятости слыл одним из творцов курса.
Не принимая сотворение кумиров в принципе, Богданов все же одно исключение сделал. Тем титаном был его шеф, а в последнее время – компаньон-подельник Рем Остроухов.
По характеру своей должности Богданов незримо общался с сильными мира, нередко соприкасаясь с рейтузами и подштанниками мировой политики. Тот опыт неоднократно подсказывал ему, что ни один из вершителей судеб планеты не дотягивает Остроухову и до плеча. Ни импульсивно-харизматичные Чегевара и Насер, ни казавшиеся вечными в своей деспотии Команданте и Ким Ир Сен, ни будоражившие массы Валенса и Мандела не обладали набором присущих Остроухову качеств: станинной устойчивостью души, незашоренностью и пророчеством мысли (и где – в СССР, символе идейного фанфаронства), редким даром никогда не терять из виду цель и, преследуя ее, мастерски менять обличья: заключать и расторгать союзы, объявлять войны и перемирия и чего только не воротить под этим безграничного долготерпения небом! Хотя задач у генерала мылился целый табун, все они, переплетаясь, добросовестно тащили одну повозку – бездумно инерционной борьбы, которую СССР вел на международной арене. Как ни прискорбно, не делавшей советский народ ни на йоту счастливее…
Лишь многократно обжегшись и убедившись, что его родина, а вернее, ее социальная система неизлечимо больна, Остроухов, не в силах представить себя вне грандиозной задачи, заложил фундамент иного дела – на этот раз своего личного.
Посмотри начфин в те мгновения на себя в зеркало, то кривую ухмылку со своего лица стер бы, ибо отличался здравыми манерами. Даже к подчиненным относился подчеркнуто корректно. Похоже, его цельная натура скособочилась, что не диво – весь день продрожал от страха. Вот и на босяцкий сарказм повело…
Учреждая в свое время ботсванский проект, Богданов опирался отнюдь не на свой дар финансиста-уникума и деловую хватку проныры Шабтая, а на то, что Остроухов принял предприятие под свое начало. Пророческое, почти экстрасенсорное видение мира у генерала не раз перекраивало политическую карту мира. В рамках того, что он считал для интересов родины полезным, Остроухов, избирательно вращая глобусом, менял правителей, проталкивал «нужные» законы, инициировал движения, подстегивал или тушил конфликты. Оставаясь все время в тени, слыл один из самых влиятельных на планете людей.