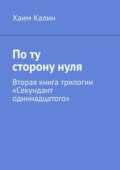Хаим Калин
Под солнцем и богом
Вмяв подбородок в сложенные на столе руки, хозяин с невыразимой тоской смотрел на карту мира, висевшую слева от него на стене. Помощнику, старшему лейтенанту Абдурахманову, показалось – не бессмысленно, а в какую-то определенную точку…
– Товарищ полковник, за нами охрана или что? – обратился к Кривошапко водитель, доставлявший его домой по завершении рабочего дня. Спросил, помня, что никакой эскорт за председателем, не говоря уже о ВРИО, прежде не клеился.
– На дорогу смотри! – сориентировал ВРИО.
В зеркало заднего обзора водитель больше не смотрел, как, впрочем, не делал это и сам сановный пассажир.
Дон Перуцци, совладелец «Оливетти», прочей нерядовой собственности на севере Италии, закончил этот день намного хуже Кривошапко. Последний, доехав до дому, повалился в собственную приготовленную экономкой закрытого правительственного городка постель. Итальянец же мыкался на надувном матрасе при полном параде и до утра не сомкнул глаз. Пристанище – охотничий домик в итальянских Альпах, на границе с Швейцарией, без электрического освещения, с отхожим местом во дворе, но окруженный тремя рядами до зубов вооруженной охраны.
Накануне, в четыре часа по полудню, в его фешенебельном офисе раздался звонок, оповестивший: его родовое имение объято пламенем, а вернее, догорает. Слуги и домочадцы бросились наутек, не успев даже вызвать пожарных. Пожар, мгновенно распространившись, уничтожил телефонную связь.
Пожарные прибыли с почти часовым опозданием, рассмотрев клубы дыма со смотровой вышки, но далеко не сразу. Фазенда от пункта их базирования изрядно удалена, в сельской глубинке, да и то на отшибе.
Дон Перуцци в панике рылся в карманах, когда раздался новый звонок, с интервалом в несколько минут после первого. По-видимому, он искал записную книжку с номерами служб экстренной помощи. Как все обремененные общественной нагрузкой люди, он их наверняка на память не знал.
Голос отличали врожденные ораторские данные, но не это главное. Его распирала, чуть потрескивая, редкая убежденность в том, что за словами стоит. Важно заметить: то была единственная тональность, которую Дон Перуцци понимал, ибо при возведении крепости Корпорации сам ее нещадно эксплуатировал. Тональность, не оставляющая выбора и сомнений.
– Вы нарушили негласный кодекс, сеньор Перуцци. Причем именно тот, который трепыхаетесь всему миру навязать. – Голос вдавился в виски Перуцци, обратив язык в полено. – В этом своде границ, как таковых, и заповедей не существует, но сферы влияния строго очерчены. Вы залезли не в свой огород, пусть он без плетней. Для пущей ясности поясню: с себе равными в век интеграции сотрудничают. Эра оголтелого пиратства, вселенского разбоя канула в Лету. Веление дня: власть предержащие договариваются, размечают зоны интересов и неуклонно их блюдут. Ливийский чемодан не из вашей широты. Срам им не то чтобы воспользоваться, а реанимировать нравы пещер. Допустив сбой, к тому же двукратный, сиречь, неуместный торг вокруг медицинского досье, из-под юрисдикции кодекса себя вывели. Потеряв иммунитет, сомкнулись с разрозненной массой простолюдинов, сирых и беззащитных.
Красный петух прокукарекал, возвестив новую главу взаимоотношений, мало предсказуемую с позиций вашей личной безопасности. Нота объявлена. У вас ровно сутки отыграть назад, сделав соответствующие выводы. Передайте это Синоду, как и то, что со своим самозваным, лишенным кредита доверия строем мы разберемся сами, впрочем, кое-что у вас переняв. В дальнейшем сотрудничество между тем не исключаем… До скорой встречи, сеньор Перуцци. Разумеется, в аду…
Назавтра к вечеру на счет зарегистрированной в Люксембурге компании «I.B. Maritime Cargo Co.» поступило полтора миллиона американских долларов. Сумма оказалась вторым вложением с тех пор, когда в марте 1979 года компания открыла счет, ни вложив ни сантима. Тремя днями ранее счет впервые приобрел положительное сальдо – 500.000 USD.
Через несколько недель счет вновь опустел: разными порциями два миллиона перекочевали в банки Швейцарии, Андорры и Лихтенштейна.
Глава 29
– Да, входите! – Дастин Кимберли, начальник южноафриканского КПП «Мессина» на границе с Зимбабве, небрежно отбросил на стол «Йоханнесбург Таймс». Смена облезлым хвостом тянулась к исходу, засоряя зарубки времени ворсом хандры.
Дверь в вагончике отворилась. В проеме – Фредерик, агент по найму рабочей силы, частый гость на КПП.
– Снова ты?
– Easy, Dustin. Лично я по тебе скучал…
– А я, представь себе, нет!
– Скажи, как Джил, дети?
– Зубы мне не заговаривай. Ты в Солсбери[96] или наоборот?
– Груженый я, под завязку…
– Знай, на сей раз без лицензии Министерства труда не пропущу! Предупреждал!
– На кого лицензия? Быдло? – расплываясь в похабной улыбке, указал за спину Фредерик.
– За новостями хоть следишь? Бунты, беспорядки каждый день – настоящий зверинец! А ты из Родезии прешь их! Спрашивается, своей черноты не хватает?!
– Не кипятись, Дастин. Знаешь ведь: местных на урановые рудники уже не затащишь, разве что диких совсем. А рук не хватает…
– Сказал и точка! Будешь настаивать – арестую! – Майор схватил со стола газету, зло уткнулся.
Фредерик, ничуть не смутившись, уселся напротив. Чуть выждав, приподнялся и с видом завсегдатая перегнулся через стол. Приоткрыв верхний ящик, ловким движением протолкнул в щель пакет, перехваченный двумя резинками. Неделю назад аналогичная упаковка была на треть жиже…
Плавно сползая обратно, Фредерик не спускал с майора глаз. Приземляясь, увидел: Дастин покосился на полуоткрытый ящик, но, будто не заметив гостинца, вновь перевел взгляд на газету.
– Завидую тебе, майор… – как можно доброжелательнее заговорил поставщик смертников. – Пенсия на носу, а мне корячится до скончания дней.
Дастин резко отбросил газету, после чего метнул взгляд на противоположную стену, где поверх таможенных правил, засиженных мухами, тикали часы. Четверть пятого, до передачи дел сменщику менее часа. Майор принял начальственный вид, напялил форменную фуражку, потянул за козырек.
– А ну-ка выметай всех, проверим! – Дастин заторопился к выходу, не оглядываясь, но прежде ящик с «брикетом» незаметно прикрыл.
Фредерик кинулся вслед, глаза его возбужденно блестели.
– Потряси их основательно, Грэг! – махнул майор своему заместителю – в сторону грузовика с брезентовым верхом, ему давно знакомого. – Оружие ищи, двойное дно какое… И построй всех! Утром снова двух патрульных укокошили, черные твари, скоты! Откуда-то оно берется, не мы же раздаем!
Спустя пять минут майор обошел подобие строя, в котором скорее сгрудились, нежели растянулись три десятка родезийских сезонных рабочих, нанятых Фредериком в глухих дырах Зимбабве – облучаясь, горбатиться за гроши. Несколько недружелюбно на него поглядывали, но большинство – уставились себе под ноги. Трое, похоже, братьев, прижавшись друг к другу, дрожали. С рослых, мускулистых аборигенов свисало экзотичное шмотье, изорванное либо заношенное до дыр. Ноздри резал смрад давно немытых тел.
Один из сезонников выдавался худобой, притом что сотоварищи смотрелись не многим лучше. Хроническое недоедание – чума чернокожей Африки, сезонов и передышек не знающая.
– Все чисто, шеф! – отрапортовал лейтенант Грэг, простучав и облазив весь грузовик.
Тем временем майор вышагивал вдоль шеренги, то и дело морщась. Казалось, ищет к чему прицепиться. За ним семенил Фредерик, норовя то не отстать, то, в зависимости от начальственных флюидов, пригнуться.
Дастин застыл, как вкопанный, и, оскалившись, медленно повернулся к Фредерику.
– Хочешь сказать, это работники? Чистые дикари! В каких джунглях ты их выкопал? Врач хоть проверял? Инфекционные болезни – через одного. Слягут через неделю-другую. Кстати, на каком языке изъясняются?
– Не знаю… – понуро откликнулся подрядчик, но тотчас нашелся, перейдя на шепот: – Зачем им язык? С тачкой лясы точить? Месяц-другой – и довольно…
– Грэг, пересчитай мартышек и занеси в журнал. Лицензию на ввоз я проверил… И чтобы через три минуты их здесь не было!
– Пропускать, шеф, или как? – Сержант будто ничего не расслышал.
Майор раздраженно отмахнулся, двинулся к вагончику, но заходить не стал. Взобравшись на ступеньки, наблюдал за последними формальностями досмотра.
Авто с будкой уже миновало шлагбаум и даже выехало на шоссе, но шеф по-прежнему переминался с ноги на ногу у входа. Казалось, о чем-то вспоминает. И событие это недавнее, если не свершившееся только что. Дастин убрался в сторожку, лишь когда показался микроавтобус сменщиков.
Дома Дастин впервые изменил своему правилу: подношение пересчитывать не стал, любовно раскладывая банкноты на письменном столе. Забросил «брикет» в сейф, наскоро поужинал, уселся у телевизора. На расспросы жены о том, как прошла смена, отвечал неохотно, а когда невпопад. От ночного фильма отказался. Сославшись на усталость, отправился на боковую.
Но заснуть долго не получалось – Дастин ворочался, вздыхал. В сознании мельтешили, меняясь местами, батраки Фредерика и сам подрядчик. Фредерик порой заделывался великаном, заслоняя хаотичный сюжет. Здесь майора одолевало смутное предчувствие, которое внезапно обрывалось, утыкаясь в незримую стену. Но чересполосица персонажей репродуцировалась вновь. Наконец, проснувшись среди ночи, Дастин понял, что его гложет. Самый тощий поденщик Фредерика на негра походил лишь цветом кожи, да еще чертами лица, бывшего, по сути, искусной, якобы разрыхленной оспинами, маской.
Так двигаться и держать себя мог только белый – Дастин уяснил это окончательно и бесповоротно.
* * *
Шабтай раскорячился на полу и, держась за спину, отчаянно вращал глазами. Вокруг – части стула, на котором он только что сидел у стола.
Упал он со страшным грохотом. Оттого, придя в себя, уставился на дверь: не всполошил ли кого? Судя по всему, нет: в коридоре и у соседей – без движения. Лишь опостылевший за двое суток Том Джонс голосит в администраторской.
Шабтай перевел взгляд на себя, осмотрелся: цел, но копчик саднит. В руке – наполовину скомканной листок, депеша из Москвы, недавно расшифрованная и после неоднократного прочтения запомнившаяся слово в слово. Падая, он рефлекторно подхватил ее, что, впрочем, объяснимо. До отскочившей бумерангом из Москвы весточки любой трезвомыслящий, не говоря уже профессионал, ставить на завтрашний день Шабтая не отважился бы. От такого консорциума, кому он перешел дорогу, не сбежишь! Не сегодня, так завтра…
Впрочем, озвученные компаньонами гарантии пока по большей мере декларативные. Само собой напрашивалось: депеша – хитроумная ловушка, лишь бы высунулся…
Оконфузившийся постоялец «раскладную» конструкцию собирать не стал, сложил детали у входа. Подошел к ближайшей кровати, коих в комнате четверо, покачал спинки, проверил натяжение сетки, аккуратно на краешке присел. Разгладил дешифровку, в очередной раз пробежал глазами и, вернувшись к столу, сжег в пепельнице.
Шабтай расстелил кровать и как ни в чем не бывало завалился спать, притом что время – начало второго.
Спал он безмятежно, лицом ко входу, ни разу не перевернувшись. Проснулся в шесть, бережно ощупал нос, точно тот пострадал при падении. Обнаружив прежний этнически характерный бугорок, удовлетворенно отбросил простыню, сел.
Шабтай светился всем своим естеством, но не столько свежестью отдохнувшего, заправившегося озоном сна тела, сколько жизненно важным обретением. Торжеством человека, чей пробил час. Устремленностью, которую с курса не сбить, не осадить ни угрозами, ни облавой. Крепко стоящего на земле мужика, знающего себе цену и толк, перевалившего гряды проб и страха. Доказавшего: я смог и я могу, а смогу – и того больше.
Шабтай решительно зачесал волосы, выказывая, что на сегодняшний вечер кое-что заметано, околачиваться в хостеле он не будет. И на самом деле спустя полчаса он усаживался в такси на привокзальной площади.
– К скверу «Глори», – прозвучал заказ. Поерзав, Шабтай удобно расположился на заднем сиденье.
Таксомотор тронулся. Калманович чуток поглазел по сторонам, но скорее машинально, чем любопытствуя. Прислонился к боковой стойке, опуская голову и чуть прикрывая веки. Между тем пассажира в сон явно не влекло. В глазах, да и во всем облике, сквозила работа ума, но не отвлеченная, а прикладная. Казалось, орудует чистый рацио, отсекающий эмоции, любые колебания духа.
Шабтай определился, едва прочитав шифровку: из глухого подполья выходит, включается в игру. Ныне же холодно просчитывал расклад, убеждаясь в правоте решения. Перескакивал с одной ступеньки логической схемы на другую.
«Абсолютно ясно одно: компаньоны пока на плаву, руку на пульсе операции держат. Но шатер перекосило и, похоже, одна из подпор рухнула. Никак иначе не объяснить очередное объявление в «Таймс» и не согласующийся с ним приказ заморозить вложения в проект. Проще простого аннулировать объявление, дав отбой как связнику, так и бенефициару.
Ссылка в депеше на возможную встречу со связником означает: тот катит в Йоханнесбург. Получая оперативные сведения, они это доподлинно знают. Я лишь смутно догадывался, прознав о брошенном на границе между Чадом и Камеруном мотоцикле. С тех пор журналистское расследование захлебнулось, будто сахарской сенсации и не было.
Само собой выстраивается: связник неукоснительно следует варианту «Б» задания. Между тем с трудом верится, что движет им одно объявление. А хотя, какая разница? Главное – идет. Однозначно: формула варианта «Б» в Москве затерялась, отсюда и вся теорема.
Для них моя весточка более чем кстати: хоть одно из неизвестных, да обозначилось. Малообъяснимо, конечно, почему не затребовали разъяснений по «Б», резервному варианту операции. Но гадать здесь бессмысленно. Наиболее же вероятно: дрейфят спугнуть смертника, кого буквально днями столь усердствовали задушить. И, несомненно, передача мне посылки – прибежище для Москвы надежнее, нежели прочие раскрои. Самый опасный – незваные гости, о которых, оказалось, без меня прекрасно осведомлены. На этом я и сыграл, себя обнаруживая. В самое яблочко. Из паршивой овцы на забой – одним махом в союзники. Вместе с тем нельзя исключить – хитроумный капкан. Но версия скорее умозрительная. Все факты, хоть их в обрез, говорят об обратном. До тех пор, пока посылка в пути или в моих закромах, я им нужен. Живее всех живых». – Шабтай глазами усмехнулся.
– Сэр, вам с какого входа – северного или южного? – обратился таксист.
– Ни с какого, остановите здесь. – Расплатившись, пассажир вышел за целый квартал до сквера.
Смеркалось. Поток автомобилей схлынул, зато затараторили стрекозы развозчиков пиццы. Йоханнесбург, отмотав трудовой день, прибирался к ужину.
На тротуаре Шабтаю никто не встретился. Лишь метрах в ста семенил клерк с портфелем. Включилось освещение.
Осторожно выглянув из-за угла, Калманович осмотрел центральный вход. Затем, спустившись по параллельной скверу улице, добрался до южных ворот. Снял рекогносцировку и там. Приняв лик праздношатающегося, двинулся вглубь сквера.
Едва Шабтай проник внутрь, как его сердце екнуло. Навстречу – женщина с овчаркой, рвущей поводок. Он мысленно ухватился за поблескивающую цепочку, внушая себе: да-да, проблема в ней! Ты же не переносишь овчарок как потомок тех, кого четвероногими загоняли в «душевые» Освенцима, прочие могильники твоего народа, на треть обращенного в пепел. Вместе с тем неким инстинктом выхватил: собака здесь ни при чем.
Несмотря на сумерки, он увидел: в сквере – реконструкция. Вместо двух клумб у входа – кучи щебня и земли, а что наворочено дальше – предмет его целевого интереса – боялся взглянуть даже. Плелся, потупив взор и глядя себе под ноги.
Шабтай остановился, поднял голову. На месте трех первых скамеек, из коих первая служила сцепкой вызревшего в коллективном бреду и успевшего заглянуть в царство теней проекта, зияли лишь глубокие дыры от козлов. Ни самих опор, ни поперечин сидений – все как корова языком слизала.
На квелых ногах он прошел сквер до конца. Где-то после первой трети – почти без изменений, но по колышкам новой разметки угадывалось: на днях перелопатят и остальное. Впрочем, на тот сегмент наплевать. Актуальна лишь первая скамейка от южного входа. Сам сквер могли сровнять с землей.
Ему казалось, что все внутренности прихватила коррозия. В той жутком сцепке лишь скрипела его душа – трепыхалась, не мирясь с собачником сущего. Словно на ржавых колодах он все же тронулся, дошел до ближайшей скамейки, сел. Постепенно легкие разошлись, задышали.
Он извлек из кармана записную книжку, перелистал.
– Что ты ищешь? – спросил себя Шабтай.
– Телефон Дины, – ответил внутренний голос.
– И что это даст? – усомнился Шабтай. – Узнать, не обманывала ли, уверяя, что трижды скамейку обследовала? У женщин фантазия – как у сказочников!
– Но вернуться с занозой в пальце – такое не придумаешь! – возразил он себе.
– Как я устал… И как все надоело…
Едва переставляя ноги, Шабтай поковылял ловить такси.
Мысль о том, что в это время суток свободные моторы на каждом углу, его несколько ободрила.
Странно устроена душа: полярная ночь вокруг, будто бы замкнись. Так нет, дай ей тонюсенький лучик надежды…
Из-за поворота, с интервалом в несколько десятков метров, вырулили два таксомотора. Шабтай выбросил руку, порывисто, призывно, но вдруг сник: рука увяла, а потом и вовсе опустилась.
Машины припарковались к тротуару друг за другом. Он шагнул к ближайшему авто, но тотчас запнулся. Вновь вознес руку и невнятно махнул – то ли «езжайте», а может, «подождите, вернусь». Развернулся и, чуть прихрамывая, заторопился обратно – в сторону сквера. Чем дальше удалялся, тем больше наращивал скорость и хромал.
Таксист первого таксомотора – в приступе цеховой солидарности – одной рукой указал на Шабтая, а другой – повертел пальцем у виска. Стартовав, оба на всех парах понеслись к перекрестку.
Тем временем Шабтай, минув ворота сквера, летел полугаллопом по аллее. Добежал до последней скамейки в правом ряду и, тяжело дыша, стал на прикол. Восстановив дыхание, медленно опустился на колени. Просунув руку, принялся ощупывать тыльную сторону нижней поперечины. Поелозил немного, замер. Поменяв руку, проделал абсолютно тоже. Сел на скамейку, передохнул, проверил еще раз.
В условленном инструкцией месте прощупывалась буква W, вырезанная острым предметом. Все совпадало: и знак, оговаривающий встречу со связным, экспедитором передачи, и расположение скамейки – первая от южного входа. А то, что скамейка на самом деле четвертая, экспедитор знать не мог. Маловероятно, что тот не только в этом сквере, а и в Южной Африке бывал. Вариант «Б» разрабатывал сам Шабтай, поручили, как знающему местность.
Глава 30
Краска не смывалась – какие только растворители он не перепробовал. В покрасочной мастерской – их десять стеллажей. Проник в мастерскую еще вчера. Прежде чем нашел то, что искал, угробил сутки, исколесив всю северную промышленную зону Йоханнесбурга. Круги накручивал на угнанной в районе Мессины «Тойоте», у которой на стоянке брошенных автомобилей поменял номера – «одолжил» у полуразобранного «Фиата».
Из группы зимбабвийских сезонных рабочих он улизнул на первой санитарной остановке, объявленной Фредериком по пересечении южноафриканской границы. Они спешились на большой заправочной станции – идеальное место, чтобы сделать ноги, прихватив чужие «колеса».
Дав тягу, он вскоре остановился и сорвал с лица маску. В Южной Африке черный за рулем легкового автомобиля – объект пристального внимания дорожной полиции, хорошо это знал. Напряжение спало, но не надолго. Потуги смыть бензином черную краску с рук, ушей и шеи – точно вода в песок. Размазал лишь малость. «Заваренный» в Зимбабве с запасом прочности состав въелся в кожу намертво. Все же, ловко подсаживаясь на хвост грузовиков, благополучно проехал блокпосты и за четыре часа добрался до Йоханнесбурга.
Мастерскую с лакокрасочным боксом высматривал не только растворителей ради, не менее злободневная задача – жилье. С такой внешностью, да без паспорта – место в трущобах. Там, впрочем, и провел свою первую в Йоханнесбурге ночь. С двух до четырех, однако, бодрствовал – ездил в downtown зафиксировать свою готовность выхода на контакт.
Красильных мастерских высмотрел несколько, остановившись на последней. Привлек навесной замок с черного входа. Открыть его – одной левой, что и провернул.
Вторую в городе ночь, хоть и под надежной крышей, не сомкнул глаз: смывал с тела обратившуюся в броню черноту. Но, как и накануне, тщетно. В итоге лишь безумно пропах химикатами, усугубив и без того отталкивающий вид. Снялся в шесть утра, зная что на производстве работать начинают рано. Несколько часов перекантовался в «Тойоте», раздумывая, стоит двинуть на ней в город или нет – «одолженные» номера могли давно выйти из обращения. В конце концов запер «Тойоту» и отправился искать такси.
Рабочий люд валил на работу, высаживаясь из частных минибусов и городского транспорта. Спустя четверть часа он распахнул дверцу таксомотора.
Едва такси тронулось, как водитель заерзал. Должно быть, спохватился: платежеспособно ли это пугало с платком на голове и хебешными рукавицами на руках? Пассажир сбросил рукавицы, вытащил из кармана брюк ранды и пересчитал, таксиста будто успокоив. Сам же при этом тревожился: «Как бы водила не сдал меня в ближайший полицейский участок…»
Добравшись до пригорода, он увидел ряд дешевых магазинов готовой одежды. Скомандовал таксисту остановиться, расплатился и вышел. В захламленной лавке вьетнамца подыскал то, что устраняло проблему – спортивный костюм с капюшоном на шнурках. Доукомплектовался кроссовками и матерчатыми перчатками. Переоделся.
Все бы хорошо, но костюм кроссмена вписывался лишь в дождливую южноафриканскую зиму, хоть и не идеально. Йоханнесбург все-таки один из деловых центров мира, а не олимпийская деревня. К тому же на дворе жаркое лето, температура не ниже двадцати пяти. Не только мужчины, но и большинство женщин – в рубашках с короткими рукавами.
Между тем выбора ситуация не оставляла. Из всех бед Кроссмен предпочел костюм с начесом не по сезону. Пустившись трусцой, добрался до стоянки такси. Ловить мотор посреди улицы – риск, уж больно внешность экзотична.
– Не жарко? – осторожно поинтересовался новый водитель.
– Вес сбрасываю… – как можно беспечнее ответил Кроссмен.
– Не переборщить бы… Ох уж этот Джеймс Фикс![97] – протяжно озвучил таксист. Тут же спохватился: – Куда?
– Северная промзона, – прозвучал ответ.
Спустя полчаса часа Кроссмен спешился на стоянке полуразобранных легковушек, где в очередной раз «оседлал» заднее сиденье «Тойоты». Дожидался вечера, чтобы, проникнув в мастерскую, все-таки краску смыть.
Задыхаясь от химических паров, Кроссмен вдруг ощутил прободную слабость. Схватился за стенку туалета, где обрабатывал себя растворителями, медленно сполз перед зеркалом на пол. Заворачиваясь в черный балахон забытья, прихватил с собой лишь резкий запах химикатов.
Кроссмен пришел в себя под утро и уставился в свисающую с потолка лампочку. Глаза увлажнились, затем сомкнулись вновь.
Тридцать восемь лет судьбы, полной надсады лишений, рассредоточились в невнятные микро-частицы, хаотично наскакивающие друг на друга и столь же внезапно исчезающие, как и являющиеся. И оставляющие после себя лишь мимолетную сыпь, которую ни внять, ни переварить не удавалось.
Чуть позже сознание пошло желваками и разродилось вопросом: «Кто я?» Не получив вразумительного ответа, озадачилось опять: «Где я?»
Пудовые руки пришли в движение. Левая натолкнулась на прохладный, округлый предмет – опрокинувшись, тот покатился. Ноздри резанул терпкий запах, лишь взвинтивший головокружение.
Тут Кроссмен все вспомнил: кто он, где и зачем здесь? Параллельно самоопределению яснее ясного осознал: обширный инфаркт, без врачей не выкарабкаться.
«Ползи к телефону, аппарат, скорее всего, в каморке мастера. Вызывай реанимобиль. На рабочих не рассчитывай, кликнут скорее полицию, нежели врачей». – Отчеканив цель, внутренний голос умолк.
Кроссмен полз по метру, подолгу отдыхая. Знал, что любая нагрузка смерти подобна.
Дверь заперта, впрочем, как он и предполагал. Подтянулся, сел, прислоняясь к наличнику. Достал из кармана отмычку, просунул в замочную скважину. Повозился дольше обычного, но открыл. Взявшись за дверную ручку, задумался. Отпустил ручку, снова оперся о наличник.
Казалось, Кроссмену вот-вот полегчает и не потребуется никаких карет. На деле же он захворал пуще прежнего – не столько от недуга, обратившего тело в ватный манекен, сколько от осознания того, что вызов реанимационной бригады ставит крест на задании. Первую помощь без паспорта, медицинской страховки окажут, но, выведя из кризиса, спровадят в тюремную больницу. По факту, он банальный взломщик.
Кроссмен родился в среде хлеборобов – в общности волонтеров каторги труда. Мораль того класса сродни воинской присяге, только принятой добровольно: работа от зари и до зари, труд мозолей до гроба. Трудолюбие, выносливость, прочность души и тела – походный минимум хлебопашца. Выделяется лишь тот, кто выдает за двоих, спит и ест урывками, зато кубышку пополняет, когда прочие на мели! Порвав жилы, наматывает их на руки, как бандаж, и с кровью в глазах тянет свою лямку дальше. И никогда не бахвалится.
Сатанинский режим его родины, в своем генезисе перемолов лучших граждан, на его поколении спохватился, карательный пыл поумерив. Талант, беззаветность в труде снова оказались в фаворе. Клеймо вредоносных сословий затянулось, а где и укрылось за морщинами лет.
Кроссмена, молчуна с золотыми руками и даром экстрасенса, приметили еще в армии. После демобилизации пристально за ним наблюдали, через два года предложив призваться в разведку.
Знатный мастеровой воспринял подряд молча и, что поразило подрядчиков, без пиетета во взоре.
«Важная работа? Надо еще посмотреть… Вся страна в бессрочном отпуске – хозяина-то нет!» – примерно так размышлял Кроссмен.
Но, втянувшись в изматывающее, не ведающее отдыха ученичество, Кроссмен к ремеслу душою прикипел. Трудиться, не покладая рук, – «отче наш» выведенного класса, давшего ему путевку в жизнь, хоть и в изгнании.
Кроссмен чурался горлопанства, к нему не липла, отскакивая, как от бетона, идеологическая шелуха. Делать дело – все, в чем его деятельный организм нуждался. Быть еще не хуже других, не ронять честь, доброе имя близких, рода.
Этот впитанный с молоком матери вызов ныне гнобил его больше, чем сам недуг. Конфликтуя с немощью, вздымал запасники, давно истраченные, стертые в прах – в его запредельных нагрузок службе, домне Сахары, в безбилетной кругосветке «Ебби-Бу – Йоханнесбург».
Глаза Кроссмена медленно опустились, прилипли взором к запястью. Пять утра, до встречи с бенефициаром – 300 коротких минут, если тот, конечно, явится. Резервный, форс-мажорный режим налагал ежедневный выход на связь, пока публикуется объявление. В 10:00 у памятника королевы Виктории.
Багаж его прикладных знаний, заложенных в бурсе Конторы и с тех пор многократно умноженных, неумолимо гласил: самостоятельно двигаться он еще долго не сможет, если выживет вообще. Но принимать эту данность, погружаясь в прорубь немочи, Кроссмен не мог.
«Сдюжь, придумай как… Сколько высоток взял, прорывая вручную тунели, где в лоб не получалось. Последняя, упрись!» – вторил он тупо, одержимо.
Подтянул под себя ногу, потом другую. Сидя к двери спиной, закинул руку на дверную ручку, ухватился, начал приподыматься. Рукоятка скрипнула, провернулась – Кроссмен грохнулся на пятую точку, но в сидячем положении удержался, кривясь от боли.
Мириады слепящих искр сгрудились в носоглотке, сбивая дыхание. Извиваясь от нехватки кислорода, Кроссмен инстинктивно обхватил горло. Подбородок дернулся вниз, пригвоздив ладонь к грудной клетке.
Невесомое забытье поглотило, втащив за волосы без боли – в безликую пустошь, без горизонта, границ, откровенно враждебную, но и где-то родную. В безбрежном пространстве терялись человеческие фигурки, беззащитные, одинокие, но не столь удаленные, чтобы не узнать. Внешне их покинула жизнь, но глаза горели, тужась дописать кривую на осциллографе надежды. Молили, выдаваясь из орбит, и… ненавидели. Пять пар глаз, раскиданных по пустыне, но во всех оттенках запомнившихся навек. Лишь последняя, шестая, местоположением самая близкая, светилась мудростью, словно осмыслив неотвратимость исхода: противься не противься – настигнет. Не сейчас, так через двадцать лет, а боль та же…
В тех очах еще подтанцовывала гордость, но не напускная, а сопричастная к скрытому от общества, но крайне важному событию, ради которого стравлена, принесена в жертву жизнь: «Пусть не вышло прокатиться в его (события) колеснице, чем мог, помог, собою пожертвовав. Какова же его истинная цель и не важно. Пусть загнав лошадей, колесница кучера докатит. Когда-то да вспомнят, добром помянув…»
Тот дилижанс еще долго носился в космосе забытья, пока не затормозил, распахивая дверцу.
* * *
Заря по нитям расшивала покрывало ночи. Бенефициар, давно проснувшись, смотрел в проем окна, ничем не выказывая волнения. По крайней мере внешне.
Между тем ему до безумия хотелось, чтобы сереющую мглу, символ прошлого, боднув, вытурил рассвет, навсегда исторг из памяти. Чтобы думалось лишь о будущем, сладком и безмятежном, чтобы вокруг сновали присные в ливреях, чтобы звонил, разрываясь, телефон – звал на рауты, фуршеты, чтобы манили нежный овал, крутой изгиб бедер, откровенный разрез, чтобы привередничали, вешаясь на шею дети, а он мог предупредить их любой каприз, чтобы на крыше дома тарахтела вертушка, а фантазии плавно перетекали из Сент-Морица через Ниццу в Волендам…[98] и чтобы наступило десять, обскакав 300 рисок на часах.
Но не получалось. Время тянулось на проколотых шинах, и опахалом никто не обмахивал. Зато, словно наяву, буравил взгляд Регины в их последнюю ночь, а точнее, утро, омраченное расставанием и хмурым декабрем. Он так и не признался ей: «Ухожу, хоть и рву по живому…» Не отважился, опасаясь, как бы наикрасивейшая женщина Каунаса не отколола бы чего… По ней сохли десятки парней, пускаясь в рыцарские бои. Далеко не всегда фигурально…
Бенефициар отбил Регину у законного мужа, Мотке-мясника, своего приятеля, более невзрачного жениха, чем он сам, зато известного на весь молодежный Каунас богатея-озорника. Знакомясь с дамами, Мотке, будто невзначай, перекидывал из кармана в карман упаковку дензнаков. В девяти из десяти случаев срабатывало.
Регина ушла к Бенефициару с годовалым малышом, не убоявшись оставить ребенка без отца. У приятеля мужа завелись большие деньги, от него повеяло силой, облаченной в хрустящую фольгу загадки, которую то и дело подмывало развернуть.