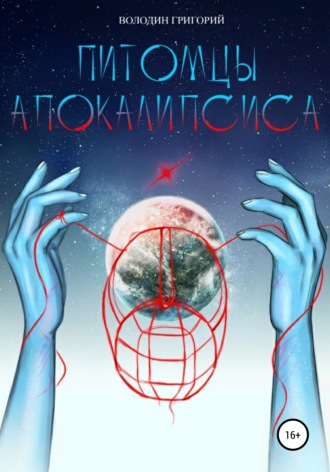
Григорий Володин
Питомцы апокалипсиса
Глава 10
Кошмарный сон выплюнул меня в белую комнату. Белые стены и потолок сверкали, как отделка и мебель в кабинете Гертена. Как аксамит унголов.
Щека моя тонула в мягкой подушке. Левый глаз снова видел, мускулы и кости даже не чесались. Мягкая хлопковая рубашка щекотала кожу. Сладкая нега разливалась по телу, я не шевелился. Душа наполнялась покоем и радостью, что я живой – живой я!
Напротив моего лица стену пачкал небольшой мокрый желтый подтек. Желто-песочный, как кожа унголов.
Об унголах я знал мало. Шесть лет назад ананси провели только что похищенным детям вводную лекцию о своем мире, о сказке, куда нас занесло. На планете Люмен, говорил лектор-ананси, обитают более десятка рас одного гуманоидного вида Ареопы. Самые малая и большая расы – ананси и унголы – воюют между собой уже многие столетия. Почему, нам не объяснили.
Расы, вид, гуманоидный… Мы, дети, слушали эту взрослую белиберду и хлопали глазами.
– Сорри, извините, – спросила Сильвия. – То есть, ананси приходятся унголам кузенами?
Ананси-лектор сказал, что нет, ананси и унголы не ближе друг другу, чем экваториальная и европеоидная расы людей, что окончательно погрузило нас в уныние.
Позже я и Мана спросили Динь-Динь, как старшего, о чем нам втолковывали.
– А, так они о неграх и белых, – ответил белокурый француз.
– Тогда вообще ничего не понимаю, – сказал я. – Почему ананси и унголы дерутся? Я ведь не дерусь с Маной.
Тут же трава лужайки выскользнула у меня из-под ног. Нагретые солнцем листья лопуха обожгли шею. Я удивленно уставился на небо, а небо – на меня. Мана убрала подножку и заявила:
– Никакая я не негра, я – парду, латиноамериканка.
– Сожалею, – понурил голову.
Бразильянка протянула мне руку. Я схватил девочку за локоть и опрокинул рядом на траву.
– Сожалею, что думал, что не дерусь с тобой.
Мы оглядели друг друга – одежда и волосы в траве и колючках ежовника, – и залились смехом. Динь-Динь поспешил прочь от нас, ненормальных.
Я все пялился, как ненормальный, на желтый подтек на стене и не сразу заметил, что связан. Какие-то вязаные шнурки опутали мне руки и ноги. На шнурках болталась куча пустых разноцветных мешочков с вышитыми рисунками и иероглифами. Первая мысль возникла: меня хотят принести в жертву Асмодею или еще кому.
Второй мысли не дал возникнуть до боли знакомый нежный эльфийский голос:
– Стас проснулся.
– Я в курсе, – сказал я и повернулся. В дверях стояли моя хозяйка и Хонока – четырнадцатилетняя японка с короткой стрижкой и огромными раскосыми глазами, как у школьниц в аниме.
Я подергался на узкой койке беспомощно, как спелёнатый младенец.
– Где Мана?
Юля без всякого кокетства сказала:
– Я думала, что единственная у Стаса.
– Ч-чего?
– Я доверяла Стасу все шесть лет.
Миндалевидные лупы Хоноки с упреком посмотрели на меня:
– Семпай, старший!
– Кончайте цирк, – зарычал я. – С Маной все в порядке?
Юля отвернулась к окну и уставилась куда-то за горизонт. Хонока сказала:
– Мана-семпай жива и здорова, Стас-семпай. Унголы не навредили ей.
Как и мне, подумал я и выдохнул.
– Твоя работа, Хонока? – кивнул на мешочки с иероглифами. Милая японка покраснела.
– Конечно, нет, Стас-семпай. Юлирель-семпай сама изготовила все талисманы омамори.
– Как же?
– Юлирель-семпай попросила меня научить искусству защиты от коварных ёкаев, демонов несчастий. Всю ночь, пока инкубатор исцелял ваше тело, Юлирель-семпай укрепляла оборону духа.
Я потряс связанной рукой, привлекая взгляд хозяйки.
– Юля, зачем наряжать меня как новогоднюю елку? Почему просто не посадила на цепь?
– Омамори защитят Стаса.
– Да ну?
Юля подошла к кровати, бледно-голубая ладонь коснулась серого мешка на моем плече.
– Кайун усилит удачу Стаса.
– Еще бы.
Ее пальцы скользнули мне на грудь и потеребили золотистую тряпочку в черных ломаных линиях иероглифов.
– Якуёкэ обережет Стаса от злых мананок.
– Все верно, сэмпай, только мононокэ, духи болезней, – вставила Хонука.
Я напряг кисть под тугим шнурком.
– Ну, допустим.
Юля погладила коричневый, почти бурый мешочек с вышитым рулем.
– С андзэном Стаса никогда не собьют на дороге.
– Что за одну ночь через Центр проложили скоростную трассу?
Юля надавила мне на живот сквозь белый мешочек. Под голубыми пальцами на атласной ткани улыбался желтый цыпленок.
– Благодаря андзану Стас не полысеет.
– Успокоила так успокоила, – сказал я. – Хонока, чему ты ее научила?
Я уперся ладонью в кровать, попытался сесть. Бедро накрыл талисман с блестящим золотым грибом или приплюснутой баллистической ракетой. Или…
– Хонока!
Юля будто процитировала энциклопедию для взрослых:
– Амулет Канаяма – для защиты сексуального здоровья.
– Хонока! Черт, что это за вывеска секс-шопа?
Маленькая японка вся сжалась в румяную смущенную помидорку.
– Семпай, я не виновата! Юлирель-семпай все просила и просила обучить новым омамори, приличные быстро закончились.
Плача Хонока выбежала из комнаты. Юля сказала:
– Стас – дурак.
Я вывернул ладонь и дотянулся до узла шнурка. Потянул за пластиковый пистончик.
– Не узнаю комнату. Мы в инкубатории?
Путы ослабли, эта защита от ёкаев. Теперь мою душу не спасти.
Я снял веревки. И бросил пошлый омамори в хозяйку. Липовая баллистическая ракета скользнула с высокой груди на пол.
Юля сказала:
– Больно.
– Не верю. Еще раз – с чувством!
– Не больно.
– Нечего тогда говорить.
Юля подняла «золотой» омамори.
– Стас передумал насчет Юлирель?
– Целых десять раз. К сожалению, число четное. Поэтому ничего не изменилось.
– Я не понимаю Стаса. Все шесть лет Стас мечтал сбежать из Адастры. Теперь Стас делает все, чтобы его оставили здесь навсегда.
Ну здравствуйте, ваше морозное высочество Юлирель и ее леденящие кровь угрозы.
– Экспресс на Землю давно ушел, – сказал я. – У меня должно быть хоть что-то, хоть какое-то оправдание, когда я вернусь. «Где ты пропадал? – спросит Лена. – Почему не появлялся так долго?» Что я отвечу? «Понимаешь, все семь лет я был очень, очень занят. Я чесал волосы одной инопланетной девочке»?
Юля погладила вышивку «золотого гриба». Низ моего живота обдало жаром. Какое-то колдовство вуду.
– Я тоже твоя сестра, – резко на первый план выступила более человечная половина моей хозяйки. – Ты и я – гешвистер.
Юля посмотрела на меня так, словно мы обручены.
– Я не выбирал тебя сестрой.
– Лену ты тоже не выбирал.
Я согласился, что разницы почти никакой. Нас с Леной связало родство, наша мама, а нас с Юлей – ее отец. Никакой разницы.
Юля пошла из комнаты. На пороге она остановилась и посмотрела на меня так, словно мы супруги в разводе.
– Рыбка останется со мной.
И захлопнула дверь. Звякнула защелка замка.
Юля и вправду заперла меня! Я дергал дверную ручку, пока не отломал ее. От злости из глаз посыпались черные искры. Все-таки посадила на цепь! Ручку в стену – бам-м-м! – а я к окну. Рывком распахнул ставни, чуть не снеся раму.
Днем и ночью Свет сияет одинаково. Раннее утро выдавал только золотой блеск бусинок росы на траве и цветках тягуры. Где-то за завесой облаков только вставало скромное солнце.
Из окна инкубатория я смотрел пустыми глазами на пустые тропинки. Ни одного красного панциря. Гарнизон больше никого не охранял. Я опоздал. Динь-Динь, где ты теперь?
Искал ли я вообще именно Динь-Динь?
Я вернулся вглубь палаты и осмотрел стены с полом за кроватью и единственной тумбой. Нашлась только горстка пыли. Нос заскребло изнутри, я чихнул. Снова к окну, закинул ноги одну за другой через подоконник наружу. Босые ступни едва поместились на узкий карниз в стене. От порыва ветра полы длинной больничной рубашки захлопали по бедрам. Внизу, куда ни глянь, поджидало соблазнительно гладкое полотно асфальта. Мои зубы застучали.
Прости меня, сестренка. Прости, если не вернусь к тебе, потому что разбился насмерть со второго этажа.
Хотя Мана посмеялась бы над моими трясущимися коленями, заявила бы, что подо мной как раз вздымается сопка, никакого второго этажа нет, так один с гаком. А я бы ей сказал: Может и один с гаком, да в ее гаке еще столько же. А она бы мне: – Сопли вытри, принцесса. А я бы ей: – Уже, вот как твои кудряшки заблестели. А она бы мне вмазала, а я бы увернулся или нет, но потом тоже ей вмазал бы. А потом мы бы мазали йодом ранки друг друга.
Держась за отлив подоконника, я подобрался к открытому балкону слева. Мои дрожащие ноги сами перелетели через перила.
В балкон утыкался белый коридор. Ананси, видно, очень нравится цвет аксамита их врагов. Может, они и воюют с унголами просто из зависти?
Я побрел вдоль стены, читая таблички на дверях. Попалась еще одна палата, я заглянул внутрь. Пустая комната не отличалась от той, куда меня положили.
Я снова порыскал по углам, не зная что ищу. И нашел.
Под кроватью на стене, черным по белому, выцарапали рядом три рисунка. Фигурка из палочек с крылышками на спине, буква «N» и лампочка, какую часто рисуют над головами мультяшек, когда их осеняет бредовая идея.
Фея. N. Озарение.
Не знал, что Динь-Динь любит ребусы.
Я покинул палату. Складки рубашки шуршали при каждом шаге. Пятки прилипали к холодному полу коридора и отлипали, чавкая. Чав-чав …Ступеньки лестницы тоже обсосали мои ноги – чав-чав-чав… – и выплюнули их на первый этаж. Ананси-сотрудники инкубатория провожали взглядами мою спину до самого выхода.
На ощупь асфальт был не таким гладким, как обещал его вид сверху. Гнусный шершавый обманщик. Я пошел к общежитию напрямик по траве.
Пока добрел до квартиры Маны и Дарсиса, я пару раз ловил на себе взгляды смеющихся гешвистеров. Но я решал ребус Динь-Динь, и не обращал ни на кого внимания.
Мана открыла дверь на мой стук и сразу бросилась мне на шею.
– Виво, живой!
Я уткнулся лицом в ее кудри, обнял горячее упругое тело. И тут же отстранился, пока завитки Маны не окрасились в черно-алый, а смуглая кожа не превратилась в холодный голубой сапфир.
– Благодаря тебе, – сказал я.
– Нет, – прошептала бразильянка. – Унголы перевязали тебя и не дали потерять много крови.
Девушка схватила меня за рукав и втянула внутрь. В дверном проеме наши лица пронеслись близко, мои ресницы щекотнули ее лоб. Розовые ранки горели на темных пухлых губах, словно Мана их кусала.
– Дарсиса нет.
Квартира не отличалась от нашей с Юлей. Узкий коридор, две комнаты, ванная. В комнате Маны на кровати в складках одеяла, словно буек в волнах, тонул огромный бидон. Полный ярко-розового клубничного мороженого.
Такими же ярко-розовыми пятнами пылали губы Маны. Ага, ранки, блин.
Я заорал:
– Мана! Как это понимать?
Бразильянка растерянно вытерла рот рукавом.
– Я нервничала.
– Выходит, мне даже кусок пиццы нельзя, а сама втихаря ведрами уплетаешь быстрые углеводы?
– Это форс-мажор, – сказала Мана.
– Топишь проблемы в мороженом? – зарычал я.
– Ты – моя проблема! Из-за тебя же все.
Я положил ладонь ей на плечо, заглянул в глаза.
– Да, все могут запутаться. Ничего, я помогу.
Мана развела в стороны руки и потянулась ко мне.
– Правда?
– Конечно, раз я – твоя проблема, то мне и тонуть, – я слегка толкнул ее и кинулся к бидону.
Наклонил голову к студеным рыхлым розовым волнам. В лицо дохнула сладкая прохлада и запах клубники со сливками, запах розовой поры жизни, жарких летних каникул и беззаботных прогулок по лесистому парку с вафельным стаканчиком в одной руке и маленькой ладошкой Лены в другой. Тогда мы еще целые дни напролет катались на аттракционах.
– Наглая рожа, – сзади закричала Мана громко-громко, будто на концерте рок-группы. – Не смей поворачиваться ко мне голой бундой, задницей!
Носок ее туфли вонзился мне в зад. Моя голова нырнула в бидон. Липкая и холодная масса хлопнула по лицу. Замороженные сливки забили горло и носоглотку, запузырились из ноздрей. Ротовая полость онемела.
Я шарахнулся прочь от ледяной ловушки. Мне на лицо бросили полотенце, я стал бешено тереться им, согревать щеки и нос, отплевываться и сморкаться в махровые волокна тающими розовыми комками. Тем, что неприлично показывать на людях. Стылыми соплями со вкусом розовой поры моей жизни. Глядя на меня, Мана хохотала.
Вытершись, я потрогал ушибленный зад. Голый зад, покрытый только белой гусиной кожей. Больничная рубашка держалась на завязке на шее, оставляя тело сзади полностью открытым.
Мана спросила:
– По дороге сюда не поддувало?
– Не смей больше подходить ко мне со спины, – буркнул я, прижимаясь одним голым местом к стене.
– Охотно, – улыбнулась Мана.
– Да-да, рассказывай уже, что произошло в роще взлетников? Почему взбесились бронекрылы? Куда делись унголы после того, как перевязали меня?
– Унголы сбежали, – бронзовые губы Маны дернулись. – Когда я спустилась в овраг и увидела трех чудовищ в зеленом над бездвижным тобой…увидела разбитые в лепешку суставы, белые осколки костей, кровь, красно-белую кашу вместо твоего глаза, я чуть не убила их.
– Ты смогла раскидать унголов?
– Двоих. Третий увернулся от моего кулака и показал мне разорванную пачку с бинтами. Я увидела, что унгол начал перевязку твоей руки, и все поняла. Поняла, что тебе унголы не враги. Я встала на колени и сложила вместе ладони перед грудью, будто взывая к Санта Марии. Настала очередь унгола все понять. Он вернулся к перевязке. Двое других унголов вскочили с земли и держали меня на прицелах ружей все время, пока третий бинтовал тебя и укутывал в свой зеленый плащ. Когда он закончил, все трое рванули дальше по оврагу. Я убедилась, что повязки не протекают, проверила, дышишь ли ты вообще, и полетела за помощью в Центр.
Моя нижняя челюсть отвисла. А Юля упала бы на колени перед опасными незнакомцами ради меня? Или поспешила бы на работу, не глядя перешагнула мокрый фарш на месте моей руки, нечаянно наступив сапожком на красную лужу и брезгливо оттерев его об траву?
Нет, конечно, нет. Юля не брезгливая. И человеческую кровь можно не заметить на красном аксамите. Пошла бы так, замаранной, зато с частицей меня на подошве.
Я переспросил:
– Полетела?
Мана кивнула.
– Бронекрылы успокоились, как только унголы скрылись. Дарсис объяснил, что всех зверей в питомнике натаскали поднимать тревогу и защищать ананси и людей, если почуют унголов.
Я потер ладонями восстановленные плечи, молочно-белые, словно два худых зайца-беляка, греющихся друг об друга в тесной норе под сугробом.
– С такими защитниками никакие унголы не страшны.
– Бронекрылы просто очень большие и напугались. А мы не привыкли, чтобы они себя так вели.
Хмыкнув, я рассказал о ребусе, выцарапанном в палате инкубатория. Мана задумчиво постучала коротко постриженным ногтем по стенке бидона с мороженым.
– Неужели фея – это Динь-Динь?
– Кто же еще, – сказал я. – А N – Нетландия. Но что такое лампочка? Озарение? Идея?
Мана не знала. Я тоже. Но я знал, кто мог знать.
– Зерель.
– Любимая Динь-Динь?
– Его пара в гешвистере. За семь лет они точно выучили ход мыслей друг друга.
– Как ты своей принцессы?
Я промолчал. Динь-Динь и Зерель жили душа в душу, не то, что мы с Юлей. Своей хозяйке курчавый блондин-француз читал любовные стихи, накрывал ужины при свечах, каждый день сдувал пылинки с ее тонких голубых плеч. Их пикникам-рандеву завидовали все девочки с Земли. Когда настал день Х и Динь-Динь увозили на орбиту, из салона отъезжавшей бурой карсы бедный влюбленный кричал, что будет вечно любить свою вечную госпожу. Точнее, то, что Динь-Динь кричал, наши девчонки потом сообща додумали сами: окна карсы были наглухо закрыты, и мы лишь видели вытягивающий длинные гласные широкий рот и пену слюнявых брызг на стекле. Мне лично показалось, что Динь-Динь просил Зерель не забывать кормить их рыбку.
– Зерель в Адастре, – сказал я. – Выясни у Дарсиса, где именно. Но сделай это будто бы из простого девчачьего любопытства.
– Тебя не пустят к ней. А охрану Центра усилили после вылазки унголов. Даже паук-«помет» не спрячется.
– Тогда мы проберемся в город, когда все красные панцири соберутся в одном месте. Вместе с гешвистерами.
– О чем ты? О, нет! Не смей такое предлагать!
– Тебе больно…
– Заткнись! Я не оставлю Дарсиса одного с твоей отмороженной инопланетянкой. Клянусь эво, бабушкой. Ясно?
– …но…
– Не оставлю, не оставлю, не оставлю! Не смей это говорить, иначе я сверну тебе шею!
– … Динь-Динь может быть сейчас намного больней.
Голова Маны поникла.
– Ты все же сказал.
Я оторвался от стены. Отлепил от серых обоев белую, словно мел, восстановленную задницу.
– Прогуляем унылые танцы.
– Прогульщик, – огрызнулась Мана.
– А ты?
– И я, – Мана чуть не ревела.
Я возликовал.
– Есть чем прикрыться?
Мана распахнула шкаф, из-за его двери в меня полетел зеленый плащ с пятнами засохшей крови на подкладке. Моей засохшей крови. На грубом сукне темнела кривая «О».
На моих плечах ткань повисла двумя мешками, тяжелые полы мели пол, потертый воротник болтался как гавайские бусы, а так, в целом, плащ был как раз. Как раз, чтобы холодной ночью закутаться в него с головой.
Мороженое в бидоне наполовину растаяло. Мана смотрела на него как орангутанг на банан. Я решил, что жизнь дороже возмездия, тихо сказал «чао» и поплелся – чав, чав – домой.
На пороге пустой комнаты Юли меня встретила растерянным взглядом рыбка. Рядом с золотистым хвостом в аквариуме плавали фаршированные омары, хот-доги, треугольники пиццы.
Похоже, Юля начала взрослеть. Впервые моя хозяйка покормила рыбку.
Я почавкал в ванную за резиновыми перчатками.
Глава 11
Я ослабил на шее бабочку-удавку и поспешил за Маной, воздушный фатин ее темно-серого платья колыхался перед глазами. Я поспешил, в то же время держась подальше. Завитые кудри валькирии лучились снопом черных-красных векторов, словно аурой демона. Быстрые всполохи цвета разгорающихся углей пару раз уже ошпарили меня. Чайной ложкой гнева. Черпаком боли. Как будто мне своей мало.
Тропинка вела к дальним западным воротам. Салатовые холмы пылали фиолетовыми свечами-векторами страсти. То тут, то там парочки-гешвистеры, что улизнули с танцев, извивались на траве у кустов тягуры или под сенью раскидистых багряников. Таяли в объятиях полураздетые голубые тела. Прижимаясь к ним, румянились и потели белые, или желтоватые, или бронзово-смуглые, или черные как деготь. В дымном сером свете розовые, лиловые языки мелькали, чтобы прополоскаться в чужом рту. Паутины слюны склеили губы, пухлые от нехватки воздуха. Глаза закрыты. А у кого не закрыты, у тех увлажнились и сверкали, как жемчужины росы.
Поймав взгляд таких вот влажных глаз, я автоматически расстегнул пуговицу на воротнике белой сорочки. Мана шлепнула меня по руке.
– Извращенец.
– Это все губка в голове.
– Губа твоя треснутая, а не губка.
Бразильянка ускорилась. Черные босоножки быстро замелькали, бешеный цокот каблуков отдался эхом над холмами и в моих ушах, растревожил нервы. Стало не до чьих-то блестящих глаз.
За час до полуночи мы с Маной тоже сбежали с танцев, до тошноты насмотревшись на Юлю с Дарсисом. Единственная пара из ананси и ананси не танцевала, молча сидела за столиком – словно чета прекрасных полубогов-брюнетов. Прелести Юли плотно стягивало шелковое платье, у горла светло-голубое, как ее кожа, дальше постепенно темнеющее до глубинного индиго на подоле, убийственный наряд, смертоносный бич для глаз девственников, ради которого не одну бессонную ночь я – я! – рыскал по бесконечным полкам гардеробной в луна-парке, а моя хозяйка смотрела только на этого стройного, мужественного, изящного перекрахмаленного говнюка с деревянным лицом. Прибил бы гада…уррр!
Я выдернул черный вектор Маны из пасти жадной губки и отбросил подальше с тропы.
Мы наконец прошли «лежбище тюленей». Холмы вокруг опустели. Я махнул в их сторону. Мана сняла босоножки и пошла вглубь травяного озера. Я остался в черных лакированных туфлях, хоть они и натирали ступни. Только скинул на асфальт дурацкую бабочку и поднял лацканы смокинга, чтобы воротник рубашки не сверкал сзади как мишень.
Сначала мы пробирались вдоль тропы, затем держась дороги для карс. Сейчас где-то полночь, а воздух над травой бледный и туманно прозрачный. Как в хмурый осенний полдень в родном Подмосковье.
Как вчера ночью, когда такой же томительный свет стелился по разбросанной постели Юли. Переливался в разбитом стекле и лиловых каплях на полу.
В эту страшную ночь меня разбудили черно-красные вспышки в глазах. Торжество боли. Я сразу бросился в комнату Юли. Ламинат захрустел под ногами, осколки аквариума сверкнули под моими босыми ступнями. Пятки окрасились в красное. Возле плинтуса тяжело хлопала ртом рыбка.
За перевернутой кроватью ползала Юля, одеяло так скупо прикрывало ее спину и ноги, что в другое время я бы пофилософствовал: Справедливость, ты есть?
Юля стучала зубами и дергала пряди сырых от пота волос. Лиловая кровь темнела на осколках рядом с ее пальцами.
Я не чувствовал стекло в пятках. Мое тело снова стало неважным. Но и губке я не позволил впитать в себя все черно-красные пули. Уже послезавтра нас могут разлучить. Юля должна научиться справляться с истериками сама. Я должен увидеть, что она справится сама. Иначе как же я справлюсь потом со своими истериками?
– Хватит тяги, – рычала Юля. – Меня разрывает! Прекратите!
Я не мог смотреть и не мог отвернуться. Вот он, ад. Рыбка безумно забилась об пол головой и хвостом. Она хотела жить.
Рука Юли поползла в сторону осколка в ее лиловом соке. Голубые пальцы обхватили острые края.
– Хорошо, сделаю. Только выпустите Стаса из карцера.
У меня перехватило дыхание. Ноги застыли на остром стекле. Кто-нибудь, вколите мне сыворотку против столбняка!
Секунду Юля разглядывала сквозь стекло линии на ладони.
– Я готова.
Мокрый хвост рыбки шлепал по полу все медленней и медленней. Рыбка не сдавалась. Она все еще хотела жить.
– Жму рычаг.
Острый осколок и горло Юли потянулись навстречу друг другу. Она хотела умереть.
Я выбил осколок из ее пальцев и сжал в ладонях голубой лоб. Автоматная очередь боли, такой мощной еще не испытывал, всосалась в губку, раздула ее почти на все пространство в моем черепе. Мозги раскатало в лепешку. Я упал без сил рядом с Юлей.
Внутри меня черно-красные пули расплавились и смешались с кровью. Чудовищное желание Юли стало моим. Вены и артерии под кожей накалились как металл на солнце. Как же захотелось их вскрыть! Как же захотелось исчезнуть навсегда! Очиститься через агонию!
Сама собой моя рука потянулась к треугольному осколку на полу. Юля резко сдавила мое запястье.
– Почему? – спросила она, не отпуская.
– Рыбку жалко, – прошептал я.
Юля встала, отбросила стекла подальше. Я не заметил, как она ушла из комнаты. Я не шевелился, тупо сидел, слушая шум воды из ванной и бросая грустные взгляды на такие далекие желанные осколки. Поднял глаза. Юля совала мне под нос стакан с водой. Из него на мир глядела счастливыми вылупленными глазами рыбка. Живая рыбка. Двигала плавниками. Вот он, рай.
По дороге пронеслась бурая карса; они все тут бурые. Я и Мана распластались за ползущим по земле стволом тяждерева и не двигались, пока не затих свист скользящих на повороте покрышек.
Только двинулись дальше, как кто-то крикнул сзади:
– Стоять. Вы двое.
Веснушка-Никсия неуклюже ковыляла, спотыкаясь. Высокие каблуки застревали в земле, скользили по камушкам. Узкое желтое платье сдавливало бедра, рыжая махала руками, чтобы не уткнуться в траву курносым носиком. Клоун на ходулях шагает увереннее.
– Отвечайте честно, – сказала Никсия. – Вы что, сбегаете из Центра?
Мы с Маной молчали.
– Жизнь еще не кончена, ребята! – говорила датчанка. – Не нужно спускаться к реке и топиться!
– Топиться? – переспросил я. – Почему?
– Из-за неразделенной любви, конечно, – рыжая мечтательно погладила голые плечи в веснушках. – Я прокралась за вами, представляла, как вы будете утешать друг друга в объятиях возле тягуры, вытирать слезы поцелуями, и так обретете новую радость. Хотела увидеть союз отвергнутых сердец. А все оказалось намного хуже, – она тыкнула в мою грудь пальцем. – Вы – двое суицидников.
Мана взбесилась.
– Карамба, что за бред! Катись отсюда, пока я тебе голову между твоих косолапых коряг не просунула.
Датчанка отшатнулась.
– И покачусь, – Никсия ехидно улыбнулась. – И расскажу о вас Гарнизону.
– Постой, – сказал я. – Где Велора?
Улыбка потухла на красных губах Никсии.
– Простудилась и спит дома.
Значит, никто не удивится, если Никсия тоже исчезнет с танцев. Теперь Мана оскалилась, как волчица.
– Тогда ты идешь с нами.
– Ни за что! – вскричала Никсия. – Мне это не нужно. Велора меня обожает.
– У тебя нет выбора, – сказал я. – Твоему болтливому языку нельзя доверять.
Никсия вдруг заревела. Серые векторы страха поползли из рыжих кудрей.
– Я не буду тоже топиться. Вы не заставите.
Мана с хрустом размяла пальцы.
– Все же сделаю массаж этой наглой выскочке.
Я предостерегающе поднял ладонь: хватит пугать ее.
– Мы идем в гости к Зерель, – сказал я. – Очень по ней скучаем. Пошли с нами, Веснушка?
Никсия мигом перестала плакать. Просто супермолниеносная смена настроения.
– К Зерель? Хочу! Пойдемте.
Мана все еще скалилась. Обтянутое серебряным шелком мускулистое тело нависло над щуплой Никсией. Ей-богу, серая волчица и цыпленок. Картина маслом.
– Тогда снимай туфли и не смей тормозить, – Мана осмотрела датчанку. – Платье слишком узкое, чтобы быстро идти. Ничего, сейчас поправим.
Мана резко бросилась вперед. Датчанка вскрикнула: «Мамочки!». Смуглые руки смяли и порвали желтый бархат между бедер Никсии до самого низу, разделив перед юбки на две половины. Линия разрыва чуть не дотянулась до трусиков.
Никсия снова заплакала. Мана топнула босой ногой.
– Туфли, живо! Иначе брошу здесь, связав твоим нижним бельем, – Мана прикрыла веки и щелкнула языком о нёбо, меня аж дрожь продрала. – Вывернутым наизнанку.
Через тридцать секунд уже подбирались к западным воротам. Босая Никсия утирала с глаз слезы и текущую тушь, но послушно брела, трясясь от одного взгляда Маны. В разрыве платья нет-нет да сверкали розовые кружева трусиков.
Нужная нам сопка прилегала к бетонной стене в километре от главных ворот. Здесь в дупле высокого торчатника таились мои залежи веревок, скрученных из простыней и полотенец. В детстве я сбегал из Центра навсегда, сбегал сотню раз точно. И всегда возвращался меньше чем через сутки. С букетиком диких роз для Юли.
Иногда меня сажали в карцер – я считал, потому что наследил или кому-то на глаза попался. Теперь подозреваю, все чихать хотели на мои побеги. Просто временами Юля плохо справлялась с разрывной тягой на работе.
Раздобыв из тайника веревки, мы прокрались к зарослям у стены. К узкой мертвой зоне видеокамер.
Красный панцирь сверкал на фоне серого бетона.
Я сказал, что раньше никто здесь не пасся. Пожав плечами, Мана лишь сказала: Унголы.
Мы пошарили туда-сюда вдоль стены. Красные панцири охраняли стену через каждые полкилометра.
– Плотно стоят, – сказала Мана. – Попробуем в другой раз.
Я прикусил губу, глядя на алый цельноаксамитовый шлем солдата между ветвей.
– В другой раз может быть поздно.
– Психанешь – и попадешь только в карцер, – возмутилась Никсия. – Ты что не слышал Мануэлу?
Рыжая посмотрела на Ману снизу-вверх, будто ища похвалы. Я обомлел. У датчанки, похоже, развился Стокгольмский синдром.
Мана молча крутанула головой в ее сторону. Поджилки Никсии сразу затряслись. Линия разрыва на платье разъехалась вверх, показался завернувшийся край трусиков. Лепесток плетеного розового цветка. Из испуганных глаз посыпались серо-розовые векторы. На лице – стыд и ужас.
– Не смотри, – вспыхнула Веснушка, закрывая руками рваное платье. Между тонкими пальцами сверкала белая как мел кожа. И пара медных веснушек. Темнела родинка.
Воздух наполнили векторы цвета розоватого пепла. Я придержал губку. Сжал пальцы вокруг охапки серебристых стержней. Их концы тянулись к моей голове, качаясь, словно головы голодных слепых удавов.
Алый шлем сверкал в просвете между листьями.
Ну, рискнем.
Я бросил стержни в просвет. В голову солдата. Выстрелил блеском фольги, серебра и кораллов.
Векторы воткнулись в небольшой красный гребень на шлеме и мигом всосались в доспех. Солдат вскрикнул и осел на колени.
Дрожащие красные пальцы дернули аксамитовую застежку под забралом. Шлем с лязгом отлетел в стену, следом бахнул по бетону горловой доспех. Солдат погладил мокрые черные волосы, ошалело глядя желтыми глазами на верхушки деревьев.
– Ну, рискнем, – вдруг рыкнула Мана и рванулась в просвет. Бразильянка подскочила к солдату со спины и лупанула ребрами ладоней по мускулистой синей шее с обеих сторон. Солдат выключился мгновенно.
Красная гора с мокрой черной шевелюрой рухнула в траву.
Путь на волю открылся.







