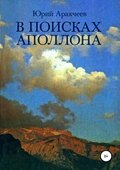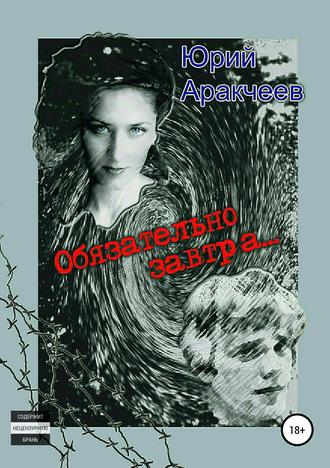
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
– Как черт ладана!
Хотя в зале послышались уже и негодующие возгласы.
– Вот у меня в руках, – продолжал он тем не менее, ничуть не смутившись, – результаты обследования одного из районов города. – И он выразительно потряс стопкой листков, которые словно по волшебству появились у него в руке. – Результат невеселый, я вам прямо скажу. Очень невеселый результат!
Он так произнес последние слова и так еще раз потряс листками, что было ясно: именно всех сидящих в зале, он считает главными виновниками того безобразия, которое происходит, и ему-то очень даже понятно, почему преступность, несмотря на ликвидацию причин, неуклонно растет! Зал негодующе шумел, а я ощутил некоторое удовлетворение даже. Хотя бы и под конец, но все же нелепый этот праздник был отчасти нарушен.
Тем не менее, приняли громкую, трескучую резолюцию – разумеется, единогласно! – а потом еще и «Обращение ко всем комсомольцам города» с призывом «усилить, пересмотреть, углубить»…
А когда выходили на улицу, над нами распахнулось такое ясное ночное небо со звездами, люди вдохнули такой свежий, прохладный весенний воздух, льдинки так звонко похрупывали под ногами – апрель, скоро настоящая весна!
И бодро шагали к метро парами, группами – вместе! Единомышленники, хорошие люди, занятые благородным, полезным делом! Новое здание Дворца Пионеров было таким красивым, и вокруг него тоже все так ухожено, чисто!
Неподалеку, правда, начинались обыкновенные дома, полутемные улицы вечернего города, редкие озабоченные прохожие, хмурые пассажиры в метро. Тускловато выглядела обычная жизнь после праздника…
Когда же я пришел домой, открыл свою комнату, увидел увеличитель и ванночки на столе, вспомнил все – и Штейнберга с его «клубом Витьки Иванова», которому, скорее всего, я так и не смогу помочь, гранки у Алексеева, возмутившие меня своей ложью, РОМ на общественных началах с Рахимом и Шамилем, девушку, у которой отняли ее дневники, Лору…
Ощущение безысходности, полного отчаяния, горечи вдруг прямо-таки навалилось. Ложь, все ложь! Праздник там был, во Дворце, нелепый праздник. Ясно же – показуха…
Боже, ну зачем они так упоенно, так дружно врут? Зачем этот пафос, театральность? От утренней бодрости не осталось и следа.
И все же взял себя в руки. Во-первых, тот черненький паренек – Силин. Я подошел к нему в перерыве и даже записал телефон, чтобы встретиться… Во-вторых, Алик познакомил меня с Лидой Грушиной, той самой «комсомольской шефиней», которая, по словам Алика, «воспитала парня, который родился в тюрьме». И, в-третьих, я решил обязательно побывать в ЦК у Шишко и попросить результат обследования района – те самые листки, которыми он тряс. Все это может пригодиться для очерка.
Очерк! – взбадривал себя я, несмотря ни на что. Не киснуть надо, а дело делать! Вот напишу, а там видно будет. Держись, дружище!
19
Лоре звонил на следующее утро, говорил спокойно и просто, и приятно удивил меня ее добрый тон, и все вечерние переживания показались не такими уж и серьезными. Что это я на самом-то деле?
– Олег, я не могу сегодня. Работа, понимаешь… – сказала она на предложение о встрече, но на этот раз ее отказ меня ничуть не обидел и даже не огорчил.
На самом деле, как я могу обижаться? На что? Разве я сам не занят? Ведь столько работы – очерк, рассказ, повесть, новая курсовая, фотография в детских садах… Ого-го! Зачем же часто встречаться?
– Тогда, может быть, завтра? – спросил спокойно.
– Позвони завтра что-нибудь в середине дня, ладно? – ответила она мягко. – Я попробую.
– Хорошо, обязательно позвоню, – пообещал я. – А ты постараешься освободиться, да?
Однако завтра она не смогла тоже, и я как-то легко согласился.
– А в субботу, послезавтра?
– Понимаешь, дома нужно убираться, Олежек…
Она говорила спокойно, добро, и я сказал, что можно ведь и в воскресенье, если она сможет. И был очень доволен хорошим тоном ее и собой – мужественным своим пониманием, доверием к ней, терпением. Своим спокойствием и уравновешенностью.
– Я сама тебе позвоню в воскресенье, ладно? – сказала она.
– Конечно, конечно, – ответил я с пониманием и заботой. – Я буду ждать. Часов в двенадцать, да?
– Ладно.
Погода совсем наладилась, каждый день теперь светило солнце, снег во дворе почти весь растаял. В воскресенье сидел над курсовой – подходил срок сдачи. Надо постепенно: сначала курсовая, а потом очерк и все остальное. Курсовая мне нравилась. Вот закончу, а с понедельника начну над очерком капитально.
Ждал звонка. Прождал часов до двух – выходил в коридор на каждый звонок – и понял в конце концов, что сегодня, видимо, у нее тоже дела. Оно и понятно: нельзя же вот так сразу на все рассчитывать, у нее ведь и до меня была жизнь. Мало ли что! Все наладится, все утрясется.
Хотя холод в груди уже появился.
Но я легко пережил в тот раз то, что она не позвонила – ничего похожего на прежний невроз. Никакой тревоги! И хотя весь вечер все-таки сидел дома – вдруг?… – лег спать, однако, спокойным, зная, что завтра буду звонить ей на работу сам. Все выясню и, может быть… Вообще завтра нужно обязательно хотя бы поговорить. Внести ясность. Если не сможет она на весь вечер, то хотя бы после работы. Полчасика. Ведь две недели прошло… С ума сойти – две недели!
В груди рос айсберг.
Но в понедельник легко дозвонился, и она вдруг неожиданно согласилась.
– Только не надолго, ладно? Давай там же, на скверике, где тогда? В пять. Ну, можно даже без пятнадцати. Только в половине шестого мне надо будет уйти.
– Так рано?
– Ну, в шесть хотя бы…
Тихо, тихо. Спокойно. О, Господи, только не волноваться. Главное, чтобы пришла, а уж тогда… В первый раз не считается, а уж теперь… Тогда и посмотрим.
Пришел к той же самой будке Справочного бюро ровно ко времени, она, к моему удивлению, тоже не опоздала. Вошли на бульвар, сели на свободную скамейку.
И – как будто не было двух недель, как будто не было моего сумасшествия, словно вчера только расстались.
Я спросил:
– Скажи, как ты ко мне относишься, Лора? Ты что, не хочешь со мной встречаться, да? Скажи честно. Ведь две недели прошло, а мы ни разу не виделись. Неужели ты не могла выбрать вечер? Ты что, не хочешь меня видеть?
Она потупилась и слегка покраснела.
– Я очень хорошо отношусь к тебе, Олег, ты не понимаешь, – сказала тихо. – Но я ведь действительно была очень занята. Очень. И потом… До тебя ведь тоже была жизнь. Нелегко так сразу перестроиться.
Я слушал ее с тихой радостью – она сказала именно то, что я и сам думал. А значит, все в порядке? Объяснение есть, вот и хорошо.
Я был в странном трансе, тело казалось невесомым, я как будто висел в пустоте рядом с ней. Боялся дотронуться до нее, боялся что-то разрушить.
Но радостно было видеть и слышать ее, я чувствовал, что она действительно расположена ко мне. Как приятно на нее смотреть, на ее яркое красивое лицо! Она густо красила ресницы, но это шло ей, а волосы были аккуратно уложены, густые черные волосы с синевой. Лучистые, пронзительно голубые глаза были добры, они, казалось, просто лучились нежностью, аромат ее духов, очень тонкий и нежный, обволакивал и пьянил. Собственно говоря, я впервые ее по-настоящему рассмотрел. На самом деле красивая. Очень.
Одно беспокоило: она казалась очень усталой. Я не видел той живости, которая пленяла на вечеринке. Но, может быть, это и лучше? Зачем игривость, кокетливость? Зрелая женственность, покорность. И доброта.
Она трогательно говорила о своей работе, о том, что ей очень трудно, что сейчас там действительно приходится проводить много времени, много сверхурочных, и она мечтает о том, чтобы найти другое место, получше. Деньги нужно зарабатывать, с деньгами совсем плохо. Она работает копировщицей. Я подумал: эх, если бы можно было помочь ей с работой или просто деньгами! Увы, сейчас я никак, но вот скоро напишу очерк, его напечатают, дела пойдут в гору, и тогда…
Мы оба вдруг замолчали.
– Слушай, может быть, поедем ко мне? – вырвалось у меня.
Она вздрогнула. Но ничего не сказала.
– Там лучше поговорим, – продолжал я спокойно, хотя сердце уже сорвалось с привязи. – Что мы сидим здесь, как неприкаянные? – добавил хриплым каким-то голосом. – Поедем, а? Мы просто посидим и поговорим. Там же лучше. Чаю попьем…
Она как-то испуганно посмотрела на меня.
– Это не входило в мои планы… Меня будут ждать.
В ее глазах появилось что-то такое, отчего у меня уж и вовсе дыхание перехватило.
– П-поедем, Лор, – продолжал я с трудом, запинаясь. – Хоть ненадолго. Пусть подождут. Хотя бы на час. Когда тебя будут ждать, в семь? А сейчас половина шестого. Что мы сидим с тобой здесь как… как чужие. Мы там будем говорить так же, как здесь, только…
Я уже почти не соображал, что говорю.
– Что «только»? – Она улыбнулась.
Я, кажется, покраснел. И опустил глаза. Сердце билось неистово.
– Ну, мало ли…
Она откинулась на спинку скамейки и устало посмотрела на меня.
– Знаешь, мне хочется поехать, если честно, – сказала спокойно.
– Вот и поедем, Лор, – обрадовался я и заторопился. – Поедем. Давай плюнем на все, а? У тебя что-нибудь серьезное?
– Муж, Олег, – сказала она просто. – Я ведь замужем, знаешь. Правда, мы с ним разводимся…
Этого я не ожидал. Муж? Антон говорил, правда, что она была замужем, но вроде бы развелась. Это удар, конечно. Но удар не сильный. Я был в таком состоянии, что даже и не почувствовал по-настоящему. Все это было далеким… Главное, что мы вместе. Это самое главное.
– А замужем давно? – спросил все-таки.
– Мы не живем с ним. Разводимся. Но как раз сегодня он должен приехать. – Она усмехнулась. – На переговоры. Надо же что-то решать. Его мамочка говорит, что я испортила ему всю жизнь. Надо решить что-то.
Она посмотрела на меня очень серьезно.
– Ты на меня не обижаешься?
– Нет, что ты. За что? Наоборот. Ты честно сказала.
Она улыбнулась.
– Поедем. Мне и самой хочется. Только в половине седьмого я уйду, хорошо?
– Хорошо.
Было около шести.
20
Того, что произошло в тот вечер и в ту ночь, я никогда не забуду. Хотя деталей, конечно, не помню. Просветление это было или, наоборот, затмение? Не знаю и теперь…
Никаких приготовлений не было. Войдя, мы тотчас бросились в объятия друг другу. Словно по волшебству, оказались без одежды. Ее тело сверкнуло своей белизной, а потом я уже не видел его – оно стало частью нашего общего тела. Мы расплавились, мы слились в один горячий сгусток. Наша кровь смешалась… Нас скрутил огненный вихрь, от счастья и муки мы задыхались оба. Мои ладони ощущали фантастически гладкую кожу, казалось, я чуть ли не весь, целиком проник, влился в божественное чудо – в горячую нежную бездну тела ее. Губы мои искали и находили ее трепещущие влажные губы, ее глаза с пушистыми ресницами, ее волосы. Как ребенок, я ловил губами набухшие соски ее полной груди… Казалось, это сейчас самое важное в жизни, самое-самое главное! Она стонала, говорила ласковые слова, она кричала.
Да, мне казалось тогда, что это слишком, такое не может быть для меня. Это было что-то немыслимое, фантазия наяву, экстаз… На миг словно сверкнуло что-то – я вдруг понял, какой могла бы быть жизнь! Словно занавеска раздвинулась, и я глянул в окно. На ослепительный, залитый солнцем мир. С деревьями, птицами, голубым небом, чистым воздухом и травой – радостный, свободный мир. Только на миг… Занавеска сдвинулась и закрыла… Пыльная, серая занавеска. Я вдруг увидел свою убогую комнату и всю убогую, серую жизнь. Нашу жизнь. На миг, только на миг… Но тут же – ослепительная, восторженная вспышка, взрыв! А потом…
Да, я начал приходить в себя раньше… Я уже пластался без сил, а она была еще там, в вышине, где только что мы были оба. Я же словно отделился, покинул ее. Спланировал…
Медленно приходил я в себя, и медленно же в меня вползал ужас. Оставил ее, не смог за ней угнаться! Не смог… И, наверное, опять разочаровал… Все было хорошо, очень хорошо, но…
Моя беда нахлынула на меня с новой силой. Только что… такое! И вот… Сердце сжалось и словно остановилось.
«Слаб! Слаб!» – билось во мне кувалдой. Я позорно распластался на грешной земле, а она…
– Ну, что ты? Ну, что с тобой? – успокаивала она нежно, сочувственно. – Мне же было очень хорошо, очень! Это даже лучше, что не хватило чуть-чуть. Сердце могло не выдержать. У меня сердце слабое…
Она улыбнулась жалобно.
«Не хватило чуть-чуть»? Я услышал главным образом это. «Не хватило» все-таки? О, Господи, что же делать…
А она вдруг начала говорить. Рассказывать о себе. Это был какой-то поток. Жалостный, тоскливый и бурный… Словно вскрылся нарыв.
А я слушал.
С 17-ти лет она фактически осталась одна. Отец бросил их и сошелся с другой, а мать стала отчаянно пить. Она пила и при отце, пьянки устраивались, когда Лора лежала в детской кроватке за занавеской. И с 13-ти лет к ней уже приставали («Я рано сформировалась» – сказала она). А в 15 один мамин ухажёр ее изнасиловал. «Мне иногда кажется, что все мужчины скоты. К тебе это не относится, ты понимаешь, но вообще-то я не верю никому, ни одному человеку. Кругом одна ложь, я давно поняла. Есть только секс и деньги, больше ничего. Любви нет. Да и секса в сущности нет тоже. Свинство одно… Все ненавидят друг друга. А ты… Ты какой-то особенный, но…»
– Что «но»? – тотчас встревожился я, и сердце опять словно подпрыгнуло.
– Да нет, не то, что ты думаешь, глупый. А просто ты такой же, как я, понимаешь? Неприспособленный. Потому, наверное, ты мне и…
Это было странно сказано, я даже не понял тогда. Но не спрашивал. «Неприспособленный»? Что это значит?
– Я, наверное, другая, не такая, как все. Хочется по-человечески, а получается… По-моему, ты такой же.
Так говорила она, а у меня ком стоял в горле. «Неприспособленный»… А она продолжала.
На работе к ней без конца пристает начальник. Не Костя, нет. Другой. К сожалению, он очень противен ей как мужчина («Знаешь, он такой толстый, потный»), и она никак не может заставить себя переспать с ним. Хотя это вообще-то не помешало бы. Она так и сказала: «Не помешало бы». Потому что тогда ее, может быть, перевели бы на лучшую должность с приличной зарплатой. Он же ей обещал, если… Сейчас она получает восемьдесят – гроши. «У некоторых это запросто получается, а я никак…» – сказала она и вздохнула. «Злюсь на себя, а ничего не могу поделать. С кем другим еще куда бы ни шло, а с ним никак. Он открыто предлагает, понимаешь, хотя бы… ну, ты понимаешь… хотя бы в рот… а я… Ну, просто ничего не могу поделать с собой, противно…»
Ничего себе, думал я. А она продолжала…
Живут с матерью вдвоем в однокомнатной квартире – не так давно получили, а то жили и подавно в коммуналке, фактически в бараке. Мать по-прежнему пьет, «не просыхая», работает в магазине. С мужем не сложилось потому, что у него тоже есть мать, которая ее, Лору, невзлюбила. «Женщины вообще меня плохо переносят», – сказала она и улыбнулась грустно.
– Я с тобой не такая, как с другими, – сказала еще.
– А ты веришь в передачу мыслей? – спросил я. – Веришь?
– Да, что-то есть, по-моему.
– Правда, у нас с тобой это бывает?
– Да, может быть. Бывает, наверное.
Стоило, не глядя на нее, подумать, позвать мысленно, как она вздрагивала и смотрела на меня тотчас. Я тоже кое-что рассказывал о себе. Мы все же немного выпили – то, что у меня было.
– Никуда я не пойду, – сказала она, когда стемнело. – Ты хочешь, чтобы я осталась?
– Еще бы…
Что-то произошло еще у нас, правда, не очень выразительно. А потом мы как-то оба уснули…
И наступило утро. Оно было пасмурным, это утро. Подморозило, шел снежок. В своем светло-зеленом плаще с заштопанной дыркой у пуговицы я провожал ее почти до самой работы. Опять подумал, что она выглядит как-то слишком эффектно. Чрезмерно ярко, пожалуй, особенно в это серое утро. Мы шли, и снег таял на наших лицах.
Она шла справа от меня, прижимая локтем к себе мою руку. На совершенно бледном лице четко рисовались черные брови, сияли небесно голубые глаза. Встречные мужчины живо поглядывали на нее, хотя и торопились с озабоченными лицами на работу. Она была как бы не от мира сего. Или мне так казалось? Я-то ведь тоже…
– Хочешь, сходим вместе куда-нибудь? – сказал я.
– Да, вообще надо куда-нибудь выбраться. Я с удовольствием. Может, в Цыганский сходим?
– В Цыганский театр? Я постараюсь, я достану билеты…
– Ну, ты больше не провожай меня, ладно? А то здесь уже нас могут увидеть. Это ни к чему. Пока. Я позвоню.
Это «нас могут увидеть» резануло меня, хотя и было понятно.
– Позвоню тебе завтра, а может быть еще и сегодня, хорошо? – сказал я.
– Хорошо. – Она кивнула. – Ну, пока?
– Пока.
21
А днем проглянуло солнце. К середине дня хмарь развеялась, лучи брызнули, и свежий снег ослепительно заискрился.
Все-таки она моя, – думал я, успокаивая себя. – Все-таки было у нас по-настоящему, состоялось! Почти… Вот только что же теперь?
Дальше открывалась бездна, и я старался не думать.
Очерк! Нужно писать очерк. Обязательно! Еще немного пособирать материал и – за работу. У меня будет хороший очерк, настоящий. Нужно пробиться наконец! Стать состоятельным, тогда и смогу ей помочь.
О гранках у Алексеева вспоминать не хотелось. У него же не было той самой папки «Суда», он мог и не знать, как было на самом деле. И потом он ведь сам рекомендовал мне прочесть «Семью Тибо», а там ничего общего с гранками! Там – настоящее. Может быть, если напишу хорошо, очерк все же пройдет? Должны же они напечатать серьезный очерк в конце-то концов!
Вот так, уговорив себя, успокоив, я и поехал на очередной «объект» – в Детскую комнату одного из отделений милиции, где можно будет встретиться с Лидой Грушиной, «комсомольской шефиней», с которой познакомился на Активе. Оказывается, она воспитывала даже не одного, а двух парней, и Алик настоятельно рекомендовал написать именно о ней. Он дал телефон, я позвонил в Детскую комнату и договорился с инспектором Ваничкиной, к которой, собственно, и была «прикреплена» Лида.
Быстро нашел отделение милиции, едва вошел, как меня тут же взяла в оборот разговорчивая оживленная Ваничкина – пожилая, сухонькая, очень похожая на бойкую домашнюю хозяйку, озабоченную своими хлопотами. Она успела много хорошего рассказать о Лиде, пока ее ждали. Наконец, Лида пришла. Золотоволосая, полноватая, медлительная девушка, спокойная, с мягкой улыбкой, молчаливая – контраст с Ваничкиной.
С уверенным, бывалым видом я бодро записывал, обстоятельно расспрашивал их, они обстоятельно отвечали – главным образом, разумеется, Ваничкина, – и я чувствовал себя нужным человеком, у дела. И это положительный материал вне всяких сомнений! Даже удивительно, как быстро мне повезло!
Лида занималась с двумя мальчиками, больше, правда, с одним, который постарше. Именно он и родился в тюрьме у женщины, которую посадили за воровство. Второй родился после. Мать несколько лет на свободе, но теперь постоянно меняет место работы – то ли сама уходит, то ли ее заставляют, пока не совсем ясно, да и не в этом суть. Нервная, невыдержанная, она в сердцах называет старшего сына «тюремщиком» в лицо, хотя очень жалеет его и конечно по-своему любит. Но сейчас, благодаря Лиде, все несравнимо лучше, чем раньше.
И обоим мальчикам нет еще и восемнадцати лет, что важно для Алексеева. Пусть только попробует не согласиться!
Но на этом я не остановлюсь, естественно! Не могу же бросить других. Штейнберг, СУ-91, Актив, Амелин… И наверняка еще многое предстоит.
Обратно ехал совсем уж радостным, солнце светило, гармонируя с моим настроением, я почти уверен был, что все налаживается, скоро напишу очерк, и тогда… Это будет только первый очерк, а потом…
С Лорой тоже все будет хорошо теперь – наверняка! Да, у нее плохо сложилась жизнь, но теперь-то я смогу ей помочь. Теперь она не одна – я есть у нее! – и все будет хорошо. Ну, вот же, например, как получилось у Лиды? Приходила каждый день, конфеты приносила, книжки вместе читали, в кино ходили… Просто! А результат налицо! Добро нужно, и все. Понимание и добро. И ведь получилось у нас с Лорой все-таки. Получилось.
Возбужденный, заряженный, тотчас же поехал я тогда в редакцию к Алексееву, чтобы посоветоваться насчет материала о Грушиной-Ваничкиной. И Алексеев его одобрил в принципе. «Торопись, Олежек, – сказал он. – Попробуем в восьмой номер».
Ну, вот. Значит, я не ошибся.
Правда, там же, в редакции, меня ждали новости, которые произвели впечатление двойственное. Член редколлегии Гусельников прочитал, наконец, мои рассказы, переданные ему Алексеевым. Он начал с того, что наговорил комплиментов – таких, что я даже растерялся. «Язык, музыка, описания природы великолепные у вас!…»
Однако вывод его был странный: из того, что он прочитал, ничего нельзя напечатать в журнале. «Мало социальности, понимаете… И потом темы у вас… На производственную у вас ничего нет? Или о комсомоле? Боюсь, то, что вы дали, у начальства не пройдет. Актуальности маловато… Мне-то все, что вы дали, нравится. Даже очень! Это на самом деле талантливо. Но в журнал нужно другое сейчас, к сожалению» – так сказал он в итоге.
Я опять ничего не понимал. Ведь он же хвалит! И он член редколлегии! Если ему нравится, почему бы за это не побороться?
Заметив мое недоумение, Гусельников тотчас добавил, что лично он не сомневается, что «когда-нибудь» я, конечно же, «удивлю всех». И он, Гусельников, был бы рад способствовать этому. Но вот как?
– Принесите еще что-нибудь, – сказал он напоследок. – Только поближе к сегодняшнему. И хорошо бы на производственную тему все-таки. И хорошо бы о комсомольцах. И как-то посветлее, что ли. Пооптимистичней…
«Что все это значит?», – думал я, уходя со своими рассказами в папке. Но быстро подавил растущую горечь. Очерк! У меня же очерк на повестке дня, это главное! А рассказы потом…
Лоре позвонил в пятницу, как и договорились. Утром.
– Здравствуй, – бодро сказал я.
– А, это ты… Здравствуй! – с неестественной какой-то веселостью ответила она.
– Сегодня ты как? – спросил я, почувствовав фальшь.
– А что мы будем делать? – кокетливо спросила она и засмеялась. – Опять пластинки слушать?
Несколько секунд я ошеломленно молчал.
– Ну, хотя бы, – сказал наконец. – А что, разве тебе не нравится?
– Да нет, нравится, почему же. – Она помолчала. – Ну, ладно! – засмеялась опять. – Давай!
– В то же время и там же? – спросил я, стараясь, чтобы голос звучал бодро.
– Может быть, мне съездить домой, переодеться? – вопросом на вопрос ответила она.
– Зачем? Ведь это долго.
– А вдруг мы куда-то пойдем? Может, в кафе сходим? Или в ресторан какой-нибудь?
Я не знал, что сказать. Она помолчала немного, потом опять спросила:
– Нет, все-таки: что мы будем делать?
– Ну… – замялся я, но она перебила:
– Хорошо, ладно. Значит, в четверть шестого там же, да? Пока.
22
Положив трубку – было около четырех, а ехать в пять, – я вернулся в комнату и сел на тахту. Опять ничего не понятно. Что-то странное опять происходит. Ей что, не нравится? «Пластинки слушать…»
Тахту, эту самую тахту, на которой я сейчас сидел, мне подарили соседи, когда делали у себя ремонт и покупали новую мебель. Ее обивка порвалась посередине, потому-то я и покрывал ее бархатной накидкой, которую тоже подарили соседи и в которой тоже была дыра. Важно было определенным образом уложить накидку, чтобы дыра была не видна. Но если сесть, то рано или поздно дыра появлялась…
«Опять пластинки слушать?» – спросила она. Что это все-таки значит? И вообще слишком странный какой-то тон… Кто-то рядом стоял? Нет, глупости! Наверное, я опять… Теперь-то ведь у нас все в порядке! После того, что было! Не с каждым же у нее так, она же сама говорила. Однако я опять был в раздрызге.
Вдруг вспомнилось: в прошлую ночь я заметил у нее синяк на плече. Она перехватила взгляд и тут же объяснила. Была в компании на днях, и там… «Несколько ребят захотели запереться в комнате с девушкой, а та была пьяная до бесчувствия. Ты понимаешь? Они хотели ее все поочереди…» И она, якобы, пошла на защиту, открыла дверь, но один парень схватил ее и выставил. При этом он с такой силой, якобы, сдавил плечо, что остался синяк… Так она объяснила. «А девушка?» – спросил я. «Там осталась, естественно… Э, да ты не знаешь… Если тебе все рассказать…».
До Академии она работала в каком-то НИИ. Еще – в торговле. Она так и сказала: «в торговле». Но не сказала кем, а я и не спрашивал. Ее подруга устроилась в варьете, в кордебалет и тем самым, якобы «предала» Лору, потому что устраивал мужчина, с которым Лора была близка. «Подруга стала моим врагом», – сказала она и усмехнулась.
Да, странновато было слушать ее. Даже не во все верилось. Рассказывая, она как бы застыла – словно окоченела от холода. И тело ее тогда, в те моменты, было напряженным, холодным.
«Я никому не рассказывала так. Некому было, Олежек. Кроме тебя у меня только одна подруга верная, единственный близкий мне человек. Единственный, кому я верю…» Сказав это, она ожила и повернулась ко мне, опять теплая, нежная. Пышные волосы ее щекотали мое лицо, от них шел головокружительный аромат, меня просто сотрясало от любви и от сочувствия к ней, хотелось ее защитить, согреть… А потом…
Пора однако. Половина пятого. Надо еще уложить накидку аккуратно. Подмести. Пол, конечно, грязный, помыть бы. Но некогда. Потом. Да, и денег-то совсем нет, а мало ли что…
– Лидия Самойловна, у вас не найдется рублей десять до вторника?
Это – к соседке в коридоре.
– Сейчас.
Черт побери, хорошая женщина. Хотя и соседка. Вот и преимущество коммунальной квартиры – есть, у кого занять.
Галстук что-то разучился завязывать. Вот, есть завязанный. Подойдет. Скорее бы теплело, чтобы не надевать плащ. Впрочем, костюм тоже не блеск. В рубашке бы. Но пока холодно.
Какое солнце на улице!
Так, не волноваться. Ну, встретимся. Не в последний ведь раз. Без двух минут четверть шестого. Ее еще нет, кажется? Что-то не видно. Осторожнее, машина. Так. Какое солнце! Ни ветерка. Скоро за город можно. Летом – на водохранилище какое-нибудь, на речку. В лодке с ней вместе. Сколько раз мечтал!
Так, тихо, спокойно, не волноваться. Солнце, лодка… Она – рядом… Заводи, остров… Лес, трава, цветы… Господи, вот для нее будет праздник! В настоящем лесу-то была когда-нибудь, интересно?
Да, лес, река, она у реки на солнце – стройная, радостная у воды… О, господи, ведь толком так и не рассмотрел ее обнаженной. Она прекрасна, должно быть. Вот бы сфотографировать…
Сердце защемило от яркой этой картины.
А вообще нужно входить в форму. Сколько можно метаться и ныть? Спокойно! Так. Та-ра-ра. В кафе? Поэтому и хотела переодеться, наверное. Какая глупость! Да ведь просто по улицам походить – и то неплохо в такую погоду. Предложу, подумаешь. Но, сначала…
Часто ли бывает такое? Это божественно было. Ничего подобного никогда… Какое, к черту, кафе, глупости! Вон… Нет, не она. Минута прошла – шестнадцать шестого. Ну, конечно. Не может же уж так, минута в минуту. Мало ли что… Та-ра-ра. Так. Плащ поправить. Ничего, если скрыт шов. Где зашито. Только расстегивать нельзя. Жаль, скованность все-таки. Господи, какую я чепуху… Только не волноваться, только не волноваться.
Эх, если бы… Море, яхта. Где-то на спортивных, личных самолетах уже летают. Дельтапланы появились. Когда-нибудь, ну хоть когда-нибудь такое будет у нас? В несчастной моей стране. Эх, Россия!… Фильм нужно посмотреть, о котором ребята говорили, как его? «Хеппенинг в белом». Там дельтапланы, серфинги, водные лыжи – праздник одним словом. Американский фильм, кажется. Или немецкий? ФРГ, конечно. Ладно, потом. Не киснуть! Лермонтов в этом возрасте… Стоп, хватит. Спокойно! Раз-два-три-четыре… Нет ее. Нет как нет! А пора бы. Восемнадцать минут, то есть три лишних уже. А вдруг опять? Нет, нет, не может быть. После того, что было. Вон, военные. Из ее Академии. Та-ра-ра. Так. Ну, к черту, еще волноваться. Спокойно. «Пластинки слушать». А что, ей не нравится? А что она хотела бы, интересно? Девятнадцать минут. Это еще ничего, можно подождать. Хотя что ей тут идти? Рядом. Спокойно…
Она это? Нет, не она. Не может быть… Она! С ней трое мужчин. В военной форме. Ну, Академия, понятно. Садятся в такси. И она тоже! Посмотрела, увидела меня. Что-то сказала им. Чуть-чуть не села в машину, между прочим, чуть-чуть. Теперь идет все же ко мне. Они ждут, смотрят, дверца машины открыта. Ждут.
– Здравствуй… – Покраснела.
– Здравствуй, Лора.
– Ты извини, Олег, я не могу сегодня. Видишь…
– Да, вижу, конечно. Я смотрю и не узнаю, понимаешь. Она, думаю, или не она. Потом все-таки вижу: ты.
– Только не сердись, Олег…
– Что случилось? В чем дело? Мы же договорились, часа не прошло. Что-нибудь непредвиденное? Ведь всего сорок минут назад…
– Муж, понимаешь…
– Муж? Это – муж? Но ты же сказала, что не живешь с ним. Что вы поссорились. Что не любишь. Откуда же он вдруг взялся? За полчаса. И почему трое? Три мужа, да?
– Это его приятели просто. Они вместе. Мы вместе… Я не думала, понимаешь…
– Что не думала?
– Не сердись, Олег, прошу тебя…
– Послушай, послушай же! Ты ведь не любишь его! Так? Ты же сама сказала, ты ведь сама! Что разводишься… Вот и… Вот и не ходи с ним. Мы же договорились с тобой, верно?
– Не могу, Олег. Извини. Я тебе позвоню. Все не так просто. Извини.
Колышащаяся площадь. Множество солнц. Серый асфальт. Черт с ними! Ступеньки бульвара. Талый снег. Как там… на озере, где только солнце и листья, и аромат, и лодка, и мелкая рябь от ветра, и тускло-желтое в глубине, и голубизна, когда вынырнешь, и можно ходить голышом в зарослях, и розовость, и жар загара, и треск кузнечиков…
Долой, долой всю эту глупость, правильно говорили мудрецы всех времен – суета сует… Женщина, боже мой, женщина! Центр мироздания, основа мира! Ну что же, ну что же делать… Мокрая земля пока еще. Голые деревья. Скоро, скоро… Тени, синие тени. Синь неба, синь глубокого неба, холодного неба, где, может быть… Автомобили – рычащие, мелькающие, зловонные. Как их много! Дома-коробки, безликие соты. Тюрьмы! Мы сами их строим во множестве, мы сами. Нам лишь бы подчинить, лишь бы занавеску задернуть. «Кафе»! Она даже представить не в состоянии, как это может быть там, на природе, у озера, в лесу, на солнце, в траве и цветах…
Кафе! Куда идти дальше? Улица. Глубокая и прохладная, словно река вечернего воздуха среди коробок каменных… Быстрей, вот так! Река, мост, ветер… Одиночество? Пусть так! Веселая дорога!… Боятся жизни, боятся самих себя, всего боятся… К черту! Праздник мышц! Быстрее. Живем, ребята, дышим грудью. Солнце! Вот чему можно верить. Озеро, летом на озеро обязательно. Только это не подведет, не обманет – деревья, листья, цветы, голубое небо… У них другая жизнь, и у нее тоже. Врала она, когда говорила, что мы похожи. Врала.