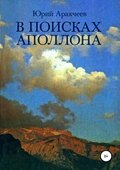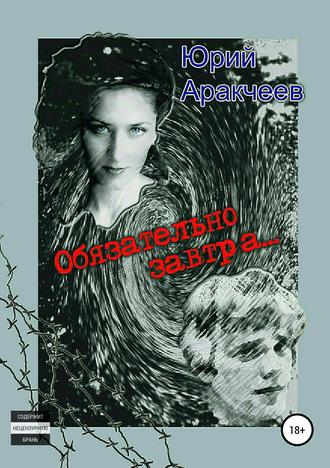
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
То есть постоянно, всегда, во всех смыслах и отношениях все получалось – наоборот! Что касается заработка моего в то время, то спасала лишь «неофициальная» фотография. Для меня, для воспитателей, для родителей все тут получалось впрямую, не нужно было ни сдерживать себя, ни делать вид, чем быстрее и лучше выполнял я свою работу, тем лучше было для всех. Хотя… Хотя нужно было скрываться от фининспекторов, обэхеэсэсников, а значит и тут тоже было наоборот.
Как и с главной, основной, работой моей, делом жизни. Ведь рассказы возвращали из журналов не потому, что они плохи, а потому, что правдивы, честны и на самом деле о жизни, а не о том, как надо любить начальство и коммунистическую партию своей страны. То есть потому как раз, что они хороши – это ведь и сам Алексеев мне говорил, и Гусельников. Шишко призывал не правду писать, не исследовать проблему по-настоящему, а в первую очередь – следовать «установкам». В Литинституте учили все же не описывать жизнь такою, какая она есть, а – какой «должна быть». Тоже наоборот…
Виталий, Антон, другие многие – и даже Лора! – хотели чего? Чтобы я не мучился, не метался, и «наоборот» принял за правду, а правду – за наоборот!
Вот что начал я тогда понимать. Наконец-то…
И как-то само собой стало ясно мне вдруг, что у многих из тех ребят, что находились под следствием или ожидали отправки в колонию, была та же проблема. Та же, что и у меня. Они тоже запутались во всех этих «наоборот». И с девочками, и с баллонами, и с «бытием», которое «определяет сознание», и с наставниками своими, с которыми «вместе пили». То есть оказалось, что вся жизнь наша на самом деле – НАОБОРОТ.
47
И вот семинар.
Собралось человек двенадцать, довольно много. Было у меня три экземпляра повести, решили не читать вслух – так хуже воспринимается, – а передавать друг другу листки поочереди.
Вот и хорошо. Читать вслух не хотелось. Повесть раньше мне самому очень нравилась, написал ее быстро, на одном дыхании, но сейчас видел, что она длинная, сумбурная, с их точки зрения, и вообще не о том, что котируется на семинаре. Разве что тематика «производственная» – это у нас любят. Да еще и «из жизни», что да, то да. Написал после того, как проработал на заводе целый год. «Производственной» тематика была лишь внешне, на самом же деле просто о жизни, о человечности, о чести, может быть, которую у нас как-то постепенно оттеснили, заменив ее «социалистическими обязательствами» по выполнению «плана».
Читали часа полтора – там больше полсотни страниц на машинке, – я не знал, чем заняться, выходил из аудитории, бродил по коридорам, стоял во дворе, глядя на небо и солнце. Странную бессмысленность ощущал во всем. Даже солнце и небо казались бесцветными, ненастоящими, что-то это напоминало, не мог сообразить сразу, что именно. А, ну да, тюрьму, конечно! Точно так же воспринималось солнце из тюремного дворика.
Да, мы все в тюрьме, думал я, если уж по большому счету. Бессмысленность и пустота. Ложь вокруг, неверие у большинства ни во что, и ничего нельзя, сплошные запреты. Вот читают, сейчас будут долбать по самым чувствительным местам, а зачем? Зачем это нужно? Писал честно, писал, как принято говорить, «для себя». Ну, и какой же смысл? Не напечатают – уже категорически возвращали дважды из двух журналов, а в третьем как будто понравился, но… Редактор сказал, что «слишком» – «Нельзя же уж так-то, такое у нас не пройдет». То есть и выходит, что «для себя». А сейчас обсуждающие будут еще и изгиляться. Никому не нужно ведь это «для себя». Все теперь должны следовать установкам, привыкли. Чтоб опубликовали! Вот и очерк у Алексеева лежит старый мой, настоящий – без пользы. Осточертело все. А новый… Алексеев пока молчит.
Честно говоря, мне не хотелось возвращаться в аудиторию, дикая мысль вспыхнула: уйти! Уйти и все. Пусть обсуждают. Зачет поставят все равно, и ладно. Ведь послал же на первом курсе повесть по почте. И зачли. Вот только с экземплярами. Жалко. Вдруг пропадут? Да нет, глупость, конечно. Никуда я не уйду.
И словно под невидимым конвоем вернулся все же в аудиторию.
Подробно вспоминать то, что было дальше, не хочется. Да и не помню толком. Вошел тогда к ним – заранее с комом в горле, боялся сорваться, всячески уговаривал себя не волноваться и ни в коем случае не отвечать на придирки и глупости. И ощущение тюрьмы и предстоящего насилия было, ожидание непонимания, чувство стыдной обнаженности, желание защищаться, хотя и незнание, как. Ощущение жертвенности, заклания, что ли. Ну, букет, известный всякому, кто, фигурально выражаясь, подставлялся и получал по морде.
Однако ожидаемого не произошло. Это странно, однако некоторое время я не мог даже понять, адекватно ли воспринимаю происходящее. Повесть мою хвалили! Никто не обвинял за сумбур – разве что руководительница и еще кто-то сказал, что подробностей и производственных терминов все-таки многовато. С какой-то точки зрения, это, может быть, и справедливо, хотя я все-таки не согласен. Но и с этой точки кто-то из ребят меня защищал! Главное же – повесть поняли! И говорили с уважением, я видел, что это действительно так – не дежурные похвалы, а искренние! Их проняло!
Да, такого я не ожидал. Ведь так привык к натужным высказываниям, натяжкам, неискренности, порой откровенной лжи в выступлениях семинаристов. И вдруг…
Радость, чувство некоторого удовлетворения были, конечно. Но больше все же не это. А – печаль. Все, как один, заявляли, что рассказ не напечатают ни за что. «Такие вещи будут у нас печатать через пятьдесят лет, не раньше», – так сказал один, кажется, Соловко. «Через двадцать», – возразил ему кто-то. «Да, – согласилась руководительница, – его не напечатают сейчас, к сожалению, это верно. Мрачно им покажется, хотя это не мрачность. Это правда. Вы, Серов, работали на заводе сами, и это чувствуется. Не все получилось у вас в рассказе, но он состоялся, он есть. Это живое, это трогает, а недостатки не столь и важны. Я считаю, и, думаю, товарищи со мной согласятся, это ваша удача».
Ничего себе удача, подумал я.
48
Смутное, смутное было у меня тогда состояние все равно, странно подействовало обсуждение на семинаре. Хвалили… А за что? За то, что не напечатают? Опять все – наоборот… И потом. Все-таки производственная тема у меня в повести, пусть лишь внешне, но – производственная. Красоту, эротику, женственность они бы не поняли все равно. И – осудили бы. «Производственная», «деревенская», «городская»… Все! Остальное – «ни о чем». Напишу о Лоре, об «этих» проблемах – скажут: не положено, «не по-советски», «порнография», непристойный секс. Низ-зя!
Алексеев, между тем, не звонил, и я решил сам ему позвонить. Застал.
– Ну, как, прочитали, Иван Кузьмич?
– Прочитал, – сказал Алексеев, и тон его был кислый.
– Ну, и как? – спросил я спокойно.
– Честно говоря, плохо, – сказал Алексеев и вздохнул. – Понимаешь, это не то, Олег. Ты же… Я от тебя другого ждал. Ну, в общем, приезжай, поговорим. Вообще-то я могу его предложить, конечно. Его, может быть, даже и напечатают. Но… Это не то, понимаешь. Пафос ложный. В том очерке, что у нас не пошел, у тебя искренность была. А здесь… Это не твое, Олег. Не твое…
– Хорошо, – оборвал его я. – Понятно. Я заеду как-нибудь. Позвоню тогда.
И повесил трубку.
Первым чувством была дикая злость. Кто меня просил сделать не так, как я хотел, а «как надо»? Кто накачивал необходимостью «положительных примеров», «ролью комсомола» и т.д.? Кто давал мне эти самые заведомые «установки» и отвергал то, о чем я хотел написать? А теперь удивляется!
Но тут же я и остыл. Почувствовал даже, что стало отчего-то легко. Элемент благодарности к Алексееву ощутил даже. От того, что он все же не похвалил. Ну, и стыд, конечно. Перед самим собой стыд. И перед ним все же тоже.
Вспомнился опять почему-то фильм «Хеппенинг в белом». Безнадега, полная у нас, безнадега… Что делать?
49
Да, невеселое было тогда положение. Состояние отчаяния, можно сказать. Поражение на всех фронтах…
Только вот деньги за фотографии в детских садах исправно воспитатели собирали и честно мне отдавали. И никто меня пока не поймал. Финансовая проблема в какой-то степени решалась. А скоро лето. Детские сады выезжают на дачи, и с заработком будет еще проще.
И вот…
Есть, то есть питаться земной пищей все-таки надо, и я по-прежнему ходил в свою «Закусочную». Зашел и на этот раз. Был солнечный день конца мая, но я как-то не замечал любимого солнца. Что-то было все же не так. Отупение и тоска. Ездил, ездил с очерком, встречался с людьми, переживал за них, обещал, они ждут, а я вот…
В «Закусочной», как всегда, была грязь, как всегда, почему-то в воздухе висел чад, всюду проникал неприятный запах, но больше всего, как всегда, раздражало даже не это. Это в конце концов преходящее, это можно ведь изменить – не везде ж так, не во всех закусочных и столовых! Больше всего меня всегда раздражали лица обедающих – отрешенные, равнодушные, принимающие эту вопиющую действительность такой, какая она есть, и не только не пытающихся, судя по всему, изменить ее, но, похоже, и не помышляющих об этом. Конечно, сравнивать это с «Бабьим яром» слишком смело, но по сути ведь – то же самое! «Бытие определяет сознание»…
Казалось, люди наши даже и не представляют себе, что жизнь может быть какой-то иной. «Спасибо, что хоть таким кормят» – написана была на их жующих лицах расхожая «мудрая» истина, а с мокрых уст некоторых готова была, кажется, сорваться еще одна мудрость: «Заелись! В войну и такого не было, забыли?! Ешь, что дают, и не выступай!» Находились – всегда, конечно, находились такие, которые «выступали»: вызывали директора (которого, как правило, не было на месте), требовали жалобную книгу (которая обычно была «на проверке»), иногда получали ее, правда, и даже писали свои «замечания и пожелания», иной раз весьма резкие, но все оставалось по-прежнему, и только на праздники (да и то не на все) или перед «Выборами» появлялись бумажные салфетки, а то и полузасохшие цветы на столах, блестел чистый пол, улетучивался куда-то чад…
«Выступал» и я когда-то, как уже сказано, но… Устал. Может быть действительно была высшая мудрость именно в равнодушии этих жующих, отрешенных от всяких переустройств, довольных всегда и всем лиц? «Не надо серьезно» – как сказала Лора. Ведь привыкли уже, пора бы привыкнуть совсем…
В тот день я тоже стоял и жевал, как все, и смотрел машинально по сторонам и, как всегда, в бессильной усталой злости думал о том, что мы все-таки сами виноваты в страданиях и бедах своих, это верно. Но действительно: в данном, конкретном случае что можно сделать, что? Ведь пробовал, пробовал – и что? И понимал я, что со стороны, видимо, выгляжу так же, как все – несмотря на то, что внутри, про себя, пылаю все еще гражданским пылом. Наедине с собой…
И тут увидел я, как среди других в столовую вошли двое – мужчина и мальчик. Мужчина средних лет, в потертом пиджачке, а мальчику лет двенадцать. Они остановились у соседнего с моим свободного столика, мальчик остался, а мужчина направился к раздаче. Мужчина был небритый, усталый, с лицом мягким и добрым, подверженный, однако, как я понял тотчас, губительной страсти – это было видно по неуверенной походке, дрожащим рукам и по тому устоявшемуся запаху винного перегара, который я почувствовал, когда они проходили мимо.
Лицо же мальчика поражало не столько своей худобой и бледностью, но блеском глаз, одновременно и детских, и взрослых. Они были по-детски широко, с острым вниманием к окружающему открыты, но в то же самое время недетская серьезность и горечь уже поселились в них. С доверием, любопытством и радостью они, казалось, встречали взгляд каждого в самый первый момент – но тут же их обладатель как будто бы вспоминал о чем-то и отводил глаза, пытаясь скрыть от посторонних вспыхивающее в глубине его существа отчаянье.
И еще по мимолетным взглядам вокруг, по движению ноздрей, губ, горла – по всем этим недвусмысленным признакам заметил я, что мальчик определенно голоден.
Мужчина тем временем подошел к раздаче в странной какой-то неуверенности. Там, как всегда, уже стояли готовые блюда – котлеты, супы, кисели, – нужно было только взять поднос, встать в очередь, поставить затем на поднос то, что взято, и оплатить у кассирши. Но мужчина, как будто бы присматриваясь к меню – оно висело тут же – и выбирая, бочком придвинулся к стоявшим супам, протиснулся между двумя людьми, стоявшими в очереди, когда между ними образовался просвет, взял быстро две полные миски дымящегося борща и, пользуясь тем, что кассирша отвлеклась, а люди в очереди не смотрели, понес миски с супом к столику, где его поджидал мальчик. Никто не заметил, что мужчина и не собирался платить.
Но только не мальчик.
Лицо мальчика, который внимательно следил за действиями мужчины, мучительно исказилось, когда он увидел и понял то, что увидел и понял я. Но мужчина не заметил этого. Очень довольный собой, он поставил дымящиеся миски на стол и отправился за ложками. Мальчик, быстро взглянув на меня, сцепил накрепко руки и опустил глаза. Он судорожно глотнул, и совсем уже ясно стало, как он голоден.
Довольный, слегка улыбающийся мужчина принес тем временем хлеб и ложки и, придвинув одну из мисок к мальчику и положив рядом с ней ложку, принялся немедленно и жадно есть свою порцию.
Мальчик не расцеплял рук и не поднимал глаз на миску, которая дымилась рядом с его лицом.
Наконец, мужчина заметил это. Он задержал ложку, уже поднесенную ко рту, и лицо его странным образом сморщилось – жалобно и досадливо в одно и то же время. Он опустил ложку с борщом, проглотил то, что было во рту, и сказал негромко:
– Ну, Володя, ну, что же ты. Ты ведь так есть хотел…
Мальчик дернулся и, не поднимая покрасневшего лица, пробормотал отрывисто:
– Не могу, папа. Не хочу. Опять ты…
Мужчина, услышав это, совсем расстроился, лицо его размякло, глаза перебегали с миски на мальчика и обратно, губы шевелились.
– Ну… – сказал он, сглатывая слюну и жалобно глядя то на миску с супом, то на мальчика. – Ну, ты ведь знаешь. Ну, не осталось у меня ничего, ну… Что же делать-то. Ну.
Мальчик не поднимал глаз.
– Я завтра заплачу! – сказал вдруг мужчина радостно, очень довольный, как видно тем, что спасительная идея внезапно осенила его. – Завтра получу деньги и приеду сюда, заплачу. Хорошо? Я тебе обещаю. Ешь.
И он с облегчением опять запустил ложку в борщ.
Но мальчик не дрогнул.
– Нет, папа, пойдем, – сказал он вдруг, подняв глаза, но по-прежнему не глядя на отца. – Пойдем отсюда. Я не хочу.
И столько решимости было в тихом детском голосе, что не только я, невольный свидетель, но и собственный его отец удивился. Растерянно он смотрел на сына. Наконец, оставил ложку в борще и с досадой махнул рукой.
– Ладно, – сказал он с беспомощной какой-то обидой и, не оглядываясь, пошел вон из столовой.
Сын облегченно вздохнул и поспешил за ним.
И все.
А я стоял рядом со своим столиком тоже в растерянности и чувствовал, что все как будто бы изменилось вокруг.
Так просто. Он – отказался! Голодный мальчик отказался от ворованного супа. И раздосадованный отец тоже не стал есть.
Так просто.
И я увидел вдруг, что столовая залита солнцем, ярким майским солнцем, которое врывается в окна и пронизывает насквозь этот чад, эту убогую обстановку и освещает лица людей.
И в мгновенном порыве я бросился вон из столовой, чтобы догнать их и каким-то тактичным образом пригласить пообедать со мной – оказать честь! – в кармане, слава богу, прощупывалась целая трешка, – выскочил на ослепительную, залитую солнцем улицу. Но мальчика с отцом не было видно вокруг. Я быстро прошел по улице в один конец. В другой. Их не было.
«Отказался. Он – отказался!» – бились во мне счастливые эти слова, и я с полузабытой как будто бы радостью ощущал, как воздух наполняет спавшиеся легкие, как горячее солнце гладит лучами кожу, как в ушах звенит весенний радостный шум. «Он – отказался. Так просто это». И значит, я – не один? Не один!
И по-новому озарились для меня прошедшие дни.
Только ложь? Только игра? Бесполезно все? «Не надо серьезно»?… А они?! А эти искренние, вполне естественные, живые, добрые люди, которых так много встретилось все же! Как это я забыл? Видящие, но не падающие духом, не вступающие в «игру», но – делающие, все-таки делающие свое дело! Свое! Честно! Так, как они его понимают, а не так, как пытается их кто-то заставить! Амелин, Штейнберг, Силин и Варфоломеев, Грушина, Ваничкина, Семенова, воспитатели в тюрьме, лучшие из них, да мало ли! Их много, очень много, живых. И вот – даже мальчик! Даже мальчик, несмотря на то, что такой у него отец. Даже он! Как будто для меня, специально…
И я вдруг осознал сложность мира – не хаотичность, не бессмысленность, не тоскливость его отнюдь. Сложность! Это совсем другое. Выбор есть всегда. И выход всегда есть! Ну, конечно. А я-то… Да, я выглядел жалким перед кем-то – но ведь я и был жалким! Но, конечно, не потому, что действовал не так, как советовали Антон и Виталий. Наоборот! Я был жалким потому, что сомневался, не шел ДО КОНЦА, не уверен был в своей правоте, самому себе не верил! Вот в этом и права Лора! Красота, нежность, искренность всегда правы! А она ведь была со мной искренна! Антон… Что он нес? «Работать должна, не подчиняться, не отдаваться… Грудь зачем?» Он, который сам восхищался ее красотой, привел, мечтал о «Гаити»… Работает копировщицей «за семьдесят рэ», не отдается начальнику – разве этого мало? Она, красивая, молодая женщина – место ли ей там, у них? Сволочи идеологи и правители наши – красоту не ценят, женское не ценят, природу не ценят – им лишь бы «производство» и План! Таким, что ли, будет Светлое Будущее?! Секса нет у нас – не положено! – красоты нет, женщины красивые должны вкалывать за гроши, а мы, писатели, журналисты, должны писать только то, что разрешают «сверху», а иначе…
Что же мы делаем со своей жизнью, люди?!
Мы – не мужчины. Мы превратились в ничтожеств – баранов, овец, кроликов беззащитных. В проституток мужского рода! Не женщины, а мы, мужики, настоящие проститутки! Мы трясемся перед сильными мира сего – носорогами, лжецами и хамами, – перед их лживой силой. Подчиняемся подлой этой системе! Мы лжем в постоянном животном страхе, мы не только женщин, мы саму жизнь любить перестали! Не ценим ни красоту, ни природу, ни женщин! В животном страхе потерять жизнь мы уже потеряли ее! Мы покорно, подчиняемся «руководителям» нашим, которые, пользуясь подлой системой власти, доводят нас до состояния жалких скотов – слепые от страха заставляем себя им подчиняться. «Сильные они! Опасные!…»
В чем же они сильны, чем опасны? Лживые, подлые! Не о нашем Светлом Будущем думают – о себе… Пирамида – остроконечная Пирамида Власти! Пирамида Господства одних над другими – лживых над честными, жестоких над «жалкими», алчных над добрыми!
Нас кормят вонючей похлебкой и вешают кислую лапшу на уши, а мы верим. Нас грабят, нас унижают, нас истребляют, а мы ползаем на коленях и ловим мерзкие руки, целуем их, лишь бы они не били нас слишком сильно и не отнимали последнее – тюремную эту похлебку и вонь, и чад, и ничтожество всего нашего беспомощного, бесполого существования – существования наоборот! Мы ползаем в грязи и блевотине, взваливая на женщин свою мужскую ношу (называя это «раскрепощением, равноправием женщины»), а потом их же обвиняем в неженственности, обзываем «дрянями» и «блядями». Мы только и можем, что продлить род человеческий, да и то не всегда можем, увы – мы и эту природную прерогативу свою растратили на другое: на ползанье, унижение перед «сильными», жалкое подобие «Гаити», которое не Гаити вовсе, а просто скотство. Мы красоту растоптали. И нежность. И сочувствие. И любовь.
Так понял я и так осознал, увидев всего лишь мимолетную сценку в столовой. Пережитое, накопленное, невысказанное вспыхнуло во мне, прорвалось.
Я – ПРАВ! Не Виталий, не Алексеев и уж тем более не Антон… Я! И мальчик. Себя, себя нельзя забывать, предавать ни при каких обстоятельствах, хранить данное тебе природой необходимо – и не на потом откладывать, а – сейчас! «Потом, потом, – думаем мы, лелея, пестуя, взращивая свой страх. – «такова жизнь», ничего изменить нельзя… Ведь нам обеща-а-а-ли! Су-у-лили ведь све-е-тлое бу-у-удущее. Нам обещали из года в год, а мы все ве-ерили, ве-е-рили. Нам говорят: работайте лучше! И мы стара-а-емся, стара-а-емся, не поняв до сих пор, что чем лучше мы работаем, тем больше у нас отнимают! И тем лучше благосостоя-а-ние. Не наше благосостояние. ИХ.
Ну, напечатали бы «подходящий» очерк. Один, другой, третий. Ну и что? Если они будут хотя бы частично лживы, если к ним, к тому же, приложат руки те, кто стоит над алексеевыми, что останется? Кому будет нужна эта ложь? И ведь тут только начни…
Даже в гетто были восстания. Даже в концлагерях. И в оккупации – партизаны. Всегда, при всех обстоятельствах, во всех условиях, даже самых бесчеловечных, теплился живой огонек «сейчас» – живой огонек самой ЖИЗНИ. Только сегодня! Только СЕЙЧАС! Потому и существует до сих пор жизнь – несмотря ни на что!
«Потом» никогда не бывает – всегда есть только СЕЙЧАС.
Прав Виталий вот в чем – завалить их очерками, повестями, рассказами. Но – не теми, какие им нужны – СВОИМИ! Прав и Антон: только не ныть! Все правы, если ты действуешь, а не прозябаешь в страхе, НЕ ПОДЧИНЯЕШЬСЯ слепо. Если ты ЖИВЕШЬ, а не ждешь обещанного тебе «потом». Если ты ОТКАЗЫВАЕШЬСЯ от ворованного борща.
Да, я напишу, но напишу как было на самом деле!
Как яркий, насыщенный виртуальный фильм пролетела в воображении моем вся история тех дней… Все – правильно, и – спасибо, Лора!
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ! Никогда, ни за что… Спасибо тебе, мальчик в столовой!
Ах, какая же великолепная погода была в те майские дни! И сияли окна домов, сверкали плоскостями автомобили, распускались почки кустарников и деревьев, весело чирикали воробьи, и вспыхивали улыбки на лицах прохожих…
Была середина шестидесятых. У всех у нас была пока еще Родина – Советский Союз. Одна Шестая часть всей земной суши. Богатейшая по ресурсам страна мира… И мне, да и многим, многим в голову не могло прийти, что будет с нашей страной всего через каких-нибудь двадцать лет… Где теперь наша Родина? Где великая наша страна?
И все-таки. Еще не вечер. Еще будет завтра. Обязательно!