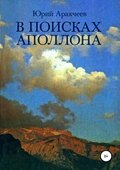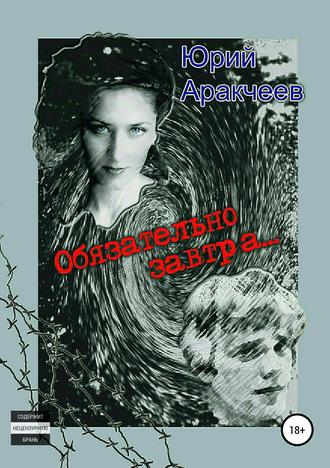
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Он умолк, и я понял, что теперь пришло время сказать хоть что-то.
– По какому поводу? – спросил я.
– Как по какому поводу?! О чем ты собираешься очерк писать?
– О преступности несовершеннолетних.
– Ну, вот это я и спрашиваю. Что ты думаешь по этому поводу? Меня интересует в основном пионерский возраст. Но и постарше тоже – до 16 лет.
На миг он замолчал, как будто бы ожидая ответа. Но быстро и исчерпывающе ответить на столь риторический вопрос было непросто. Пока я собирался с мыслями, Шишко коротко и как-то разочарованно вздохнул, а потом, не обращая внимания на то, что я все-таки собирался ответить, продолжал:
– Так что тебе нужно было? Результат обследования? Ты это хотел?
– Да, – обрадовался я. – Вы говорили о нем на Активе 11-го, и я хотел бы… Понимаете, мне в Горкоме Амелин…
– Так-так, – опять перебил он. – Ну, а сам-то ты что делал, где побывал?
– Ну, я много где был, – заторопился я на этот раз. – В милициях, в детских комнатах, в Горкоме не один раз, у шефов некоторых комсомольских, в клубе «Романтик». На Активе вот. Завтра в тюрьму иду, потом в колонию поеду…
– Ага, хорошо. Молодец! И давно ты занимаешься этим?
– Да уж месяц.
– Что? Месяц? Всего-то? – Шишко развел руками и разочарованно хмыкнул. – Месяц! Тебе надо как следует вникнуть в это дело, по-серьезному. Раз уж взялся. По-серьезному! А ты – месяц. Мы вон сколько времени этим занимаемся, а все никак не решим проблему. Условия для возникновения преступности у нас ведь давно ликвидированы, так? А преступность есть! И в последнее время выросла даже. Вот ведь какой фокус. А ты – месяц!
Он покачал головой, помолчал несколько секунд и опять хлопнул по столу крепкой ладонью.
– Так! Ну, что ж. – Он сосредоточился на миг и побарабанил пальцами по столу. – Я-то думал, что разговор у нас будет долгим, а он, оказывается, короткий, – подытожил он, наконец, снисходительно, но и ободряюще посмотрел на меня, улыбнулся и решительно остановил свою руку на одном из телефонных аппаратов.
– Так. Надо тебе еще посмотреть, поездить. Я тебя сейчас…
Он подумал, снял руку с красивого аппарата и перевел какой-то рычажок на небольшом изящном щитке, который я только сейчас заметил. Перед ним, оказывается был целый пульт управления. Как в самолете.
– Я сейчас вызову Седых, – энергично сказал Шишко. – Он у нас преступностью занимается. Сведу тебя с ним. Инструктор… Так ты, значит, в журнале не штатный? А работаешь где? Или учишься?
Теперь он говорил дружески, с некоторой теплотой даже.
– Учусь. В Литературном институте, – успел я ответить.
– Имени Горького? – брови Шишко поднялись.
– Да, – кивнул я.
– Прекрасно, – с восхищением сказал завсектором ЦК, и лицо его вдруг просияло. – Так ты, значит, можешь… Слушай, знаешь, что мне надо… – заговорил он совсем по-свойски и впервые заинтересованно. – Вот что мне нужно… Ты там подбери ребят – есть у тебя ребята на примете? Хорошие ребята, надежные? Так вот, ты подбери ребят, мы с вами будем держать связь, понял. Через тебя. Нам тут кое-что понадобится…
Теперь он смотрел совсем по-другому, с заговорщицкой какой-то улыбкой, почти по-детски. И я вдруг увидел в нем обыкновенного человека, понял, кажется, какой он в обычной – неофициальной – жизни, каким парнем был совсем еще недавно. И с удивлением подумал, что бравада его напускная, что он, как и я, как все, испытывает обыкновеннейшее чувство неуверенности в себе, что он в общем-то маленький человек и в глубине души осознает это, но при том изо всех сил пытается сделать то, что должен делать, что от него тоже где-то там требуют, что он хочет и сам – искренне хочет, – но вот на самом деле не знает, как. И, конечно, не верит, что кто-нибудь может знать.
– Знаешь, что нам нужно, – продолжал он тем временем доверительно, с интимной, дружеской интонацией. – Ну, вот о фильмах, хотя бы. Тут недавно вышел этот, как его… «Великолепная семерка». Смотрел?
С обезоруживающей ясной улыбкой он вгляделся в мои глаза.
– Смотрел, – только и успел я вставить.
– Так вот о нем написать надо как следует! – обрадовался Шишко. – Раздолбать во все корки, понял! Ишь, ковбои! После таких фильмов, знаешь, как у нас работы прибавилось! – Теперь он смотрел с детским недоумением. – Или еще такой вот, как его… – продолжал он и запнулся на секунду. – «Рокко и его братья»! Итальянский. После него ведь тоже… Там ведь изнасилование показывают во весь экран! Мерзость, грязь… А зачем, спрашивается? Чтобы подражали? Куда кинопрокат смотрит? У нас такие фильмы вот где сидят! – он похлопал себя по макушке.
В дверь тихо постучали, и в кабинет вошел высокий, сутулый, какой-то очень болезненный, с мешками под глазами, хотя, видимо, нестарый человек.
– Вызывали? – уныло спросил он, и в голосе его была тоска, а в глазах упрек.
– Да! – бодро сказал Шишко. – Вот, из Литературного института товарищ. – Он опять приветливо и ободряюще посмотрел на меня. – Занимается преступностью. Я ему сказал, чтобы он подобрал ребят. Насчет фильмов. Поговори с ним, введи в курс. А ты – обратился он ко мне, – держи со мной связь, звони, если что. Как ребят подберешь, звони. Договорились? Ну, хорошо. Желаю успеха.
Он привстал и, перегнувшись через стол, энергично потряс мою руку. А меня не покидало чувство, что я опять на каком-то странном спектакле.
Мы с Седых вышли из кабинета и направились в дальний конец коридора. Даже в полумраке коридора, даже со спины Седых производил удручающее впечатление. Казалось, его, тяжелобольного, подняли с постели, заставили ходить, что-то делать, и все это может печально закончиться. Особенно разителен был контраст с боевым, полным жизненных сил Шишко.
Кабинет Седых оказался неожиданно маленьким, с каким-то странным узким окном, мне почему-то пришла на ум тюремная камера. Одиночка, потому что здесь едва уместился стол. И два стула.
Мы оба сели, и Седых долго молчал – то ли собирался с мыслями, то ли приходил в себя после утомительного перехода. Надо было, однако же, что-то решать, и он, наконец, поднял на меня свои больные глаза.
– Да, ты еще мало знаешь… – сказал он скорбным голосом и замолк.
Потом собрался с силами и продолжал:
– У нас по Союзу… Это мы говорим, что у нас все в порядке, а на самом-то деле… Не тишь да гладь.
Он опять умолк, тяжело вздохнул, и я не смел нарушить тягостного молчания. Прошло минуты две. Я не знал, что делать, и чувствовал себя неуютно.
– Да, так вот. Знаешь, что надо? – Седых опять тяжело вздохнул, потом достал из стола сигареты и закурил. – Надо бы нам статью, – сказал он, мечтательно глядя в окно и жадно затягиваясь. – Статью нам надо. Или очерк. О фильмах. Вот, например, этот фильм…
– «Великолепная семерка»? – угадал я.
– Точно. О ковбоях который.
Седых кивнул, продолжая смотреть в окно и втягивая в себя дым даже с каким-то свистом.
– И другие, – продолжил он, собравшись с силами. – Другие тоже. Итальянские, например. Этот, как его…
– «Рокко и его братья»? – опять подсказал я.
– Точно. Да и другие в сущности тоже.
Так он курил с минуту, задумчиво глядя в окно. Что он видел там? – стал думать я почему-то. Может быть, перед ним проносились кадры из итальянских фильмов? Или подвиги американских ковбоев все же?
Наконец, Седых положил сигарету на край пепельницы и обратил на меня свой тихий печальный взор. В светлых глазах его было само страдание.
– Понимаешь, это же вредные фильмы. Очень вредные фильмы…
Он тяжело вздохнул, покачал головой и опять задумался. Мне стало передаваться его настроение, я почувствовал, что тоже впадаю в тягостное оцепенение, в этакий транс. Так мы сидели минуты три. Ни один звук не доносился до нас. В огромном здании была полнейшая тишина.
– Напишешь? – спросил вдруг Седых, опять собравшись с силами, а я от неожиданности на этот раз вздрогнул. – Напишешь, а? – страдая, он смотрел мне в глаза. – После «Великолепной семерки» у нас… Преступность выросла, – продолжал он скорбно. – Ты еще не знаешь… Ты еще не знаешь…
И его взор опять погрузился в окно.
Я просто не знал, что делать. Ведь это могло длиться до бесконечности. Я кашлянул и, поерзав, скрипнул стулом. Этот звук вывел инструктора из задумчивости. Седых посмотрел на меня:
– Ну, что?
По глазам его было видно, что он не верит в то, что я соглашусь. Похоже было, что он вообще ни во что не верит, да и мысли его были сейчас неизвестно где.
– Нет, вы знаете, я боюсь, что… – сказал я как-то машинально, совершенно забыв в этот момент, о чем, собственно речь.
Но в глазах, которые смотрели на меня, появилось тотчас же столько отчаяния, столько безнадежной тоски, что в желании хоть чем-то утешить этого человека я добавил:
– Но я поговорю с ребятами в институте. Может быть, кто-нибудь согласится… Обязательно поговорю! Конечно.
– Да? – Седых долго задумчиво смотрел на меня. – Ну, что ж, давай. Ладно. Большое дело сделаешь… Надо работать, надо работать.
Невыразимая грусть звучала в его словах. Стало так жаль его, что я едва удержался, чтобы не потрепать его по плечу и не сказать что-нибудь вроде: «Ничего-ничего, все будет хорошо, старик!» Но на это я, конечно же, не решился и только кивнул машинально и сказал:
– Да-да, обязательно. Постараюсь.
И неожиданно для самого себя повторил за ним автоматически:
– Надо, надо работать…
– Ну, так ты мой телефон запиши, – сказал Седых и посмотрел на меня явно в полной уверенности, что даже если я и запишу его телефон, то все равно не позвоню никогда.
– Вот… – Он взял чистый листок, черкнул на нем что-то и протянул мне. – Звони, если что. Заходи…
Затем он поднялся и протянул на прощанье руку. Она была сухая, холодная. Мельком глянул я на листок, который он дал, и обомлел: цифры невозможно было разобрать…
С тяжелым сердцем вышел я на шумную улицу. Ярко светило солнце, весело проносились автомобили, люди спешили по своим делам. Мимо прошла стайка девушек, они оживленно о чем-то спорили.
Кончался вторник, и я вспомнил, что это был день творческого семинара в институте. Я опять пропустил его – теперь из-за Шишко и Седых. Чье-то чтение назначили в прошлый раз… Но это казалось теперь и вовсе мелким… Правда, на следующий вторник как будто бы назначали чтение мое.
29
На другой день, в десять, как и договорились, я был у Раисы Вениаминовны.
Дедушка Корабельников – у него было редкое имя, Иона Ионович, – оказался высоким лысым стариком с бородкой клинышком и усами – очень похожий на поэта Некрасова. Он сидел на стуле напротив Раисы Вениаминовны – на том самом стуле, на котором вчера сидел я, – и плакал. Как-то странно было смотреть на сильного крупного старика, по щекам, по усам и бороде которого текли обильные слезы. Он всхлипывал, как ребенок.
– Я никогда в жизни так не плакал, ей-богу, – говорил он, оправдываясь, и слезы текли по его лицу. – Войну всю прошел, а не плакал ни разу. Я его любил больше всех на свете, у меня же нет никого больше, кроме него, я один, совсем один, как перст одинокий, – всхлипывал Иона Ионович. – Если бы вы знали, как он рисует, какие у него восхитительные рисунки, я вам могу показать, он же художник, он же моя единственная любовь, гражданин следователь, пожалейте его, ведь у него нет никого, кроме меня, его отец не любит, а Вася отца ненавидит, только я один у него и есть, а он у меня…
Раиса Вениаминовна сидела молча и время от времени поднимала на меня печальные глаза. Наконец, когда дед немного успокоился, она начала задавать вопросы.
– Ну, хорошо, Иона Ионович, а вот ведь у вас в доме появлялись магнитофоны… Ведь появлялись?
– Какие магнитофоны? – старик немедленно выпрямился и переменился в лице. – Какие магнитофоны?
– Ну, хорошо, пожалуйста, вот ведь сам же Вася ваш говорил, что два раза оставлял у вас магнитофоны – в феврале и в марте. Как же вы не обратили на это внимания? Вы ведь, наверное, даже и не спросили, откуда магнитофоны у вашего внука, у вас даже никаких мыслей на этот счет не было, так?
– Спрашивал! Как же, спрашивал! Я его спрашивал. Он мне сказал, что у товарища взял поиграть, а потом вернул, будто.
Старик недоумевающе выпрямился и вытер рукавом слезы.
– Ну, хорошо, – терпеливо продолжала Раиса Вениаминовна. – Первый он вернул. А второй? Второй ведь у вас до последнего дня стоял, до самого Васиного ареста. Почему же вы не расспросили его как следует? Ведь можно было бы раньше все прекратить, и тогда участь вашего Васи была бы легче, и младший бы в эту компанию не попал. Ведь вы же знали, что Вася побывал раз в колонии, ведь вы же мне обещали присматривать за ним – помните наш разговор? Я вам поверила…
Иона Ионович смотрел с непонимающим видом. Он изо всех сил пытался взять в толк, куда это следователь клонит.
– Или вот в ту ночь, 15-го, ваш внук не ночевал дома, – спокойно и мягко продолжала Раиса Вениаминовна. – Вы мне даже сказали, что он всю неделю подряд у вас не ночевал, верно?
– Да, верно. – От мучительного напряжения дед застыл, на лбу его собрались многочисленные складки, рот приоткрылся.
– Ну, вот, про то я и говорю, – тихо продолжала Раиса Вениаминовна. – Всю неделю ваш внук не ночует дома, а у вас даже беспокойства нет…
– Гражданин следователь, но я ведь думал, что он у отца ночует, он ведь и раньше, бывало, у отца ночевал. Я и думал… – Заговорил старик в полном недоумении.
– Ну, хорошо, вы так думали. Но вы бы хоть побеспокоились, позвонили бы вашему сыну, узнали бы, у него Вася или нет. Как же так можно?
При словах «вашему сыну» дедушку передернуло.
– Я его, подлеца, и знать не хочу! – с неожиданной твердостью совсем уже выпрямившись, сказал он. – Это он во всем виноват, и в том, что в первый раз несчастье случилось, это все его вина, он мне не сын, он и меня не уважает, отца родного. Не сын он мне! Это он Васю загубил, подлец. Подлец, негодяй, я его знать не хочу!
Устало вздохнув, Раиса Вениаминовна взглянула на меня. Потом продолжала.
– Ну, хорошо, Иона Ионович, сына своего вы знать не хотите, но о внуке-то своем вы должны были позаботиться, ведь так?
– Должен, – все так же недоумевая, произнес дедушка. И тут же вдруг опять надломился. – Так я… Так я, господи… – Лицо его опять сморщилось, и слезы обильно потекли по щекам. – Господи, какое несчастье, – запричитал он, – не верится, прямо не верится, гражданин следователь, вы простите меня, старого, что я вот тут, ведь я так его любил, так любил, господи, за что же мне наказание такое великое, господи, боже мой… Гражданин следователь, ну передачку-то, передачку-то я хоть смогу ему передать, хоть передачку-то, а? Я вот тут купил ему, может быть, вы передадите, а?
Светлые молящие глаза уставились на следователя, потом на меня, и, видимо, потому, что Раиса Вениаминовна не смотрела на него, писала протокол, а в моих глазах он все-таки прочитал сочувствие, дедушка умоляюще протянул сумку мне, и я просто не мог не взять ее – взял и, не зная, что с ней делать, положил на стол.
– Раиса Вениаминовна, как с этим? – в полной растерянности спросил я.
– Да-да, передадим, передадим, оставьте, – сказала она.
– Молодой человек, сынок! Спасибо! – вскинулся дед и схватил меня за рукав. – Спасибо, ради Христа! Спасибо, гражданин следователь! Хоть передачку-то, сахарку, маслица, господи, несчастье-то какое, какое несчастье, не верится, ну прямо не верится, господи…
– Вот, – сказала Раиса Вениаминовна, когда дедушка Корабельников вышел. – Вася второй раз уже. А дед за ним даже присмотреть не смог. Теперь плачет. А ведь как я его предупреждала, объясняла, как дважды два. Нет! И ведь на пенсии старик, чем он таким особенным занят, скажите? Футбол-хоккей смотреть по телевизору? Жалко, конечно, жалко… Думаете, нам интересно в колонию их запихивать? А ведь подумаешь – сами во всем виноваты. Вы обратили внимание, как он о своем сыне говорил, о Васином отце? Сразу горе побоку! Ненависть взыграла. Не знаю, что у них там с сыном произошло, Васиным отцом, но он просто ненормальный становится, как о нем заговоришь. Как можно с такой ненавистью в сердце жить? Да еще к сыну родному. Не понимаю… Ну, да ладно. А теперь еще на героев посмотрите. Братья-разбойники. Гонора невпроворот! Сейчас главаря вызову, Гаврилова. Фрукт. Такой герой, спасу нет. Дела он себе, видите ли, интересного не нашел, решил шайку сколотить. По музыке, бедный, исстрадался.
Вошел Гаврилов.
На вид ему можно было дать лет девятнадцать-двадцать, хотя на самом деле, как я знал, не было и семнадцати. Высокий – на полголовы выше меня наверняка. Слегка кивнув, он небрежно уселся на стул, развалился, как в кресле, и, положив руку на стол, побарабанил пальцами.
«Ну как?» – взглядом спросила меня Раиса Вениаминовна.
«Ничего себе», – ответил я тоже взглядом.
– Ну, мы с вами, Гаврилов, уже говорили, надо только кое-что уточнить. А вот – товарищ из Горкома комсомола. – она кивнула в мою сторону. – Он хотел бы тоже кое о чем спросить.
Главарь шайки снисходительно посмотрел на меня.
– Тебя зовут как? – спросил я дружески, желая наладить контакт.
– Александр, – многозначительно произнес Гаврилов.
– Так вот, Саша. Зачем вам магнитофоны нужны были, ты объясни? – спросил я.
– Как зачем? Музыку слушать. Хорошую, а не барахло. Интересно.
Я доверительно наклонился к главарю шайки и сказал следующее:
– Понимаешь, в Горкоме думают, как вам помочь. На самом деле помочь. И с музыкой тоже. Ты в этом деле разбираешься. Скажи, что нужно сделать? Какие у тебя предложения? Что бы ты посоветовал?
Гаврилов, совершенно игнорируя меня, по-прежнему барабанил пальцами по столу и смотрел на следователя.
– Раиса Вениаминовна, когда суд, а? – решительно спросил он. – Надоело!
– Ты отвечай на вопросы, Гаврилов! – оборвала его Раиса Вениаминовна. – Отвечай, когда спрашивают!
– Стандартные вопросики, – бросил он небрежно, но все же обратил на меня свой взор.
– Ты чем-нибудь еще занимаешься, кроме учебы? – спросил я. – Увлекаешься чем-нибудь?
– Он футболист, – подсказала Раиса Вениаминовна.
– Да, футболом занимаюсь, – согласился Александр. – Иногда. Да бесполезно все это! – опять не выдержал он. – Разговоры одни!
– У вас еще есть вопросы? – вежливо спросила меня Раиса Вениаминовна.
– Так вот, Саша, – решил я попытаться еще раз. – Я на самом деле спрашиваю, серьезно. Что нужно сделать, чтобы вам магнитофоны не хотелось воровать? Может быть, клуб какой-нибудь? Спортплощадки? Как ты думаешь?
– Да что там клуб, клуб. Бесполезно это все. Пустые слова. Не верю я. Разговорчики у вас одни… Раиса Вениаминовна, ну так когда же суд, а?
Раиса Вениаминовна, не отвечая, выжидающе смотрела на меня.
– Ладно, – сказал я. – Тогда все.
– Суд скоро, Гаврилов, только, боюсь, он тебе радости не много принесет, – с досадой сказала Раиса Вениаминовна. – Иди. Вызову, когда надо будет. Гуцулова позови.
– Ну, как? – спросила она, когда Гаврилов вышел, отвесив напоследок насмешливый церемонный поклон нам обоим. – Фрукт, правда? У него кличка есть – «Псих». Ребята его боятся до смерти. Говорят, он одного парня так избил, что тот едва выжил. А все же не выдал его, и никто не донес. Мы только сейчас узнали.
– А дома как у него?
– Отец районный деятель, крупный, я его несколько раз вызывала. Не явился пока. А мать, по-моему, сама своего сына боится… Вы спрашиваете, отчего преступления. Так он же ведь, Гаврилов этот, никого, кроме себя самого, «в упор не видит» – так они выражаются. И это при том, что в школе неплохим учеником считается. Разглагольствовать он умеет! Да и способности есть – от природы даны. Английский знает – папаша научил. А за душой ничего нет, вместо сердца – пустое место. Кому он нужен, его английский? Родители избаловали. Единственный сынок ненаглядный. «Сашенька, бери то, Сашенька, возьми это, Сашенька, чего ты еще хочешь?»… А про душу Сашенькину забыли. И теперь вот ненаглядный в тюрьме окажется. Догляделись! Думаете, такого жалко? Такому поработать – одно лекарство. Но он ведь, негодяй, и в колонии приспособится, да еще папаша поможет. Еще не знаю, будет ли колония – папаша-то из больно влиятельных. Грозил уже мне по телефону, вежливо, так сказать, намекал. «А Вы, говорит, давно в этой должности работаете? А непосредственный начальник у Вас кто? А Вы, между прочим, учитываете, что у моего сына хорошие оценки в школе, что он в первый раз? Что же до материальной стороны, то я в дар школе японский магнитофон презентую…» «Материальной стороны»! Кроме этой стороны, он, похоже, ничего и не видит. Вот и сынок его такой же. Его – в тюрьму и по-настоящему надо! Чтобы прочувствовал. А еще лучше – в тайгу, на лесоповал. Вот и понял бы, почем фунт лиха… Сейчас Гуцулов придет, обратите внимание. Не ему чета. Земля и небо, совсем другой парень. Вот за кого обидно…
Вошел худенький темноволосый парнишка. На его лице застыло выражение тревожной внимательности. Он вежливо поздоровался и осторожно сел, когда Раиса Вениаминовна ему предложила.
– Вот, Олег, это товарищ из Горкома комсомола, он хотел бы с тобой поговорить, – сказала Раиса Вениаминовна, ободряюще глядя на него. – Расскажи, как было. Почему ты пошел с Гавриловым? Ведь ты сам сказал, что раскаивался потом и больше не ходил с ним ни разу – вы даже поссорились, по-моему, да? И почему ты не отнес магнитофон в милицию или обратно в Красный уголок – ведь он целую неделю лежал в сарае и ржавел? Ты же ведь все равно не взял его к себе домой.
– Это было бы предательством, – серьезно и тихо сказал Гуцулов. – Я предателем никогда не буду.
– Ну какое же это предательство, дурачок? Ну, ладно, хорошо. А почему ты в первый раз пошел с Гавриловым, зачем тебе было нужно?
– Не мог не пойти. Мы дружили. Он мой товарищ был.
– Ну вот, видите, – вздохнув, сказала Раиса Вениаминовна, обращаясь ко мне. – Хорош товарищ!
– Олег, а ты вдвоем с мамой живешь? – спросил я своего тезку.
– Да. – Тот встрепенулся и всем телом повернулся ко мне. – А что?
– Почему ты не учишься?
– Учился…
– Ну, а тебе нравится эта специальность, по честному?
– По честному, нет.
– Он в Морское училище мечтал поступить, – вставила Раиса Вениаминовна.
– Ну, и что же? – спросил я.
– Так. Не получилось. – Он потупился. Руки его никак не оставались в покое.
– Значит, ты сейчас не работаешь и не учишься, так?
– Так.
– А ты пробовал устроиться на работу?
Гуцулов презрительно фыркнул:
– Сколько раз!
– Не берут?
– Не берут.
– А ты на самом деле хотел бы работать где-нибудь? Тебе это сейчас особенно нужно, ты ведь понимаешь.
– Да, Олег, – подтвердила Раиса Вениаминовна. – Тебе это обязательно нужно сейчас, до суда. А то ведь неизвестно, как повернется.
– Я знаю, Раиса Вениаминовна, – серьезно согласился Гуцулов.
– Слушай, я постараюсь тебе помочь, – сказал вдруг я, вспомнив о Варфоломееве и Силине. – У меня есть знакомые в райкоме комсомола, не знаю, конечно, в их ли это возможностях, но если в их – они сделают. Я им позвоню.
Раиса Вениаминовна просияла:
– Ну, вот видишь, Олег… Спасибо Вам большое. Жалко парня. Попробуйте, может, они сделают что-нибудь. У Вас, может быть, еще вопросы есть?
– Нет-нет, позвоню в райком, тогда уж и…
– Ну, иди, Олег, смотри только осторожнее, понял? Не натвори чего-нибудь…
Выходя, Гуцулов посмотрел на меня. Я тоже смотрел на него, на своего тезку. Он мне нравился. Ему нужна помощь. Необходима. Получится ли? Он, очевидно, видел уже во мне своего защитника.
Покинув кабинет Раисы Вениаминовны, я тотчас позвонил Силину. И попросил за Гуцулова.
– Он из какого района? – озабоченно спросил Силин.
И тут только я понял.
– Кажется, из другого, – сказал, уже все предвидя.
– Плохо, если так, – вздохнул Силин. – Мы попробуем, конечно, но твердо ничего обещать не могу. Варфоломеев придет, я ему расскажу. Позвоните вечером или завтра, ладно? Как фамилия этого паренька? Записываю…
Опять был яркий солнечный день. Просто великолепный. Я сел на лавочку у остановки автобуса. Что же, что же делать? Идут вокруг люди. Каждый со своим миром, со своей болью …
Я сидел на лавочке и мучительно соображал, что могу сделать сегодня еще.
30
– Сейчас пройдем в комнату воспитателей, – сказал Сергей Сергеевич Мерцалов, – там и поговорим, они знают, что вы пришли, а потом я вызову вам, кого захотите. А хотите – прямо в камеры. В общем, смотрите сами. Хорошо, что вы пришли, мы уже давно говорили и писали, и – ничего. У нас уже лет двадцать не было ни одного корреспондента, а, может, и больше, я так вообще не помню. Вы от какого журнала? От молодежного? Ага, понятно. Знаете, жалко ребят. Вы думаете, нам самим приятно все это? Есть, конечно, отпетые, а так все несмышленыши, им лет по шестнадцать-семнадцать, а туда же… Два-три года в колонии – вот вам и школа, они сами так и говорят, что школу проходят: двухлетку, трехлетку, семилетку. А после уже все, дело дрянь… Ну, вы сейчас сами посмотрите. Вот, сюда заходите…
– Здравствуйте.
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
– Садитесь, пожалуйста, вот, сюда можно, за этот стол… Вот, товарищи, это журналист. Из журнала. И от Горкома комсомола тоже. Знакомьтесь.
– Ого, наконец-то! Спохватились-таки. Мы уже вас столько лет ждем! Статью писать будете? Нет? Очерк? Ага, ну все равно. Наконец-то, побеспокоились…
– Слушай, брось ты трепотню. Знаете, вы о чем напишите? Напишите, во-первых, что больше надо присылать корреспондентов, не стесняться и не бояться писать больше. Чего мы боимся? Америки, что ль? Так у них же у самих…
– У них у самих черт знает что делается!
– Да, вот именно, у них у самих…
– Да и у нас тоже, будь здоров!
– Так тем более, черт с ней, с Америкой, сколько на нее оглядываться будем? Надо у себя порядок наводить, а то скрываем, молчим все, а толку что? Знаете, что преступность за последние годы выросла? Она падать должна, а она растет, порядок это, нет? А нас так даже никто не спросит, нам, вот, приказ по должности: воспитывай! Сначала доведут парня до того, что он набедокурит невпроворот, а потом: воспитывай! Надо сразу воспитывать, с самого начала. Макаренко как говорил?…
Это был мой первый день в тюрьме, в так называемом «Детском приемнике» – для «несовершеннолетних правонарушителей».
Алик Амелин договорился с заместителем начальника тюрьмы подполковником Чириковым, и тот сказал, что я могу идти тотчас. «Захвати с собой паспорт и на всякий случай предупреди родных, понял? Ха-ха!» – весело подшучивал Алик.
Я позвонил Чирикову, и мы договорились.
Ах, какая же чудесная погода стояла в те дни конца апреля! Солнце вовсю хозяйничало на небе, снег окончательно стаял, улицы поливали каждую ночь, и пыли было мало, особенно по утрам. Я ехал в метро, потом на трамвае, вышел на улицу со странным названием «Матросская тишина», не сразу нашел тюрьму – все спрашивал, смущаясь: «Вы не скажете, где здесь тюрьма? Тюрьма где здесь?» И казалось, что и окрестные улицы, и люди, которые здесь живут, и просто прохожие обязательно носят отпечаток этого мрачного места.
Однако место оказалось совсем обычным на вид – обыкновенная улица. Правда, высокий кирпичный забор. И все же я подумал: вот если бы не знал о тюрьме, то, проходя случайно по этой улице, почувствовал бы?
Приближаясь к проходной – унылое серое здание и окна с решетками, но, вообще-то говоря, ничего особенного, а тем более жуткого… – я встретил женщину с опухшим лицом и красными глазами. От слез? Но когда спросил у нее, сюда ли иду, где проходная тюрьмы, она как-то очень бойко и даже весело ответила, что да, мол, сюда я иду, правильно, а проходная – вон те двери. Она даже развеселилась как будто бы и добавила с сердечностью:
– Вон звоночек, видите? Звонить нужно, часовой и выйдет, – сказала так, как будто бы объясняла, как войти в магазин.
Я позвонил, часовой вышел не сразу, но все же вышел, спросил, что нужно. Я сказал, что к Чирикову, тот обещал выяснить и скрылся. Я остался у дверей снаружи.
Честно говоря, было как-то неловко стоять на улице у проходной тюрьмы – казалось, что прохожие с особенным интересом разглядывают меня и, конечно же, ищут на моем лице печать горя, и, может быть сочувственно думают: «Кто у него? отец? брат?» И потому я как-то невольно старался делать очень бодрый, независимый, свободный вид, словно подчеркивая, что я не на свиданье, нет, я журналист, мне очерк писать… Глупость, конечно, а ничего не поделаешь – тюрьма это тюрьма.
Наконец, часовой распахнул дверь, велел войти, сказал, что позвонит сейчас Чирикову, и я должен буду с ним говорить. Он набрал номер, потом передал трубку мне, я услышал знакомый уже, приветливый голос Чирикова, назвался, он узнал меня и сказал, чтобы я подождал. Он пришлет за мной.
– Паспорт есть у вас? – строго спросил часовой.
Я протянул паспорт с внезапным ужасом от промелькнувшей нелепой мысли: ну как он спросит, где я работаю – ведь я «тунеядец»? Хорошо, что хоть не сам созванивался с Чириковым, хорошо, что хоть Алик знает, вступится, если что…
В тесное помещение проходной вошла женщина в синем халате, очень похожем на халат институтского лаборанта. На ее лице был заметный шрам.
– Вы к Чирикову? – деловито обратилась она ко мне.
– Да.
– Пойдемте.
Мы вышли из проходной и зашагали по длинному коридору. Я оглядывался тайком, искал двери камер, решетки, но коридор был обычный, учрежденческий. Встретилось несколько совершенно обыкновенных людей в штатском. «Напоминает заводоуправление», – подумал я.
Раза два споткнулся, идя вслед за женщиной в синем халате, и даже здесь, в коридоре, по инерции делал свободный, независимый вид: я, мол, не заключенный, а журналист, я по своей воле, мне очерк писать… Но никто из проходящих, кажется, не обращал на меня внимания.
И тут я ощутил слабый, едва уловимый запах дезинфекции. Хлорки, или карболки. Хотя такой запах стоит во многих учрежденческих коридорах, но я счел это первым признаком места, в котором находился впервые в жизни.
Миновали какую-то дверь, пошли по новому коридору. По стенам коридора тоже были все двери, одна из них приоткрыта. На ходу я заглянул в темную щель и вздрогнул, увидев в полутьме экран и стриженые головы. И догадался тотчас: ОНИ смотрят кино.
Наконец, перед нами – большая дверь-решетка из толстых железных прутьев. Провожатая спокойно вытащила из кармана огромный ключ, сунула его в замочную скважину и повернула. Дверь со скрежетом отворилась, мы оба шагнули вперед, женщина обернулась и заперла дверь. Теперь – за нами.
Каменный маленький дворик – как в церквях или в монастырях, – каменные серые стены с маленькими зарешеченными окнами со всех четырех сторон. Наверху – небо, но оно действительно далеко и даже какое-то ненастоящее, а солнечные лучи здесь, кажется, – не солнце, а просто ослепительный белый свет.
Миновали дворик, опять вошли в какую-то дверь, поднялись по лестнице.