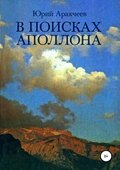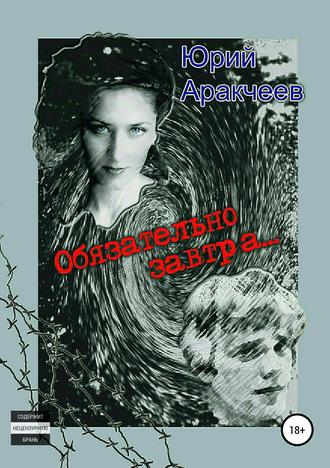
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Началось с того, что кто-то похвалился, что у него «уже растут волосы». Естественно, начали интересоваться: а у всех ли растут? Не отстал ли кто в развитии? Ведь так интересно удостовериться в «полноценности» или «неполноценности» другого, особенно если ты убежден, что сам-то ты «полноценен»! Был у нас в классе один парнишка – тихоня, маменькин сынок, очень женственный, говоривший писклявым голосом. Да еще и отличник. Разумеется, мучительно интересно узнать: а у него растут ли? Вопросы «по-хорошему», естественно, ввергали его в краску, ярко выраженное чувство неловкости, а это – еще более распаляло… Кончилось тем, что решили «проверить». Разумеется, для этого пришлось применить силу… Каково же было удивление семиклассников, когда оказалось, что у этого отличника, этого тихони, этого писклявого маменькиного сынка – тоже растут и даже – «густые и длинные, хотя и рыжие, правда…» Эта новость долгое время очень занимала класс, и тем, кто в это не верил, хотелось удостовериться самим. Что они и делали. Отличник пищал и отбивался, однако бесполезно – и когда новые исследователи удостоверялись, что да, растут, то его, отличника, даже уважали.
Меня эта классная кампания почему-то миновала – хотя я тоже был отличником, но считался вполне развитым в некоторых вопросах (что совершенно не соответствовало истине), а потому как-то молчаливо, без проверки, признано было, что у меня наверняка растут. Когда общая статистическая картина класса оказалась ясной, этот вопрос стал получать, так сказать, перспективное развитие. Класс был одним из двух старших, ведущих (до первого выпуска школа была неполной средней и «мужской») – рисковать с «проверкой» параллельного класса было слишком опасно, и наиболее ретивые «исследователи» решили заняться младшеклассниками… Ну, ведь вот интересно: а как, например, в шестом классе? Уже или еще нет? Ребят ловили на переменах и раскладывали на классном учительском столе… Иногда проверки разнообразили тем, что «метили» проверенных фиолетовыми чернилами. Эта операция и получила, в конце концов, не совсем понятное, но услышанное где-то название – «кастрировать»…
К счастью, кампания не приняла все-таки массового характера, не всем она нравилась, вызывала отвращение и у меня. В конце концов, опираясь на молчаливую поддержку многих, самый сильный парень из класса – Сейфуллин – однажды крепко стукнул пылкого «исследователя», после чего интерес к исследованиям быстро иссяк. В нашем классе. Но не в параллельном. Там некоторое время они еще продолжались.
В коммунальной квартире, где я жил, в соседней комнате обитал ученик из параллельного класса – Сева, – и мы с ним были почти друзьями. К Севе часто приходил его одноклассник Толян – худой, подвижной, крикливый и хлипкий парнишка с широко распахнутыми голубыми глазами, в которых светилась нерассуждающая, радостная готовность к чему угодно. Был он в своей искренней открытости и живости даже по-своему симпатичен. Однажды днем, после школы, как это часто бывало, я зашел к Севе просто так. У него был Толян, еще один парень из параллельного класса, Борька, по прозвищу Баран, и Сашка, сосед с первого этажа, который считался моим закадычным приятелем и обычно торчал у меня, а тут почему-то зашел не сразу ко мне, а к Севе. Я в общем-то любил Сашку, но ужасно раздражала его унылая навязчивость (придет – и сидит, придет – и сидит…) и некоторая хамоватость, соединенная с самоуверенностью и «непрошибаемостью». За неприятие последнего Сашка при всей своей верности, даже преданности мне, таил, как я понял потом, тупую, инстинктивную, не понимаемую, скорее всего, им самим, обиду.
Я вошел. Их было четверо.
О чем-то перед этим они говорили, я своим появлением прервал разговор, они затихли вдруг, и я почувствовал, что разговор был, видимо, обо мне, но не придал значения. Как ни в чем не бывало, я прошел несколько шагов и оказался около дивана.
– Давайте Олега «кастрируем»? – сказал вдруг, поводя своими радостными голубыми глазами, Толян.
Я и оглянуться не успел, как на меня бросился со смехом Борька-Баран, за ним – Сашка. Сева повалил меня на диван, больно подвернув руку и сел на нее. Борька-Баран держал другую руку, Сашка, мой закадычный приятель Сашка, мертвой хваткой вцепился в ноги, а Толян бойко принялся расстегивать ремень моих штанов.
Они все хохотали, только Сашка кряхтел, отчаянно удерживая непослушные мои ноги, орали весело, и в общем-то во всем этом не было, конечно, ничего страшного, как будто бы, я, разумеется, мог не опасаться за свою полноценность после их проверки, но другое, другое молнией сверлило мой мозг: «Сашка, мой закадычный друг общепризнанный, что же ты так силишься, бедный – ведь меня оскорбляют, и ты понимаешь это, я чувствую, так что же ты меня предаешь! А ты, Сева, я же зашел к тебе, как к другу, я же знаю, что ты сам не любишь этих «проверок», что же ты помогаешь им, что же ты руку мою правую держишь, сел на нее!…»
Какое-то время мне удавалось сопротивляться, но – недолгое. Они, разумеется, не вспомнили о чернилах, они даже – когда я внезапно перестал сопротивляться – посмотрели мне в лицо почему-то настороженно, и Сева приподнялся с моей руки – только Сашка, не глядя в лицо друга, с тупым упорством держал мои ноги, покраснел от натуги, бедняга. Но Толян, этот веселый затейник, стянул-таки с меня штаны и трусы…
– Ну, что? – сказал я спокойно. – Удостоверились? Довольны?
Странно. Именно спокойствие подействовало на них. Они как-то вдруг сникли все. И расползлись. Последним разжал свои руки Сашка…
Я встал. Привел себя в порядок. Потом сел.
– Ну, что? – повторил. – Довольны?
Они молчали. Даже Толян. И были, похоже, смущены.
Вдруг Сева неестественно засмеялся и сказал:
– Ладно, чего там. Всех «кастрировали». Подумаешь, оторвали что ли…
Захохотал во все горло Толян.
И тут во мне началось. «Вы же… Это же издевательство, насилие! Вы же не понимаете! – чуть не закричал я. – Вы же… Уродуете все равно! Как же вы это не понимаете! Достоинство разрушаете вы, скоты…» Во мне все рвалось, я не от обиды, от поразительной мысли этой дрожал. Я вспомнил тотчас многочисленные подобные сценки, свидетелем которых был. Довольно-таки равнодушным свидетелем, увы…
Но я молчал и теперь. Я слова не мог сказать, дыханье перехватило – я ПОНИМАЛ, что говорить им БЕСПОЛЕЗНО. Слова толпились в воображении, но я не в состоянии был – язык не слушался! Ах, если бы было хоть чуть меньше негодования, эмоций, меньше слепой, нерассуждающей ярости, а больше понимания – ПОНИМАНИЯ! – если бы я хоть отчасти, хоть чуть-чуть сохранил хладнокровие! Но не мог, не мог… Дать по морде и Толяну, и Сашке? Сашке – вот главное, по морде «преданной»! Ну, пусть даже не по морде, а просто поссориться отчаянно, показав хоть этим… Или… Ведь не понимали они, не ведали, что творят! Объяснить? НО КАК?
Но где уж. Беспомощность сковала меня тогда. Беспомощность понимания. Уже тогда…. Понимание того, что они не поймут! Они ведь искренне не считали то, что делали, плохим. Подумаешь! Что такого? Ведь и правда не оторвали, не мазали чернилами. Что такого? Какое еще достоинство? Причем тут? Так, подурачились.
И потом… Сдержанным надо быть – это я уже тогда понимал тоже! Сдержанным и разумным! Не так ведь все просто. Люди не понимают многого, и если каждый раз возмущаться и раздражаться на всякую мелочь… Подумай сначала, взвесь, иначе наделаешь непоправимых ошибок. Многого, многого не понимали мы все тогда, а главное: что это такое – достоинство человеческое? Да, вот беда, путались с этим понятием! С одной стороны… С другой стороны… Ведь что самое-самое первое в жизни? Цель! «Ясность цели, настойчивость в достижении цели…» – вот ведь какими словами жили. О средствах ничего не было сказано в том изречении, и как-то само собой подразумевалось, что средства – любые. Достоинство вообще-то как бы и не при чем. «Ясность цели, настойчивость в деле достижения цели» – ведь это сказано тем, кто дороже отца родного, лучший друг каждого, Мудрейший, Гениальнейший, Отец Всех Народов! Что это еще за абстрактное понятие – достоинство? Достоинство одно у нас – классовое. Полезное для пролетарского дела – для Революции! И ведь так часто «буржуазные» понятия «достоинства, чести» мешали достижению цели! На уроках литературы, к примеру, как же издевались некоторые учителя над «ложным» понятием «чести» у «классовых» врагов! Если, к примеру, офицер «белой» армии, или какой-нибудь фабрикант, помещик говорил о любви к Родине, то это считалось ложью в его устах, потому что не могло быть понятия патриотизма «вне класса». Если говорил о патриотизме или еще о чем-нибудь возвышенном представитель «не нашего» класса, то верить ему, конечно, было нельзя. Расстреливали таких, судя по книгам и учебникам, безоговорочно, как бы они ни оправдывались. И понятие совести, чести, естественно, было каким-то сдвинутым. Ведь нет же человеческой личности ВООБЩЕ, внушали всем. Есть другая – «классовая». То есть подчиненная ЦЕЛИ! И поэтому получается, что нельзя ни в коем случае верить совести тех, кто не принадлежит «нашему классу». И не разделяет нашей цели. И – наоборот: безоговорочно справедлива совесть наших братьев по классу – тех, кто якобы идет с нами к той же самой цели. А значит… Что бы ни делали наши – все правильно почти всегда. Даже если воруют наши – они все равно «социально близкие», не то, что «не наши»…
Интересно, что уже тогда было известно отношение Ленина к моему любимому писателю – Джеку Лондону. Читал я, что Крупская вспоминала, как восхищался Ильич рассказом «Любовь к жизни», где человек пытается ВЫЖИТЬ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО. И как, ровно наоборот, смеялся великий вождь над тем, как в другом рассказе Лондона капитан жертвует своей жизнью, чтобы выполнить данное кому-то слово. «Засмеялся Ильич и махнул рукой…» – вспоминала Крупская. То есть – подумаешь, дал слово капиталисту…
Так что пудрили нам мозги – будь здоров! Порой не меньше ничуть, чем теперь…
«Ну, и что, собственно, такого? – думал я тогда, уже несколько мгновений спустя после «кастрации». – Обыкновенная детская игра, ничего страшного. Правильно сказал Сева: чего там. Действительно: что случилось? Толян, конечно, подонок, гад, а вернее – дурак. Социально близкий – не ведает, что творит. Сашка? Сашка – предатель, это уж точно. Но ведь и он не понимает, бедолага, это же видно. С ним потом разберемся. Да и какое это предательство, собственно – подумаешь…»
Слыхали мы уже тогда, будто немецкие фашисты евреев «кастрировали». Но ведь то – по-настоящему. А у нас – игра, только и всего. Какое еще «достоинство»? Посмотрели, потрогали… Не оторвали ведь, даже не дергали.
И через полчаса мы уже, как ни в чем не бывало, ехали вместе куда-то.
И ведь вовсе не потеряли тогда ребята уважения ко мне. Скорее, наоборот. Во-первых, у меня, конечно же росли. А во-вторых, думаю, благодарны были они мне за то, что я их в их искреннем непонимании понял. И простил.
36
Но это не все, разумеется. Вот еще, вот, например. Сенатов! Такая, кажется, фамилия была у паренька, который учился в одном классе со мной – задолго до «кастрации» это было, классе в четвертом. Не многое помнил я из того времени, но точно то, что семья у Сенатова была, что называется «неблагополучная крайне»: отец погиб на войне, отчим сидел, мать, кажется, только что вернулась из заключения и пила по-черному, старший брат тоже сидел, а младший и был тот самый Сенатов.
В чем только он ни был замешан! Но помнится теперь, что было некое развлечение у «шпаны», к которой как раз и принадлежал Сенатов: брали большую гильзу от патрона, загоняли туда капсюль, а потом, наставив донышко гильзы с капсюлем на «противника», били по капсюлю изнутри специально встроенным бойком на резинке. Капсюль взрывался и пулей вылетал из гнезда туда, куда его направлял хозяин гильзы. А направлял его Сенатов – он был у них главный стрелок, – как правило, в лицо «противнику». Кто-то уже попал из-за него в больницу, но почему-то Сенатов гулял на свободе – потому, может быть, что тюрьмы в те времена были весьма переполнены и не только такими, как он, «социально близкими», но и «врагами народа». Не справлялись, видимо, с большой нагрузкой суды, да и доказать не все всегда просто. Из школы, правда, Сенатова скоро исключили, но он со своими дружками наводил ужас на окрестные дворы. Довелось однажды столкнуться с Сенатовым и мне.
Смутно помню подробности, в памяти осталась лишь суть. А суть в том, что однажды на моих глазах компания Сенатова напала на младшеклассника, который ничего плохого никому не сделал, а просто Сенатову, очевидно, нужен был очередной «противник». И Сенатов выстрелил ему капсюлем в лицо. Младшеклассник, закрыв руками лицо, закричал, а я в порыве подошел к Сенатову и что-то этакое сказал ему. Надо сказать, что меня Сенатов никогда до того момента не трогал и, кажется, даже слегка уважал за то, во-первых, что матери у меня не было, а отец на фронте, а во-вторых за то, что я, хоть и отличником был, но не был зубрилой.
И совершенно уверенный, что он не тронет меня и сейчас, не думая, я смело подошел к нему и сказал что-то вроде: «Он же ничего не сделал тебе. Зачем же ты…» Но ни слова не говоря, Сенатов нацелил тогда на меня донышко гильзы – не куда-нибудь, а в лицо, в глаза. Подсознательно чувствуя, что самое страшное сейчас – показать свой страх, я с трудом оторвал глаза от капсюля, посмотрел на Сенатова, прямо ему в глаза… Но увидел такую слепую ненависть, такую непроницаемость серых кружочков с точками черных зрачков, что понял: выстрелит.
– А ты, сиротка, не лезь, когда не спрашивают, – сказал Сенатов, тоже ведь, между прочим, фактически сирота.
И выстрелил. Правда, попал не в глаз, а в губу. Хотя целил в глаза и промахнулся только потому, наверное, что его толкнул его же приятель, который хорошо относился ко мне. Тот же приятель потом и увел Сенатова. Губа сильно болела, и слава Богу, что он не попал в глаз.
Разные были у меня чувства, естественно. Но хорошо помню, что при всем при этом я все равно Сенатова тогда… жалел! Дело в том, что перед тем был однажды у Сенатова дома и видел, как страшно они живут.
Странным может кому-нибудь показаться, но Сенатов после извинился передо мной. Может быть, его уговорили ребята, которые были тогда с ним? Не знаю…
Но еще, и еще вспоминалось теперь… Сон. Сон о будущем. Этакое страстно желаемое… Напечатали, напечатали, наконец, – во сне! – рассказы мои в каком-то журнале! И вот на большом торжественном собрании большой какой-то начальник (Большое Лицо…) приветственно жмет мне руку, говорит одобряющие какие-то, хвалебные слова, а я млею от радости и от счастья просыпаюсь даже… Но чувствую в себе тотчас не только радость, а и стыд… Большое лицо!
Ну как, ну как в путанице всей этой было разобраться? Что было делать мне с очерком, с Лорой, с ребятами, с Алексеевым, как поступать? Как быть, если я понял проблему по-своему, а Алексеев понимал ее, видимо, по-другому и не очень важно было ему, что думаю я, считал он меня исполнителем подневольным, хотя поручил очерк не кому-нибудь, а мне, и очерк ПРОБЛЕМНЫЙ! Неужели ему, Алексееву, было все равно, что думает молодой журналист, а важно было то, что приказывает начальство? Но тогда зачем же он мне «Семью Тибо» рекомендовал? Ведь там – по-моему, а не по его… Вот она, путаница!
Ну, да, он, Алексеев, хотел как лучше, и он считал, что знает как лучше – это его работа в журнале, он заведует отделом и хочет не только выслужиться, а и чтобы очерк мой напечатали – обо мне тоже думает! Но… Ведь очерк буду я писать, у меня, может, свой взгляд на проблему. Как же можно заранее отвергать его? Неужели не ясно, что и здесь ведь как раз о достоинстве моем человеческом речь!
Вот что самое отвратительное, думал я. Подчинение! Обязательное, подчинение начальству. Фактически БЕЗОГОВОРОЧНОЕ. «Ты начальник – я дурак». И разве не всегда в России было ТО ЖЕ САМОЕ? А теперь?
Да, верно, у нас теперь воцарился принцип: начальство не ошибается никогда. Да раньше он воцарился, раньше! При Царях-батюшках, Помазанниках Божьих разве не так было? А при Генсеках теперь? Он один всеведущий и умный, а все остальные – холопы…
Испокон веков было это в России. Это и губило людей всегда – как ни странно, может быть, но я ощущал это с малых лет. Позже прочитал в Евангелии, что первая и главная Заповедь Христа – «Не сотвори себе кумира, кроме Бога». Но разве хоть кто-нибудь из нас в России этому следует?
Тут-то и вспоминается почему-то Силаков, последний из заключенных, которых видел тогда в тюрьме.
Он, Силаков, НЕ ПОНИМАЛ что делает, вот в чем дело! Он на самом деле в отчаянье был, на него свалилось, он был в панике… Метался он в боли и страхе… Да, виноват он, да, надо его судить. Но если уж суд, то – объясните! Разберитесь судьи, помогите понять, в чем виноват, а иначе… Вот и с «марксистом» Семеновым, который украл голубей. Никто из ребят не считал приговор ему справедливым. Никто! О каком же воспитании, о какой профилактике преступлений могла идти речь, если судьи жестоки и сами не в состоянии объяснить, а пытаются только мстить? Добивать несчастного? Растоптать совсем? Расстрелять или изолировать как неполноценного?
– Первый раз шесть лет назад было, по 117-й, попытка изнасилования, – говорил семнадцатилетний парень Силаков в полнейшем отчаянье. – Я понимаю, плохо поступил, но ведь маленький был совсем, большие ребята с собой притащили, заставили то же делать, что и они, ну и самому захотелось попробовать, я же не понимал ничего, дурак был, понимаю, вот и…
– А второй раз за что?
– Колесо от машины украл. Я виноват, правильно, я знаю, я потом понял, в колонии. Меня в тот раз правильно посадили, – я и правда не понимал раньше, это даже хорошо, что посадили, я понял. Я работал хорошо, чтобы исправиться, я самого себя грыз, я бы тогда и на волю, наверное, не пошел бы, если бы отпустили.
– На сколько же тебя во второй раз упекли?
– Три года восемь месяцев. Но я не сидел столько, меня выпустили раньше, они видели, что я понял. Я теперь работал уже хорошо, на курсы шоферов поступил, меня на работу сначала не брали, но тетя такая хорошая в отделе кадров попалась, поверила, а с ней спорили, а она за меня поручилась, мне-то ладно тюряга, мне перед ней стыдно! Я же ведь из дома боялся выходить, все время дома после работы сидел, боялся, как бы чего, а с колесом, я правда ничего не понимал, и в мыслях не было. Не знаю, как получилось…
– За что же тебя теперь судят?
– За баллон. Да машину, будто, угнал. Да не хотел я угонять. Не знаю, как получилось…
– Дома как у тебя? Отец-мать есть?
– Отец есть, матери нет, умерла, я старший, отцу помогал всегда, у нас ведь трое еще в семье…
Виноват? Виноват, наверное, но… Так жизнь сложилась, так навалилось все, куда ж тут…
Виновата ли та девушка из сна, которая металась в кругу парней, виноват ли тот несчастный котенок?
А Лора? Пусть даже то, что говорил о ней Антон – правда… Могла ли, в состоянии ли была она противостоять? Ведь девушка и – красивая! И никто не научил… А Жак Тибо у Дю Гара? Виноваты ли ребята в тюрьме – укравшие, избившие, или, как Ивлев, убившие? Виноваты, конечно. Но… Каждый из нас наверняка виноват в чем-то, вольно или невольно…
А сам Антон? «Кто без греха, пусть первым бросит камень…». Судить? Да, наверное. Но как? Ведь виноваты – по-разному.
Прочитанное, прочувствованное, пережитое слилось в горячий, мучительный сгусток, клокотало во мне. Я должен, должен, должен… Но – ЧТО? Но – КАК?
37
– Здравствуйте, здравствуйте, Бронислава Павловна. Да, все в порядке. Ничего… А Вы? Как Ваше здоровье? Да, да… Ну, ничего, теперь ведь весна, лето вот-вот, теперь легче… Нет, пока ничего не печатают. Обещают, но вы ведь знаете, как это. А сейчас вот поручили очерк о малолетних преступниках… Да, интересно, конечно, очень. По милициям, по тюрьмам езжу, вчера вот только в тюрьме был. Да, да, но как-то все очень обычно. Буднично, так скажем… Люся Яковлевна, здравствуйте! Ничего, все в порядке, спасибо. Самые хлопоты у вас, да? Ну, все будет хорошо, у вас всегда такие отличные праздники…
В половине двенадцатого кончится, полчаса-час еще чтобы поодиночке перефотографировать – половина первого… До четырех Ваничкиной позвонить… И – в Куйбышевскую прокуратуру тоже. За Силакова. Либо на завтра, либо… Вдруг еще сегодня вечером успею?
– Да-да, проходите пожалуйста, но только здесь нельзя стоять, здесь дети пойдут. Вон туда пройдите пожалуйста, туда можно… Осторожней, осторожней, дети пошли, пройти им разрешите…
Так, не забыть диафрагму правильно поставить, выдержку… Здорово все-таки идут ребята, приятно смотреть – настоящий праздник! У Люси Яковлевны всегда здорово, чувствуется талант, и дети ведь так раскованно держатся! Эх, если бы я в таком детском саду был тогда, совсем другое дело, не было бы этой проклятой застенчивости, жалкости, черт бы ее побрал! Вон ведь как шагают смело, никакого стеснения ложного, никакой скованности, да, конечно, это Люси Яковлевны заслуга, повезло ребятам, да и время, конечно уже не то, все-таки не «культ личности», глупое какое понятие все-таки, звучит забавно: «культ» – это как культя, то есть инвалидность, ампутация чего-то – ампутация достоинства, что ли. Но и без личности как же? Люся Яковлевна – личность, потому и… В том-то и дело, чтобы не одна единственная личность, давящая всех, а – среди многих других… И – творящая, а не просто так. Не давящая. Все личности должны быть, все! Раскованность в рамках – вот и разгадка! Начались мои вспышки, они отвлекаются, но слегка – привыкли уже, им не до того, какое красивое действо, самим ведь нравится, в том-то и суть! Тем и красиво, что настоящий праздник – не Актив, не заседание, а чистая радость, чистая! Если не она, то зачем же, простите, тогда вообще все? Ради Плана, что ли? Ради Большого Лица? Вот и мстит природа – мало радости у нас. Это и есть – культ… Вон девочка какая хорошенькая и так уверенно, смело идет, загляденье просто – красота и свобода! – да и другие тоже, но что потом с ними будет, не убьют ли напрочь, не в моде что-то у нас женская да и всякая красота! Женские руки, женский труд – это да, это конечно для… А красота как же? Это же главное, если нет ее, то зачем все?… Да, в Куйбышевскую может быть успею до праздников, насчет Силакова, а еще к Грушиной-Ваничкиной, хотя снова праздники, в другом саду и печать, печать фотографий… В тюрьму еще раз в первых числах, Чирикову позвонить обязательно. И с Виталием и Жанной на праздники за город… Договорились… Вот это построение надо сфотографировать, великолепно, еще раз, а все же никак не отделаюсь от страха, вдруг где-то здесь инспектор ОБХСС переодетый, мало ли, что тогда? «У вас удостоверение есть?» – бумажка, им бы бумажку! Вот хороший кадр, много лиц сразу… Ах, как же танцуют здорово! Позвонить Лоре? Даже не знаю, как лучше, паника, у меня просто паника, оно и понятно, только настроился и вот, да еще Антон… Кончилась пленка, быстрее перезарядить, сейчас еще пляска будет, самые хорошие кадры, мальчики с девочками… Да, здорово, женственность у девочек уже, очень рано, ах, природа, как же могло быть все здорово, так портим все… Думаем одно, говорим другое, делаем третье… Какие очаровательные ребята все-таки, вот же и взрослые лучше становятся – светлеют! – не уродовали бы только… Снежинки, снежинки! Танец снежинок…
Свет погасили, и только два прожектора, в их лучах светятся фигурки девочек в белых полупрозрачных платьицах, так плавно движутся они, такие лица… Сон, настоящий сон наяву! Какая же красота! Все, все дано нам природой, только бы слушать ее, беречь, не уродовать! Вон и взрослые «поплыли» – задумчивые, спокойные, лица, о чем думают сейчас? О своем детстве военном, послевоенном? Об утраченном времени? О непережитом?… Красота… Не ради таких ли вот минут мы и живем, только в них и смысл – свобода, достоинство, красота! Сказка… Белые платья, голубые лучи… Музыка…
Все. Кончился праздник. Уходят. Хорошо было, и поработал хорошо, устал немножко, жарко здесь все-таки, а еще эта сбруя, лампа-вспышка тяжелая. Сейчас поодиночке, да еще и группами, наверное…
– Да-да, пожалуйста. Хотите всю группу? Вот здесь, пожалуйста, давайте построим в два, нет в три ряда. Скамеечку надо поставить. Так, молодцы, ребята, хорошо… Ну, а теперь я посмотрю, кто лучше смеется, мальчики или девочки? Ах, молодцы, прямо и не знаю, кто лучше… Пожалуй, девочки лучше сейчас, мальчики, не отставайте! Вот это отлично, молодцы, ребята, умеете… Ну, все, теперь следующая группа…
– Алло! Любовь Васильевна? Здравствуйте. Это Олег Серов, от журнала. Да-да. Как бы нам еще с вами встретиться, чтобы и Лида Грушина тоже… Послезавтра? Хорошо, обязательно позвоню.
– Алло! Нельзя ли попросить следователя Бекасову?
38
Прокуратура района. Самый обыкновенный дом. Первый этаж. Никогда бы не подумал, что здесь решаются судьбы людей. Комната 18. Следователь Бекасова, Анна Николаевна.
– Разрешите?
– Подождите пожалуйста в коридоре, мы сейчас закончим.
Обыкновенный коридор. Присутственный. Рядом на стуле какой-то мужчина, свидетель, видимо. Что ж, подождем. Да, очевидно, свидетель, по какому-то делу. Не дай-то бог вот так по своему делу, если твоя судьба зависит от кого-то. Интересно, а есть ли тут настоящие дела? В основном, наверное, как и везде, текучка, бытовщина, мелочи, проступки мелкие, а не преступления, одним словом – мышиная возня. Страстишки, а не страсти – пьянка, мелкое хулиганство, драка, все мелкое. Женщина следователь, а вот свидетель – мужчина… Ага, выходит.
– Вы ко мне? – сама выглянула.
– Да, к вам. Можно?
– Пожалуйста. Вы от журнала? Садитесь. Ну, так чем же могу быть вам полезна?
Худощавая, подтянутая. Строгий взгляд.
– Понимаете, мне поручили очерк о преступности несовершеннолетних, я хотел бы с вами поговорить.
Легкая вежливая улыбка:
– Ну, что же, очень приятно. Но почему именно со мной?
– Видите ли, я позавчера был в тюрьме, в Детском приемнике, там говорил с Силаковым… Вы ведь ведете его дело?
– Как вы сказали? Силаков? Да, я веду. Ну, и что же?
Улыбки как не было.
– Понимаете, третья судимость, парня теперь надолго могут… Но насколько я понял – да и не только я, воспитатель у них тоже, он очень просил за него. Понимаете, произошло какое-то недоразумение, все как-то очень, ну… нелепо, что ли. Он пошел по пути исправления, член Бригады коммунистического труда и вообще…
– Не понимаю, что вам кажется нелепым?
Теперь уже раздражение, колючий взгляд…
– Что он машину угнал в пьяном виде – это недоразумение, вы считаете? Но ведь так оно и было! Вы его жалеете? Если он пошел по пути исправления, как вы говорите, так надо было втройне быть осторожным. Ни дыхнуть! А он что? Он вам сказал, что перед этим с дружками выпивал?
– Сказал. Но ведь так уж получилось, упросили его – в честь первой зарплаты… У него и в мыслях не было, что до такого дойдет…
Анна Николаевна так и вскинулась:
– Слушайте, вот если вы не хотите выпивать, вас можно заставить? А? Вот вам, допустим, нельзя пить, так? Никак нельзя! Можно при этом условии вас напоить и причем до такого состояния, чтобы вы ничего не помнили? Да он врет, что ничего не помнил, врет! Скажите, как это можно в невменяемом состоянии достать ключ, открыть дверь машины, сесть, включить зажигание, поехать, а? А за чем он поехал, вы знаете? Он за баллоном поехал, который у него был спрятан в другом дворе, я же это выяснила! У них не хватило, понимаете? Вот он за ним и поехал, а дружки его пока покупателя искали!
– То есть, за каким баллоном? – не понял я.
– Хорошо, я вам объясню. Вы знаете, за что у него вторая судимость была? За кражу баллонов. Так вот он по старой памяти и решил… Этот баллон у него уже лежал спрятанный! Он его еще раньше украл и припрятал. В трезвом виде. На всякий случай. Поняли? Заметьте – сознательно. А в пьяном виде за ним поехал. Им не хватило, они и решили баллон продать. Вот и вся картина. А вы – нечаянно!
Это была новость. Силаков не сказал про баллон, который он заранее припрятал. Это была неприятная новость. Я молчал.
– Зря вы им верите, товарищ, – продолжала тем временем Бекасова. – Я вообще-то вас понимаю. Я бы тоже рада им верить, так ведь и жить легче, с верой во всех людей! Да нельзя. Ничего не поделаешь! Есть и такие, в которых верить нельзя, к сожалению. И тут уж ничего не изменишь. Обычай такой у них первую получку обмывать, верно. Ну и что же, что обычай? Не до обычая должно бы уж. Ведь две судимости у него! Да, на все у них всегда причины найдутся и оправдания, это уж я изучила, будьте уверены. То обычай, то еще что-нибудь – праздник, например, случай какой-то особенный, то кто-то очень попросил или пригрозил – они всегда вам объяснят, оправдаются. А сами они, конечно же, не виноваты никогда! Никогда не виноваты ни в чем! Другие, но не они. Я за свои восемь лет такого здесь насмотрелась…
Анна Николаевна помолчала. Потом посмотрела на меня и улыбнулась.
– Я понимаю ваши благородные чувства, – продолжала она. – Я вижу: вы хотите помочь. Правильно. В принципе я вас понимаю. В принципе! Но зачем они врут? Они же без конца врут, вот что самое грустное. Врут и жалуются, когда припрет! А уж если к нам сюда попадут, так тем более. Тут им бы только вывернуться. Тут у них такая изобретательность появляется! Вот и Силаков ваш. Пошел по пути исправления, говорите? Хорошенький путь! Восемнадцати нет, а уже третья судимость, вы только подумайте! Неужели все три случайно, а? Что же дальше-то будет с таким? Если он сам себе не хозяин…
Анна Николаевна опять помолчала. Молчал и я. Только хорошо понимал уже, что припрятанный заранее баллон осложняет дело – умысел получается, и за эту жалкую глупость Силаков, скорее всего, и получит не один год колонии. Глупость какая-то опять. Всего один баллон. И – судьба молодого парня… Сколько таких баллонов губится от безалаберности, тупости, бесхозяйственности властей. А тут… И все-таки что-то неприятное во всем этом. Правильно сказала Анна Николаевна: если сам себе не хозяин…
– Не так все просто, дорогой товарищ, одной гуманностью дела не решишь, – продолжала она теперь спокойно. – Смотрите, сколько у нас всякого предпринимается: и шефство, и на поруки, и условно-досрочное, и воспитатели-наставники по месту работы! Государство идет навстречу! Кое-кто исправляется, верно. Кто хочет. А Силаков ваш… желания нет! Его собственного желания нет, в этом все дело! Страх есть, испуг. Может быть даже и раскаяние иногда. Бывает… А вот желания быть человеком нет – самого главного нет! А если этого нет, то хоть кол на голове теши – ничего не поделаешь, ничего не исправишь! Да и слишком далеко зашло уже у Силакова: семнадцать с половиной лет парню, а третья судимость! И разве ему навстречу не шли? Шли, может быть даже слишком шли, в том-то и дело! Он и привык. Нет уж, когда нужно – мы наказываем. И правильно! Гуманность иной раз гораздо больше во вред, чем строгость. Тут, если уж разбираться по-настоящему, то получается, что мы Силакова как раз гуманностью и погубили. Вот так.