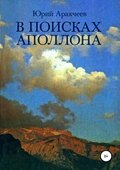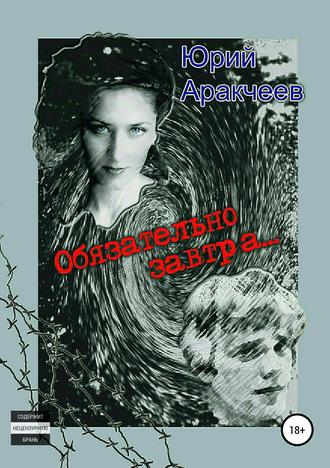
Юрий Сергеевич Аракчеев
Обязательно завтра
Из тебя, Зайцев, из нас… Из большинства – да, да, сделают редакторов, которые будут гробить других, потому что сами не понимают, не слышат, не могут, не хотят, боятся, ах, Зайцев, ты, может быть, и неплохой человек, но зачем же ты лезешь, тебе что, деньги нужны, да? деньги? За лживую исповедь – деньги? За дешевку – деньги? А, извини, ты, может быть, от души хочешь помочь человечеству, на горло собственной песне наступаешь, «как Маяковский» – ты хочешь проповедовать великие наши идеи – так, да? Партия велела? Пишешь не о том, что думаешь, а – что нужно, да? А кому нужно, ты не задумывался, Зайцев? Две копейки взаймы – это проповедь идеи, да? Праздничный номер стенной газеты, где будет написано неизвестно что – скорее всего, прописная мораль и холуйство перед властями – это борьба? А как с тем, чтобы женщины, да и мужчины, не продавали себя, чтоб преступлений не было, войн не было, чтоб люди лучше стали – как с этим, Зайцев, что ты думаешь по этому поводу? А, минутку, минутку… Может быть ты… Может быть, ты и на самом деле так думаешь – как пишешь? Может быть, ты на самом деле такой, искренне? Ты хороший, ты безобидный, ты спокойный, ты «толерантный», как теперь говорят, у тебя нет претензий ни к кому, ни к чему, все хорошо, тебя не надо трогать, ты – «за»… Но я-то, но я-то почему должен слушать, а потом еще и высказываться об этой муре, мне скучно, ну тебя к черту, я домой хочу, о, боже мой, домой, домой, скорее…
И вот результат. Рассказы студента Литературного института – Зайцева. В них нет суффиксов «вша» и «щий» (так рекомендовал М.Горький), нет «сумбура» (так указывали очень многие наши учителя, чтоб было ясно все, конечно, народу), нет просторечных выражений и профессиональных терминов (очень многие редакторы возражают), нет длинных периодов и бесконечных «чтобы» и «потому что» (как у «архаичного» Л.Толстого), нет «телеграфного стиля» (Хэмингуэй), нет длинной и утомительной «необработанности» (Ф.Достоевский), нет «заумности» (Фолкнер), нет темы лагерей, нет секса, нет идейных ошибок и заблуждений, нет… нет… нет…
Они лаконичны. Правильны. Идейно выдержаны. Они – есть!
– Ну, товарищи, кто хочет высказаться? – тяжело вздохнув, спрашивает руководительница.
Зайцев сидит красный, потупившись. Он ждет. Он мучился, создавая свои шедевры, может быть, не спал ночей. Шутка ли: добиться того, чтобы в рассказах не было ни того, другого, третьего, пятого, десятого… И чтобы в то же самое время они все-таки были. Адова работа. И теперь Зайцев ждет решения своей судьбы. Она в наших руках.
Ксения Владимировна привыкла к пассивности «семинаристов», и она вызывает нас по очереди. Как в школе.
– Товарищ Чашкин, – обрушивается на первую жертву указующий перст. – Ваше мнение?
«Что говорить? Как оценить?» – лихорадочно думает Чашкин, и это прямо-таки читается на его мгновенно покрасневшем лице. Он быстро двигает перед собой ручку, листки с записями, встает…
Чашкин, Герой Советского Союза, второкурсник. Сорок лет с гаком. После войны провел несколько лет в лагерях. Реабилитирован и награжден. В невропатологической практике есть такая операция: лоботомия. Через глазницу, стараясь не повредить глаз, вводят скальпель в лобный отдел мозга и наугад отсекают лобные доли – вместилище интеллекта – от полушарий. Человек после этого становится очень спокойным. Безобидным. Чашкину не делали лоботомию. Его просто подержали в лагерях. За анекдот. Или за то, что, проявляя героизм, вышел из немецкого окружения на войне. Скорее – второе, конечно, – за анекдот теперь бы не наградили. Надо отдать ему должное – Чашкин не пессимист. Он любит пошутить, посмеяться. Он очень добрый. И рассказы его оптимистические и добрые. На пользу. Не о лагерях, конечно. И не о чем-нибудь этаком. Просто оптимистические. Как у Зайцева. Как у многих из нас. О нашей счастливой, безоблачной жизни. Где все люди такие хорошие, такие добрые, отзывчивые. Где навсегда ликвидирован антагонизм классов, где нет никакой почвы для преступлений, где все главные проблемы решены надолго вперед, где – «стабильность»… Лицо Чашкина – большое, отечное, доброе, с расплывшимся носом и маленькими красными глазками, очень похожее на голову большой старой мыши. Жалко его, конечно, жалко, но зачем же он… Да, он не рвется читать на семинаре свои рассказы – чувство реальности у него все же осталось… – но сейчас ему все равно нужно выступить, необходимо. Таков порядок. Так положено, и если не будешь выступать, можешь не получить зачет. А зачеты всем нужны, потому что все хотят закончить институт и иметь диплом о высшем образовании. Чтобы работать в редакции, например. И сейчас Чашкину нужно выступить, необходимо. И высказать свое мнение. Свое. Он выступает первым, и сослаться не на кого. Хорошо тем, кто после. Можно так сказать: здесь уже обо всем говорили, я присоединяюсь к мнению предыдущих товарищей… Но Чашкин первый, и ему некуда деться. Выбор преподавателя – пал!
Выступает товарищ Чашкин!
– В рассказе… В первом рассказе автор показал, как у рабочих пробуждается рабочая совесть… – мямлит Герой Советского Союза. – На примере… На том примере из жизни, как они получают газету у киоска. Это маленькая новелла, набросок. В языке, правда, есть неточности, но, в общем, рассказ хорош. Добрый рассказ, полезный… Другой рассказ…
Постепенно Чашкин воодушевляется тем, что он говорит и тем, что никто не перебивает его, он уже как бы входит в роль – это ведь только начать трудно, потом легче гораздо, как во всем… Но когда Чашкин кончает, то роль как бы сходит с него, и, красный, распаренный, чувствующий себя, судя по выражению его лица, ужасно, он робко поглядывает на нас, следующих: «Что, может быть, я не так сказал? Поправьте меня… Я не хотел. Что делать, ребята. Но я старался говорить то, что думал, честно, я ведь не сказал ничего такого, чтобы…»
А ведь звание Героя не присуждают зря. Тем более реабилитированным. Какой же подвиг совершил он когда-то? И что произошло с ним теперь? И что же – о, господи! – что же происходит со всеми нами, думаю я опять с горечью…
– У вас все, товарищ Чашкин? – вздыхая и с искренним сочувствием глядя на Чашкина, спрашивает руководительница.
– Да, у меня все, как будто… – растерянно мямлит Герой и садится.
– Кто еще хочет высказаться, товарищи? – привычно, стараясь вложить бодрость в свой вопрос, обращается ко всем Ксения Владимировна. – Ну, тогда Вы, товарищ Тапкин.
Медленно поднимается со своего места Тапкин – высокий бородатый чуваш.
– Нуу… В этих вот рассказах, эта… Автор хотел показать… Сказать о рабочей совести, так? Мне – эта – понятна идея рассказов, верно? Но вот как она, эта, выражена… Тут не всегда все…
Ему тоже под сорок. Пишет он хорошо, гораздо лучше, чем говорит – хороший стиль, хорошие описания природы, есть образы, настроение. Был на фронте, многое знает. И довольно неглуп. Но тоже пишет «оптимистически». Вынужден. Иначе в редакциях не возьмут.
…В пустыне идет караван верблюдов, и мимо устало шагающего путника тянется однообразная волнистая равнина. Кричи, сколько хочешь – голос твой, тусклый и слабый в этой жаре, проглотят сухие пески, разве только верблюды поднимут свои печальные головы, но тут же вновь опустят их. Жара, как хочется пить, боже. Искупаться бы. Завтра среда. Позвонить Лоре? Часов в двенадцать?… Нет, после обеда лучше. Да, часа в два, в три.
– В языке очень много неточностей. Я сначала пытался записывать, но потом просто устал. Мне кажется, Зайцеву нужно еще как следует поработать над этими рассказами.
«Рассказами», господи! Это – Круглов. Не по существу, но хоть не хвалит. Хороший парень Круглов. И на том спасибо. Огромное. Но что я скажу? Что? Зайцев – маленький, сжавшийся в комочек, сидит, как затравленный зверь. Зверек. Зайцев.
Ты, Россия моя, великомученица! – по ходу дела сочиняю я, чтобы хоть чем-то отвлечься. – В имени светлом твоем грезится-чудится…Что-то холодное, что-то русалочье, странно-красивое, сказочное… Ты, Россия, Россия моя, женщины сильные…
Мы все были в положении Зайцева. И я, разумеется, тоже. На первом же курсе, на втором, кажется, «обсуждении» читали мои рассказы. О природе, о рыбной ловле, о девушках, о красоте. Они не были опубликованы – из журналов их мне возвращали, говоря, что они якобы «ни о чем», – но именно за них – в рукописи – меня приняли в Литинститут. Хотя творческий конкурс был – 40 человек на место. Весьма одобрил их завкафедрой творчества, который вскоре умер, и один из преподавателей, но он вел другой семинар. На «обсуждении» же мои рассказы раздраконили под чистую, совершенно так же, как журнальные редакторы, утверждая, что они «ни о чем», что красота природы и девушек – это несерьезно. Я настолько был ошарашен, что на самом деле хотел из института уйти. Но потом решил, что нужно наращивать носорожью кожу и рискнул все же послать на кафедру творчества одну свою повесть – для «зачета по творчеству». Хотя повесть тоже была о рыбной ловле и красоте. Зачет мне поставили, и я стал наращивать кожу. Теперь же я написал повесть о заводской жизни – разумеется, тоже по-своему, – но ее здесь пока что не обсуждали.
– Ну, а Вы, товарищ Серов? Ваше мнение? – Голос преподавательницы настиг и меня.
Внимание!
– Мне рассказы Зайцева не понравились. Очень мелко все. Неинтересно. Но здесь, собственно, все уже сказали. Я думаю, не стоит повторяться. Дело в том, что все это не серьезно. Мне кажется, о таком писать не стоит.
Уфф. Я сажусь. Я выпалил свои слова в несколько секунд. Зайцев теперь будет ненавидеть меня несколько месяцев. Как минимум. Впрочем, это настолько не имеет значения, что… В имени светлом твоем грезится-чудится… Грезится-чудится… Ну, ну. Ну же. Хватит. И колышется яркое знамя…
– Вы хотите что-то сказать, Соловко?
– Да я, собственно, несколько наблюдений. По существу рассказы хорошие, но вот язык…
В имени светлом твоем… Ну же, ну. Хватит, господи боже мой, из последних сил про себя твержу я..
– Я согласен с выступавшими, да, – мямлит Зайцев, и краска постепенно сходит с его лица. – Надо еще поработать над этими рассказами, я понял. Я недавно написал эти рассказы… Буду над ними работать…
«Рассказы»! О, господи. Он все-таки честный. Он признает критику. Он продолжит работу. Он не боится трудностей. Он продолжит нелегкий литературный труд. Простой рабочий парень, трудолюбивый и талантливый. Милый парнишка. Биография проста и чиста. Как и голова.
– А что, случаи такие были? Вы описали то, что было, из жизни? – спрашивает Ксения Владимировна.
Да, при всем, при всем у нас еще одно непреложное правило: надо, чтобы все описанное было «из жизни».
– Да, – чуть-чуть светлея лицом, говорит Зайцев, – это все было на самом деле, я видел… Из жизни.
В имени светлом твоем. В имени светлом твоем. Люблю, когда в садах Лицея… Нет, не так. В те дни, когда в садах Лицея… Друзья, прекрасен наш союз… Синь в окне. Темнеет. Синь в окне. Синеет небо. А за окном синеет небо, накрапывает, и вот-вот… «А за окном желтеет глина, накрапывает, и вот-вот»… Хватит же, черт побери! Хватит. «Меня попутная машина сигналом долгим позовет». «Но мой товарищ, заугрюмев, коробку – видно свет не мил! – тупым ножом сломал в раздумье, и чайке – крылья перебил… И все. А были годы, годы. Все звонкие, как на подбор»… Это – стихи поэта Соколова, я их помнил…
– Слушай, Веретенников, ну хватит же, некогда ведь всем…
То костры Революции…
– Так, товарищи. Мне только приходится суммировать сказанное вами. Рассказы Зайцева очень сыры…
Мы шли под грохот канонады… Мы смерти смотрели в лицо… Ну, хватит же. Сколько можно? Ну. Ну же. Сидят, не решается никто. И я сижу. Сейчас если опять Веретенников… Ну, хоть бы встали все разом. То костры Революции… Баррикады. Ветренные солнечные баррикады… О, Господи, как же им всем не стыдно, думаю с болью я, будущий писатель и журналист Олег Серов…
– На следующее занятие… Кто у нас читает следующий? Вы, товарищ Яруллин? Не готово? А как у Вас, товарищ Серов?
– Пожалуйста.
– Ну, пожалуйста. Значит, Вы. У Вас что, рассказ?
– Нет, повесть. Если успею. Постараюсь успеть. Мне допечатать немного осталось.
– Да? Тогда, может быть, Вы через раз, а на следующий вторник Вы, товарищ Соловко?
– У меня, Ксения Владимировна, есть один рассказ. Я, пожалуй, его принесу…
– Хорошо. Так мы и наметим. Читает в следующий раз Соловко. А Вы, товарищ Серов, через вторник, да?
– Да.
– Ну так. До свиданья, товарищи.
– До свиданья, Ксения Владимировна!
Аминь.
В коридоре Литинститута – заметка:
«С октября официально открыты Литературные курсы. Не было проведено пока ни одного занятия. А существуют уже занятые должности с окладами:
Проректор_________________500 руб.
Зав. кафедрой творчества__450 руб.
Нач. уч. части____________150 руб.
Комитет содействия партгосконтролю».
17
– Алло, Гребневу Ларису, будьте любезны.
Тишина.
– Я слушаю.
– Лора, ты? Здравствуй. Олег говорит.
– Здравствуй.
– Ну, как ты поживаешь?
– Так. Ничего.
– Я хочу тебя видеть.
– Неужели?
– Конечно, хочу. Ей-богу. Очень хочу. Соскучился, понимаешь.
– И я.
– Это правда? Так когда же мы встретимся, Лора? Когда ты сможешь? Я…
– Завтра хочешь?
– Завтра? Слушай, извини. Какая неудача! Понимаешь, у меня завтра собрание Актива… Ну, собрание по борьбе… Понимаешь, я тебе не говорил. Я же журналист отчасти, и… Короче, мне поручили очерк. О преступности несовершеннолетних. В журнале. И сейчас как раз вот… Очень важное собрание. Завтра на Ленинских горах. Обязательно нужно быть.
– Понимаю, понимаю, какое собрание.
– Да нет, правда же. На самом деле. Давай в другой день какой-нибудь? Любой! Хорошо? Ну, хоть послезавтра в пятницу. Или в субботу… Я правда очень хочу тебя видеть…
– В субботу я точно не смогу. А в пятницу ты позвони. Попробуем.
– Конечно, обязательно позвоню. Как твоя ангина?
– Ничего, проходит.
– Слава богу.
– Ну, пока, да?
– Пока, Лор, до свиданья. Мне очень жаль, что завтра я тебя не увижу. Очень.
– Конечно, конечно, раз собрание.
Глупости какие-то. Но все-таки.
Да, конечно, я понимал. И не такой уж «мышкой» я был. И не Робертом Коном. И даже Антона я в какой-то степени понимал. И «семинаристов» наших литинститутских. Они по-своему воспринимали жизнь, и они не хотели «биться лбом в стену», понятно! Но я хотел ЖИТЬ! Жить, а не подчиняться на каждом шагу «обстоятельствам», которые жить по-настоящему не давали. Я верил в жизнь и видел, точнее – чувствовал, что жизнь может быть гораздо лучше, чем порой кажется. «Мы сами строим свои тюрьмы» – так называется одна из картин Святослава Рериха. И я с этим согласен!
Я верил. Верил! Верил! Несмотря ни на что.
Лора? Но ведь она откликнулась мне. Симпатия наша – пусть даже и не любовь – взаимна! Даже Антон не поверил, что она была у меня. Это я виноват, что не смог показать ей пусть не высший, но все же класс. Ведь бывало у меня… Антон несправедлив к ней, он вообще очень разочаровал меня в последнее время, но он прав в том, что я действительно не такой уж для нее подарок. Денег нет, машины нет, комната в коммуналке и далеко не блеск, в ресторан не могу – и не хочу! – вести. А она ведь на самом деле красивая, отличная женщина. Если бы хоть настоящий секс от меня… Так что понятна ее холодность. Однако…
Все будет хорошо! Я напишу очерк, его напечатают в журнале, а там, глядишь, и рассказы пойдут, повести, и еще очерки и статьи. И дело, конечно, не только в Лоре, а в жизни вообще. Вот завтра и на самом деле большое собрание на Ленинских горах, во Дворце пионеров. «Актив» на тему борьбы с преступностью несовершеннолетних. Алик Амелин сказал, что там будет много известных людей. Будут у меня знакомства, будут материалы не только для очерков. Я верю, верю в себя!
18
«Актив». Великолепный новый Дворец Пионеров, огромный красивый зал…
Всеобщее возбуждение, несмотря на невеселую тему собрания, здесь многие, оказывается, друг друга знают – разговоры, приветствия, смех… Да и я ведь не просто на птичьих правах, а – корреспондент журнала, вхожий в Горком, с билетом не каким-нибудь, а №006, лично знакомый с Амелиным, который здесь явно один из заправил, от которого зависело, кого приглашать, кого нет… И действительно пришли уважаемые, известные люди, солидные пожилые мужчины и дамы – «Общественность»: Прокурор Москвы, Начальник МУРа, известные педагоги, артисты, спортсмены, генералы милиции в формах и военные генералы, но в основном все же молодежь, парни и девушки, комсомольцы-шефы, девушки есть симпатичные, одетые как на праздник – улыбки, блестящие глаза, и в зале даже песни стихийно…
Да, верю я, верю! Стараются они, на самом деле стараются. Есть ради чего!
И какая же это радость – убедиться, что ты не один, что так много хороших людей думают о том же, заботятся о том же, мы все, выходит, – одна семья, ну, уж теперь-то мы конечно, возьмемся как следует… Вот в чем преимущество нашего строя, социалистического – вот так, все вместе, в одном строю! Это не какой-то там капитализм, где человек человеку волк. «Мир, труд, свобода, равенство, братство и счастье всех людей» Всех!
И я оглядывался по сторонам в искреннем воодушевлении и радости: как хорошо здесь оказывается, как празднично, дружно и добро! Вместе! Одна семья…
Уселись – зал полон, – прозвенел звонок. Как в театре… Свет погас, раздвинулся занавес, и стал виден экран, а на нем титры фильма. Публицистический, документальный фильм, и называется он так – «Замки». То есть, запоры. С киноаппаратом по городу.
Большой замок крупным планом. Это – замок на воротах парка. Детского парка. Рядом – скучающие ребята. Еще замок, поменьше – у входа на карусель в парке… Сразу два замка, большой и маленький, камера отъезжает, поднимается выше, и видна вывеска: «Клуб». То есть «замкнутый» клуб. Огромный амбарный замок на воротах стадиона. Замки, замки. Запреты…
А в зале аплодисменты. Правда! Это действительно – правда! Все лучшее – под замком…
Опять детский парк, открытый. У входа – ларек «Пиво – воды». Толпа веселых мужчин. Среди них пробираются озабоченный мальчик и серьезная девочка лет семи…
Во дворе мужики лихо забивают «козла». Рядом на лавочке – внимательные дети… Так взрослые «воспитывают» детей.
Танцы в парке, весьма темпераментные. Над площадкой часы: без пяти одиннадцать вечера. Спать пора, а среди танцующих снуют ребятишки лет семи-десяти – пришли с родителями, которым хочется потанцевать…
Аплодисменты, аплодисменты и негодующий, взволнованный шепот в зале. Невеселые картины, печальные! Но – правда…
Магазин. Малыш в большой кепке тянется к вершине стеклянного прилавка. В руке у него – пустая бутылка и деньги. Какой-то взрослый помогает ему. Довольный малыш, прижимая поллитровку, торопится домой… К папе? Или к маме?
Экран погас, вспыхнул свет в зале, и грянули аплодисменты.
Все еще раз вспомнили, зачем здесь собрались, и в сознании важности дела и собственной значимости, переглядывались оживленно: «Хороший фильм, верно? Действительно, безобразие! Но мы возьмемся!»
Я сидел в одном из первых рядов, держа в руках наготове тетрадь и авторучку, воодушевленный, в сознании важности, нужности происходящего. И своего деятельного участия в нем. В передних рядах сидели еще журналисты.
Конечно, личные мои проблемы не ушли, конечно и тут ни на миг не оставляла все та же и та же боль, Лора, но… Как не ощутить тут причастность свою к всеобщему благородному делу, во имя которого собралось столько хороших людей! Да, мы – вместе, и мы – возьмемся…
На трибуне, около длинного стола президиума появился Алик Амелин. В этой обстановке он выглядел неэффектно: слегка сутулящийся, лысеющий, скромный. Хотя и не робкий. Он принялся медленно читать список президиума, приглашая его членов на сцену.
Большой и грузный начальник Московского Уголовного Розыска, знаменитого МУРа, при общем внимании и осторожных хлопках занял место за длинным столом одним из первых. Трехкратная чемпионка мира по конькам… Воспитательница, «комсомольский шеф» – рыжеволосая полная девушка, Лида Грушина, с которой предстояла мне встреча (о ней восторженно отзывался Алик Амелин)… Живой персонаж «Педагогической поэмы» Макаренко – крепкий крупный мужчина, теперь директор детского дома…
Почти без перерыва звучали аплодисменты, атмосфера в зале становилась все более оживленной.
Начались выступления, и первым зачитал что-то секретарь Московского Городского комитета комсомола. Он сказал, что фильм о замках, который мы только что видели, «закрытый» и не будет выпущен на экраны города. Это вызвало общий досадный вздох и множество возгласов: «Почему?! Почему?!» Секретарь только усмехнулся, но не ответил. А потом зачитал некоторые цифры о преступлениях несовершеннолетних. Невеселая картина…
И появился на трибуне начальник МУРа. Большой, уверенный в себе, в форме полковника.
Зал затих.
– Я, товарищи, много говорить не буду. Вот, значит, коротенькая справка. Секретарь назвал вам некоторые цифры, а я добавлю. Среди всех случаев преступлений подросткам принадлежит одна треть. Убийства, грабежи, драки с увечьями, изнасилования, угоны автомашин, наркомания…
В праздничном свете люстр все это звучало не очень серьезно, как на спектакле или в детективном романе, но в то же время чувствовалось: слушают его, затаив дыхание, с острым, щекочущим интересом. «Марихуана… план… морфий… сожительство девочек со взрослыми мужчинами…» Стояла напряженная тишина. Полковник чувствовал интерес зала. На трибуне большого и красивого собрания он держался, пожалуй, слишком раскованно, чуть ли не развязно.
Он закончил речь и сел под бурные аплодисменты – с облегчением переводя дыхание, аплодировали ему люди. И показалось мне, что тень брезгливости появилась вдруг на усталом его лице. Или лишь показалось?
Следом за полковником на трибуну поднялся второй секретарь одного из райкомов комсомола города, невысокий черненький паренек. Он взволнованно заговорил о том, как они в своем районе «нашли главный принцип работы».
– Пять ножевых ранений девушке нанес восемнадцатилетний парень, – возбужденно говорил черненький. – Девушка умерла. Мы расследовали этот случай. Совершенно ясно: можно было предотвратить. Ничего не стоило вмешаться – парень давно уже был на грани. Проглядели просто, вовремя не поинтересовались его судьбой, не помогли…
Он говорил о «детском приемнике», где держат подследственных несовершеннолетних, о том, как шефы-комсомольцы посетили этот «приемник», увидели ребят, остриженных наголо, бледных… Именно тогда поняли, как важна их работа. «Нам формализм мешает» – с горечью говорил выступающий.
Только на миг оторвался я от своей тетради. Огляделся. Проняло ведь, наверное, каждого – это не просто эффектные цифры, это – дело…
И тут…
С удивлением увидел я, что капитан милиции в форме рядом со мной снисходительно улыбается, насмешливо поглядывая на взволнованного выступающего. Два соседа впереди о чем-то беседуют вполголоса, с соседних рядов тоже слышался говорок, кто-то подал возмущенную реплику… В чем дело? Ах, ну да. Паренек критиковал «комсомольских шефов» за формализм и показуху, а в зале как раз много комсомольских «шефов»…
– Да, шефство себя не оправдывает, мы это хорошо поняли, – волнуясь, говорил паренек. – Задумано оно, может быть, и правильно, а вот с выполнением никак не получается, «галочки» только ставим. Заинтересованности истинной нет, на одной сознательности далеко не уедешь. А главное: оно не решает проблему, шефы занимаются частностями. А проблема, товарищи, очень серьезна! Но мы нашли принцип… Тут много можно говорить, но я коротко. Клубы нужно строить по месту жительства, много клубов. Ребятам вечером некуда пойти, нечем заняться, негде себя проявить – вот и отираются по подворотням. А вот если бы такой клуб, куда каждый может прийти…
Верно! Верно! – чуть не закричал я. Конечно, немедленно вспомнил Штейнберга – «Клуб Витьки Иванова», и «Суд над равнодушием» вспомнился, и идиотский РОМ с Рахимом и Шамилем во главе, и визит в редакцию к Алексееву… Дело говорит этот парень, дело! Обязательно встретиться с ним, вот же еще он, настоящий единомышленник!
– Строительство спортплощадок… Деньги нужно разрешить собирать с жильцов… Контакт с милицией…
Однако когда парень закончил и сходил с трибуны, аплодисменты были до неприличия жидкими.
– Выступает студент факультета Журналистики МГУ, внештатный корреспондент газеты, Геннадий Голиков! – объявил председатель, и из первых рядов партера выскочил молодой человек лет двадцати пяти. Легко, по-спортивному он взбежал по ступенькам на сцену, и его бледное храброе лицо показалось над трибуной.
– Извините, но я хочу рассказать про себя, потому что… Чтобы такое не повторялось!
Голос паренька прозвучал так взволнованно, лицо его было так искренне, что зал вздохнул с симпатией и облегчением. Интересно, о чем он?
– Я… Моя мать посмертно реабилитирована, – очень волнуясь заговорил парнишка. – Отец… Отца не помню. Когда началась война, мы эвакуировались из Москвы с теткой. Провинциальный город, в школе – скучища зеленая, тоска, рядом – улица. Конечно, теперь-то я понимаю, они – трусы! Воровская романтика – лживая! А тогда… Братство, товарищество, удаль лихих пацанов! Полет ангела при лунном свете, так мне тогда казалось…
Полет ангела? Интересно… Геннадий Голиков проглатывал слова, сбивался, но зал слушал с сочувствием и внимательно.
– В первый раз дали год за кражу. Я даже обрадовался – новые впечатления. 16 лет, романтика… Попал в воровскую колонию. «Воры в законе», не работали… Покатился по наклонной дорожке. Вышел через год и тут же опять попал – двух месяцев не прошло. С карманных краж перешел на квартирные – квалификацию повысил! Интересно… Поймали, десять лет дали опять… Работники МУРа убеждали, говорили: придешь к нам еще за советом. Не верил… А в лагере мы работали! На лесоповале, в тайге! Трудно – мошка, гнус. Уставали до смерти. Это ведь я впервые в жизни работал! Романтика труда – как у Джека Лондона! По настоящему работали. Я по две с половиной нормы выдавал, понял, что такое труд. Впервые в жизни ведь понял! Нужно искать работу, настоящую, свою… Труд – вот чего мне не хватало! Воровская жизнь – это не полет ангела при лунном свете, как мне казалось. Это – ложь! Я понял, наконец… Товарищи, неужели восемь лет жизни нужно выкинуть, чтобы это понять?! Со своей стороны я готов приложить все силы, я сделаю все, чтобы такие биографии не повторялись…
Вот уж тут – шквал аплодисментов. Полное единодушие зала! Романтика!
Объявили выступление девушки, комсомольского шефа – это ее роль, выходит, отвергал черненький? Но вот она идет выступать, пробирается между рядами, миловидная, очень женственная, стройная фигурка, да еще и мини-юбка, длинные ноги… Лет двадцать, не больше. Очаровательная, она поднимается на трибуну в своей тесной короткой юбочке, в белой блузке, под которой вздрагивают при каждом шаге высокие полные груди, а густые золотистые волосы ее уложены в кокетливую прическу. Это она – шеф? Как приятно…
Я смотрел внимательно по сторонам, видел оживленные глаза своего соседа, капитана милиции, улыбки других, кто поблизости. Ну да, ну да, как приятно – молодая, привлекательная девушка – и вдруг комсомольский шеф. Красота и женственность действуют безотказно!
Девушка заговорила грудным взволнованным голосом, искренне:
– Вот у нас был Саша Локтюшин, семнадцать лет… Вернулся из колонии, на работу не берут. Некоторым нравится ничего не делать, а ему работать необходимо, потому что…
Нежный, искренний, очень женственный голос звучал, как музыка, и люди, слушая, улыбались, хотя говорила она очень невеселые вещи.
Аплодисменты, аплодисменты…
Следующим, очень эффектным номером было выступление персонажа «Педагогической поэмы» Макаренко, бывшего беспризорника, а теперь вполне «перековавшегося», ставшего даже директором детского дома. Невысокий, бодрый мужчина моментально овладел аудиторией.
– Макаренко отдал время, здоровье, жизнь отдал он своей работе! Личную жизнь – тоже! У нас же учителя не пользуются всеми возможностями. Отработал «от» и «до» и ушел. Макаренко говорил: «я не дожил до такого разврата, чтобы пользоваться отпусками». Не дожил до такого разврата! Он ни разу не бывал в отпуске! А наши учителя как?
Бурно аплодировал ему зал…
Правда, он ни словом не обмолвился о том, какую зарплату учителя получают за свой труд и есть ли у них возможность «пользоваться всеми возможностями», и почему, собственно, идти в законный отпуск – разврат? Есть ли, кстати, учителя среди тех, кто в зале? – думал я уже с ощущением грусти. За что они так хлопают ему? Что конкретного, дельного он предложил? И почему так не хлопали черненькому пареньку? Неужели и тут – показуха? Как-то все уж очень театрально…
И тут произошло неожиданное.
– Выступает завсектором ЦК комсомола по пионерской работе товарищ Шишко! – объявил председатель.
Коренастый, энергичный человек, уверенно, по-хозяйски вышел на сцену и вдруг… начал браниться! Нет, он не произносил откровенно бранных слов, но тон его выступления был настолько безапелляционным, самоуверенным, не терпящим никаких возражений, хозяйским, рассерженным, что зал в недоумении замер. Зачем это он? За что? Портит праздник…
Послышались несогласные возгласы, и Шишко слегка сбавил тон. Но все же его выступление сильно отличалось от предыдущих. Было даже такое впечатление, что на сцену вышел персонаж «неперековавшийся» – только что из зоны, из лагеря. Поначалу даже трудно было понять, чего он хочет, казалось, он просто ругается, отводит душу, браня всех, сидящих в зале.
– Куда это годится?! – возмущался невысокий человек, голова которого едва была видна над трибуной. – Дали клич на целину – поехали дружно! На стройки коммунизма тоже отправились, работают хорошо! А вот с преступностью до сих пор никак не покончим! Почему же это? Ведь все условия для возникновения преступности у нас давно ликвидированы, так? А преступность – не хочется даже говорить – растет! Почему, спрашивается?! Плохо, очень плохо работаем, товарищи комсомольцы, вот что я вам скажу! Головотяпство, бездушие, формализм в нашей работе пока процветают. Да!
Самое интересное, что на самом деле этот человек был, конечно же, прав. Но вот тон и тембр его голоса настолько противоречили всему, что было на празднике до сих пор, что и действительно думалось: за что? Почему он издевается над благонамеренным собранием?
– Критиканство! Дача нарядов, а не самостоятельное выполнение – вот чем мы занимаемся с вами! – продолжал тем временем выступающий. – Боимся школу, как черт ладана!
На миг он замолчал но так, видно, понравилось ему сказанное, что, запнувшись, он повторил со смаком: